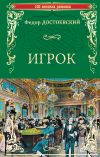Текст книги "Тёмный путь"
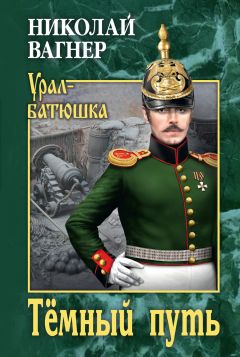
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
XXXII
– Вы, кажется, из Грозной приехали?
– Да. Позвольте познакомиться. Поручик Квашников.
– Очень приятно. А это у нас сосланный, – указал на меня Красковский и назвал мою фамилию.
– Ну, что у вас там? Ничего не слыхать?
– Ничего! А вот у вас, кажется, того… собираются.
– Н-нет. Помилуйте… мы здесь живем, как у Христа за пазухой.
– Нет, серьезно. Я слышал, что на вас собираются сделать нападение, что даже комендант крепости доносил об этом в штаб, но оттуда ответили, что им лучше известно и что никакого нападения не будет.
– Это Анфилатач доносил? Ха! ха! ха! Помилуйте, разве можно верить его донесениям.
– Я не спорю. Может быть, и нельзя. Но штаб вообще не верит никаким донесениям, а вы согласитесь, что нельзя же отвечать так: мы-де лучше вас знаем! Вы здесь живете: кому лучше – вам или штабу – знать, что делается кругом вас.
– Это совершенно верно. Но донесение Анфилатыча… Ха! ха! ха!
– Может быть, оно и неверно, но знаете ли… Я вот послан за порохом. И, признаюсь, сам напросился на это поручение, но… я подожду еще порох везти. Потому, во-первых, что порох вообще лакомая вещь, а во-вторых, у меня есть основание предполагать, что все равно нападение будет сделано если не на обоз, то на крепость.
– Помилуйте! Целых десять лет, больше десяти лет стоит крепость спокойно. Никто, ниоткуда…
– А вдруг?!
– Да у нас даже пушек нет. Не знаю, с пяток каких-то наберется, старых, без лафетов. Да и главный артиллерист наш, командир артиллерии Глушков, и глух, и сед, и ничего не смыслит.
Квашников остановился и молча указал на вершины гор, которые прилегали к нашей крепости.
Крепость стояла на широкой холмистой площадке, а на вершинах гор чуть-чуть белели в сизом тумане два-три аула.
– Разве это мирные аулы? – спросил Квашников, указывая на вершины.
И как бы в ответ на это из одного аула вылетел белый дымок, и вслед за ним послышался глухой слабый звук выстрела.
Из другого аула выехала толпа горцев и тихо, как-то таинственно проехала в соседний аул.
– Если эти аулы вздумают стрелять по крепости, – спросил опять Квашников, – как вы полагаете, будут ли пули попадать в самую ее середину… ну, хоть в то место, где мы стоим теперь?
И вдруг мне, да вероятно и Красковскому, сразу представилось все неудобство нашего положения. Крепость ничего не защищала и сама была открыта всем нападениям.
XXXIII
Квашников и Красковский двинулись, а я остался на месте. Я не мог оторвать глаз от этих аулов, которые там в вышине гордо, повелительно высились над нашими головами.
«А может быть, – думалось мне, – там уже сам Шамиль собрал свои лучшие силы. Положим, наша крепостица не составляет для него особенной важности. Но тем не менее, если он ей овладеет и вырежет 300 человек ее гарнизона, то вся долина маленькой горной речки Алаганки будет в его руках».
Я обернулся направо, как бы ища там спасенья, но направо был форштадт, населенный армянами, грузинами и так называемыми мирными черкесами, которые тем не менее в критическую минуту могли оказаться вовсе не мирными.
В осеннем тумане чуть-чуть белела церковь форштадта, на площади и около нее, очевидно, происходило какое-то движение. Точно муравьи копошились, сновали люди, и медленно двигались арбы.
Я посмотрел кругом на стены крепости, и они мне представились каким-то низеньким забором, сложенным из плитняку. На стенах не было ни пушек, ни солдата, ни даже часовых. Да и нигде, кажется, исключая главных восточных ворот, не было часовых.
Около забора мирно спало несколько солдат. Подле них были остатки маленького костра и на нем котелок. В стороне, около сарайчика, стояли две лошади, положив головы друг к другу на шеи и тихо, как бы спросонья помахивая хвостами. Они также как будто спали. Все напоминало какую-то Обломовку, и везде были явные признаки крепкого, беззаботного обломовского сна.
Опустив голову, я быстро зашагал к Лазуткину.
Я нашел там целую компанию. Кроме четырех дам, было еще человека три их поклонников, офицеров разных полков.
Должно заметить, что из всех этих дам я чувствовал невольную симпатию и уважение к хозяйке дома, Марье Александровой Лазуткиной.
Во-первых, она немножко напоминала мне Лену и не столько лицом, сколько складом необыкновенно доброго и простого характера. Она была несколько ниже и полнее Лены, и лицо у ней было круглое, матово-бледное, с необыкновенно большими, блестящими голубыми глазами. Маленькие, пухленькие губки улыбались всегда и всем кротко и приветливо.
Она была молчалива, апатична, но как скоро что-нибудь ее трогало, то все лицо ее изменялось и делалось необыкновенно восторженным, фанатичным, и слова тогда лились у ней как бы сами собою.
Мне кажется, если бы она жила в древнем Риме во время гонения христиан, то она непременно была бы святой мученицей.
XXXIV
В последнюю неделю моего пребывания в крепости я поверял Марье Александровне все, что происходило в моем сердце. Она уже знала мою любовь к Лене. Она (я был вполне в том уверен) любила мою Лену и всей душой мне сочувствовала.
Раз как-то я пришел к ней «темной бури черней» и горько жаловался на судьбу, на непроходимую скуку, одиночество.
– Послушайте, – спросила она меня, – вы любите Бога?
– Странный вопрос! – сказал я. – Мне кажется, люблю.
– Если вы Его любите, действительно любите больше и выше всего, то все, что кругом нас, все это ничтожно, все это может меняться, умирать, исчезать. Остается одно – наши добрые чувства и наша любовь к Богу.
Я, помню, спросил ее тогда, отчего она не идет в монастырь.
– Оттого, – отвечала она, – что я хочу жить с людьми и любить их.
Как только я вошел к Лазуткиным с расстроенной физиономией, тотчас же Ольга Семеновна Скольчикова закричала:
– Ну! Опять кислый солдат явился!
Марья Александровна протянула мне руку.
– Что с вами? – спросила она. – Какое еще новое или старое горе?
И она крепко пожала мою руку.
– Все тоже.
– Та же хандра с кислым подливом, – определила Ольга Семеновна. – Подите, не хочу с вами здороваться! Пожалуй, еще прокиснешь. – И она отвернулась.
Это была весьма молоденькая дамочка, высокая, стройная брюнетка, с довольно правильным лицом, немного большим грузинским носом и густыми, широкими черными бровями.
Я пожал плечами и молча поздоровался с другими двумя дамами: сонной, вялой немкой, Элоизой Карловной Штейнберг, и с живой, пухленькой хохотушкой Софьей Петровной Гигиной.
– Знаете, господа, что я вам скажу, – обратился я к Винкелю, Корбоносову и Прынскому, – сегодня приехал поручик Квашников из Грозной.
– Знаем, слышали, – сказал Винкель.
– Он полагает, по некоторым данным, что на нашу крепость будет вскоре сделано нападение.
– Неужели! Ах, как я рада! – вскричала Скольчикова, хлопнув в ладоши. – Будет всем занятие, развлечение, а то такая скучища!
– Постой, mа сhere, – перебила ее Марья Александровна. – Это вовсе не шутка. Мы все рискуем быть зарезанными, или нас уведут в плен и продадут туркам.
– Ах, нет! – вскричала испуганно Элоиза Карловна. – Лучше без войны… не надо войны… зачем война! Лучше мирно, с мирными черкесами.
– Ха! ха! ха! – захохотала Софья Петровна. – Так тебя сейчас и спросят: быть войне, или не быть?.. Xa! xa! xa! xa! Сам Шамиль приедет к тебе, ma chère, спросить, воевать ему или нет? Xa! xa! xa! xa! xa!
И она закатилась таким искренним, заразительным смехом, что все захохотали.
XXXV
– Послушайте, – наклонясь ко мне, сказал тихо Прынский. – Зачем вы пугаете дам, и притом, наверно, совершенно понапрасну?
Но Скольчикова услыхала эти слова. И, прежде чем я ответил, подхватила:
– Да! да! Хорошенько его! Как он смеет нас пугать! У! Кислятина!
– Ну! вас-то нечего пугать, – подхватить Корбоносов. – Вы ведь ни чертей, ни святых не боитесь…
– А тараканов боится… ха! ха! ха! Покажите ей черного таракана, в обморок упадет. Ха! ха! ха! ха!
Винкель между тем пустился доказывать, что этот приезжий подпоручик Квашников должен быть порядочный трус и боится за порох, который ему приведется везти.
– Отсюда, – сказал он, – и вышла сказка о воображаемом нападении. Помилуйте! Кругом полумирные черкесы, которые сегодня, завтра изъявят покорность, а тут вдруг нападение.
– А что же, скажите, бал будет? – спросила Марья Александровна.
– Будет, будет непременно, – вскричал Корбоносов, – не далее как послезавтра. Добыли оркестр Т… полка, будет лезгинка, иллюминация, фейерверк.
– Ах, как это весело! Чудо! – вскричала хохотушка и начала прыгать.
– Послушайте, mesdames et messieurs, сделаемте теперь же, сейчас маленькую репетицию.
– С удовольствием, – вскричал Корбоносов и, ловко подскочив к Ольге Семеновне, пригласил ее на кадриль.
Винкель ангажировал хохотушку, Прынский – Элоизу Карловну, а я пригласил Марью Александровну.
– Ха! ха! А кто же будет у нас играть? Ха! ха! ха!
– Я буду играть, – сказала Марья Александровна, – извините меня, – обратилась она ко мне и затем быстро пошла к весьма старому и разбитому фортепьяну, который стоял в углу комнаты.
– А кислый солдат должен танцевать за даму сам с собой, – присудила Скольчикова.
– Ха! ха! ха! ха! Браво! браво! браво! браво! – И хохотушка неистово хлопала в ладоши.
Марья Александровна начала играть кадриль из Цампы (это была модная кадриль в то время), и мы все принялись танцевать под неудержимый хохот Софьи Петровны.
XXXVI
У Лазуткиных я обедал и просидел часов до семи. Явился Красковский и еще один офицер – Ленштуков. Разговор опять повернул на возможность нападения, но Красковский положительно отвергал эту возможность.
– Помилуйте!.. – говорил он. – Если бы они напали, то напали бы три года тому назад, а не теперь, когда почти все нам принадлежит…
– А скажите: будет бал? – перебила его Софья Петровна.
– Еще бы, разумеется будет на днях, послезавтра. Это решено и подписано.
И опять пошли рассуждения о том, как устроить бал, где его устроить, пригласить ли музыку из штаба или довольствоваться оркестром Т… карабинерного полка.
– Послушайте, господа, это настолько важно, – вскричал Винкель, – что необходимо узнать мнение всех.
– Теперь все у Боровикова. Там с утра игра идет.
– Так надо отправиться к Боровикову и переговорить.
– Позвольте, я схожу, – вызвался я, – и разузнаю.
– Что же? Иди!
– Ступайте! Ступайте! – вскричала Ольга Семеновна. – По крайней мере, никто из нас не прокиснет. А то с вами везде кислятиной пахнет. Не правда ли, здесь, господа, кислым пахнет? – И она, сделав гримаску, начала нюхать воздух.
– Ваш нос в этом случае может считаться авторитетом, судя по величине. – И я низко поклонился ей.
– Как это благородно и вежливо смеяться над физическим недостатком дамы!
– Не менее похвально смеяться и над душевными недостатками мужчины.
– Господа, господа! – вскричал Корбоносов. – Это после, потом шпильки заколачивать друг другу. Отправляйся подобру-поздорову, марш! – И он выхватил папаху у меня из рук, нахлобучил ее мне на глаза, повернул меня и с усердием толкнул в спину.
Я вышел.
Сырой, прохладный воздух пахнул мне в лицо. Моросил маленький дождик. Все небо было закрыто сплошной темной пеленой, и в восьмом часу была уже темная ночь.
В ее сумраке шло какое-то движение. Около стен и на стенах стояли молча люди, чего никогда не бывало. Но я помню, что, занятый тогда своим поручением, я не обратил на это особенного внимания.
XXXVII
У Боровикова были и двери, и окна настежь. И было до того накурено, что не один, а десять топоров можно было свободно повесить.
Я попал в тот момент игры, когда лица игроков бледнеют, глаза разгораются или меркнут, одним словом, когда идет для кого-нибудь критическая, роковая ставка: на весь куш или va bank!
Разумеется, вмешиваться в такую критическую минуту с моим поручением было совсем нецелесообразно, и я отретировался к небольшой группе из трех офицеров, которые сидели в уголку, в стороне.
Это были уже пожилые люди, подполковники и штабс-капитаны, так что я подошел с маленькою нерешительностью, как обыкновенно подходит подчиненный к его начальству, вытянувшись в струнку и приложив руку ко лбу.
– Послушайте, – вскричал подполковник Штурм, – вы не знаете: ваша рота на местах?
– Ничего не знаю, ваше благородие. Я сейчас только от Лазуткиной.
– Надо быть готовым, молодой человек, надо быть готовым.
– А что случилось, смею спросить ваше благородие?
– А то случилось, что мост на Алаганке сожжен (там был деревянный мост) и мы отрезаны. Помощи ниоткуда, и если из Бурной (это была ближняя к нам крепость) не придет к нам на помощь батальон Т… карабинерного полка, то мы все будем уничтожены, поголовно все…
– Как следствие нашей неосмотрительности, прибавьте, – вскричал майор Кустиков и начал выколачивать трубку о подоконник. – Помилуйте! Только и твердили, что нападения не будет, нападения не будет! Да позвольте вас спросить, где на всем Кавказе мы держимся как следует на военном положении? Укажите мне хоть одну крепостцу, в которой мы не спим. Спим месяц, два, три, четыре, а затем просыпаемся… и в экспедицию! Потреплем, сожжем два-три аула и назад – опять в крепостцу спать! А те аулы, которые изъявили покорность, отстраивают то, что было сожжено, и глядь! Опять воюют с нами…
– Как же нужно делать, по-вашему? – осведомился штабс-капитан Назойкин.
– А так-с. Разбили аулы, захватили кусок земли и займи ее и перенеси сюда операционную линию.
– Да это невозможно!
– Нет-с, возможно!
– Нет! говорю вам, невозможно, потому что…
Не знаю, какое бы доказательство привел майор, но слова его были прерваны резким криком на игорном столе:
– Вы подлец, милостивый государь! И таких шулеров честные люди по роже бьют!
И вслед за тем треснул резкий удар полновесной пощечины.
Мы все бросились к столу.
XXXVIII
У стола стоял Струпиков, весь красный, и зажимал правую щеку.
– Как вы смеете драться! – кричал он дрожащим голосом. – Как вы смеете бить чиновника комиссариата!
– А вот мы тебе покажем, как мы смеем! – вскричал капитан Борбоденко и в одно мгновение растолкал всех и подскочил к Струпикову с чубуком.
Рослый, крепкий, черный, с громадными бакенбардищами, он был чуть не целой головой выше Струпикова.
Он налетел и с размаху хватил Струпикова чубуком.
Чубук разлетелся вдребезги.
– Караул! – закричал комиссариатский игрок.
– Погоди, вот я тебе покажу, как надо пищать! – И плечистый коренастый Тручков схватил со стола шандал и подлетел к Струпикову.
Трах… и он полетел на пол.
– Карау-у-ул!
Стол опрокинули… свечи, мелки, карты, бутылки, стаканы – все со звоном полетало на пол. Все смешалось в безобразную кучу, в которой раздавались удары и отчаянный, хриплый, жалобный голос Струпикова:
– Ка-р-р-а-у-у-л! Ка-р-р-р-а-у-ул!
Вдруг нежданно-негаданно грохнула пушка, так что все стекла задребезжали. Все вскочили, вытянулись и застыли от изумления.
Но тотчас же, вслед за этим пушечным ударом, раздалась резкая трескучая дробь барабанов, которые отчаянно забили тревогу.
Все бросились к дверям, сталкивая и опрокидывая друг друга, и не успели еще выскочить из дверей, как загремел новый оглушительный удар из пушки, и вслед за ним захлопал беглый батальонный огонь.
«Вот она, пошла потеха!» – подумал я, и какая-то бешеная, пьяная радость захватила дыхание. Помню, мне захотелось броситься в сечу, в самую горячую свалку.
Но я был без карабина и бегом полетел за ним домой.
XXXIX
Дождик по-прежнему моросил. Кругом был темный, непроглядный мрак, и только вдали, на стенах крепости, мелькали огни выстрелов.
Заряжая на бегу карабин боевым патроном, я опрометью бежал на эти огни, к моей роте, которая, по всем вероятиям, была расположена около восточных ворот. И действительно, я там нашел ее.
Когда я бежал, то мимо ушей моих прожужжали две-три шальные пули. Я в первый раз услыхал этот острый, жалобно посвистывающий звук.
Помню, что около сарайчика, где утром мирно стояли две лошади, на меня прямо набежал какой-то черный человек в огромной папахе, а за ним вслед гнался солдат и перед самым моим носом заколол несчастного штыком, проговорив:
– Тобе кажут, что у крепость нельзя бежать.
– Что такое? – вскричал я, испуганно кидаясь на солдата.
– Прорвался, в-бродие у крепость и бежать. Ему кажуть, бисову сыну… – Но я не слушал и бросился дальше.
На крепостной стене шла усиленная работа. Черкесы лезли как бешеные. Они привезли небольшие лестницы и подставляли их к стене, Подсаживая друг друга, с страшными криками они влезали на стену, чтобы найти на ней верную смерть.
Как только один из этих слепых смельчаков достигал гребня стены и захватывался рукой за ее край, то тотчас эту руку отрубала казацкая шашка или острый штык сбрасывал удальца в темное пространство. Там кишел целый ад. Сновали какие-то черти, бесновались, ревели, и один крик, хриплый, исступленный, крик, в котором сливались тысячи голосов, покрывал и рев, и стоны, и шум битвы.
Всюду раздавалось, носилось и стоном стонало в воздухе могучее, оглушительное: «Алла! Алла! Алла! Алла-гу! Алла-га! Гиль-Алла! Алла! Алла! Алла!!!»
И под эту музыку разыгрывалась бешеная, остервенелая резня.
Солдаты кололи не переставая. На место упавшего черкеса являлось двое новых. Ружейные выстрелы с нашей и с их стороны освещали то там, то здесь пространство. На миг вспыхивала перед нами сырая, мокрая стена, с которой кровь широкими струями стекала в крепость. Освещалось озлобленное, испуганное, неузнаваемое лицо, и громко хлопал оглушительный выстрел, посылавший верную смерть в сплошную толпу, бесновавшуюся перед стенами крепости. Как бы в ответ ему гремел другой выстрел из этой толпы, также на миг, тускло освещая почернелое, закопченное порохом лицо в белой папахе.
XL
Я также стрелял, заряжая постоянно карабин и посылая одну за другой пули в толпу. И мимо моих ушей также проносились с каким-то грустным свистом черкесские пули.
Подле меня работали шашками двое молодцов-товарищей – Прошка Лизун и фельдфебель Салматский. Я должен был постоянно видеть, как отрубали пальцы и руки или как полоса шашки со свистом врезывалась в тело горца и брызги горячей крови летели мне в лицо. Я зажимал глаза и не глядя посылал выстрел вперед.
Прошло, может быть, несколько десятков минут, каких-нибудь полчаса этого страшного напряжения, а мне казалось, что я уже целые сутки стою на стене и что когда-то давно передо мною офицеры били комиссариатскую крысу.
Порой голова отказывалась мне служить, и мне казалось, что я не на крепостной стене, а просто при разъезде большого театра. Суматоха и крики со всех сторон… Дверцы карет и двери сеней постоянно хлопают. Огни фонарей мелькают сквозь мелкий дождь и ночную мглу.
Но это было ненадолго. В голове яснело, и снова ужасная действительность развертывалась во всем ее безобразии. Я стрелял… Подле меня рубили… Кровь лилась… Крики и стоны стояли кругом…
– Ей, помоги… помоги! Черти!!
Я оглянулся. В двух шагах от крепостной стены человек пятнадцать тащили пушку. Но тогда, помню, я не разобрал, что такое происходило во тьме кромешной.
Что-то тащили, была какая-то возня… и хотя всю возню освещал фонарь, но и при свете его нельзя было ничего разобрать.
– Пушку никак тащат, – сказал Лизун. – Чай, помочь надо!
– Да! Надо! – сказал Салматский. – Ступай! И ты, Коряков, и ты – Разгонный, и ты – Степанов, ступайте!
Солдатики, которым был отдан приказ, соскочили со стены и отправились.
– А мне можно идти? – спросил я.
– Пожалуй, идите! – сказал Салматский, и мне казалось, что он подумал: все равно помощи от тебя никакой не будет.
Я соскочил и побежал к толпе. Около пушки хлопотал Квашников:
– Ну, ребята! Принимайся живо! Живо! – И он также схватил лямку и потащил.
– Ну! ну! ну! Вот пойдет, пойдет, пойдет… У-У-У!
Я также ухватился за веревку у одного солдата и потянул изо всех сил.
XLI
Через четверть часа мы втащили пушку на стену. Двое черкес, должно быть абреков, взлезли под самое дуло, но солдатики спихнули их штыками.
– А что же лафет-то однобокий! – вскричал я.
– Ничего! сейчас устроим, – сказал Квашников, отирая пот с лица. – Свети ты, слепая курица!
И несколько солдат принялись подвязывать какой-то рычаг.
– Неужели же нет лучше пушки?
– И эту насилу добыл! Вон та лучше! – И он кивнул влево, где на стене шла возня и устанавливали другую пушку. – Это ваша подлая артиллерия (тут он выругался совсем непечатно). Едва и эту пушчонку выходил… Говорят: мы-ста лучше знаем, нужны ли пушки или нет! Вот дали дрянь (здесь он употребил тоже более энергичное выражение), изломанную пушчонку, трехфунтовик!
В это время какой-то длинный абрек в нахлобученной на глаза папахе выскочил, как черт, прямо перед нами с пронзительным криком:
– Алла! Алла! – кинулся на нас с поднятой шашкой.
Но Саламаткин, помогавший увязывать пушечный лафет, схватил ружье за дуло и с размаху треснул его по голова прикладом. Абрек полетел вниз.
– Тут говорят: пушка мала, а он со своим Алла, Алла!
– Эту линию необходимо обстреливать, – говорил Квашников. – Заряжай, ребята, картечью!
И около пушки снова засуетились солдаты, но только одни артиллеристы.
– Эту линию потому необходимо обстреливать, чтобы расчистить дорогу, по которой к нам может подойти помощь из Бурной. Это единственная наша надежда и спасение.
– Как! Вы думаете, что сами мы не удержимся?
Квашников отрицательно покрутил головой.
– Готово? Пли! – закричал он, и выстрел грянул.
Вслед за ним поднялись отчаянные крики, стоны, и закипала страшная суматоха.
– Вторая! Пли! – закричал Квашников, подбегая к пушке налево, и снова грянул выстрел. – Заряжай! Заряжай! – кричал Квашников, снова подбегая к нашей пушке. – А вы, братцы, не спите! – горячился он. – Выпалил, накатил и снова валяй, заряжай! Живо! Живо! Живо! Вот так!.. Вот так!.. Пли!..
И снова брызнул картечный выстрел.
– Теперь пойдет! – сказал он. – Бот даст, расчистим. – И он снова снял шапку и вытер лоб платком.
Несколько пуль прожужжало мимо нас.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.