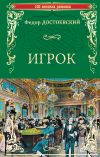Текст книги "Тёмный путь"
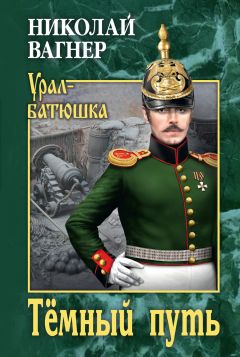
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 48 страниц)
LIX
Наконец я услыхал об ней.
Раз вечером наши вернулись из Севастополя, и Простоквасов всех оповестил: что «дикая девка» опасно больна и севастопольское воинство, благодаря Господа, кажется, наконец от нее избавится.
– Конечно, – прибавил он, – смерти человека грешно желать, но когда эта смерть избавляет многих от пагубы, тогда поневоле согрешишь и пожелаешь.
Я почти всю ночь не спал. Я хотел просить, молить сжалиться, пощадить… но кого?..
Я встал рано и с дрожащим сердцем отправился в Севастополь. Я почти бежал и в девять часов уже был на Николаевской площади.
Пришлось ждать ради приличия, чтобы не явиться к больной ни свет ни заря. Да и примут ли еще меня?.. Но все равно: я что-нибудь узнаю… в половине 11-го я стучал у заветной двери.
Меня почти сразу впустили. Какая-то молоденькая толстая горничная с масляными лукавыми глазками впустила меня и просила обождать.
В комнате пахло теми же духами. Но к ним примешивался запах каких-то лекарств.
Через несколько минут ко мне вышла тетка и ввела меня в другую комнату. Там царил полумрак, и на широком диване полулежала она, поджав под себя ноги – вся в белом, худая, бледная. Ее лицо едва отделялось от пеньюара, и только глаза, большие, черные, казались еще больше. Но в них не было обычного блеска, и все лицо смотрелось каким-то опущенным, померкшим.
Молча протянула она мне руку. Молча пожал я ее, холодную, исхудалую.
– Вы были больны!.. Что с вами было?
Она пожала плечами, повертела головой и медленно проговорила.
– Не знаю… – Лихорадка, горячка… – Почем я знаю?
– Десять ночей мы с ней не спали, – вмешалась тетка. – Десять ночей между небом и землей. Спасибо Вячеславу Ростиславичу.
– Кто такой Вячеслав Ростиславич? – спросил я вдруг.
– А наш доктор штабной… Я думаю, знаете Вячеслава Ростиславича Карзинского… М-г Karsinsky.
Я молча кивнул головой и не спуская с нее глаз чувствовал, как сердце во мне болезненно ныло.
«Зачем я не доктор? – думал я. – Зачем я не имею знаний, сил и средств возвратить здоровье этой чудной больной натуре. С какой радостью, с каким торжеством я бы сделал это».
– Она, верно, простудилась, – говорила тетка.
И она начала подробно и обстоятельно рассказывать, как и где она простудилась. Но я не слушал ее или слушал рассеянно. Я весь был погружен в эти немигающие грустные глаза. Я не мог отвести от них своих собственных глаз, и мне казалось, что какой-то немой, но совершенно ясный разговор устанавливается между нами.
«Не стыдно ли было не известить меня, меня, который так любит вас, так безумно и горячо!» – говорили мои глаза.
«Хороша любовь! Почти целый месяц не вспомнил обо мне», – ответили ее глаза. И мне вдруг стало стыдно за себя, за свою любовь, за свои опасения и молчания на все нападки товарищей. Я невольно потупил глаза, но тотчас же снова с удивлением взглянул на нее. Что это? Или мне так показалось. На лице ее появился легкий румянец, глаза заблестели. На губах выступила кроткая, но шаловливая, чисто детская улыбка. Она отвернулась и, не смотря на меня, проговорила вполголоса:
– Зачем вы так давно не были? Забыли меня. Всем мужчинам нужна забава… Если женщина здорова, забавна… Они возле нее. Если нет…
Я не дал ей кончить…
– Неужели вы можете обо мне так думать, княжна? – вскричал я.
Я сложил руки. Я хотел сказать: «Вы не знаете, как вы мне дороги…» И только сказал:
– Вы меня жестоко обижаете!
Она быстро протянула ко мне руку.
LX
– Простите! Я пошутила… – сказала она, а я схватил протянутую руку, крепко пожал… И затем, сам не зная как, прильнул к ней губами. При этом я невольно почувствовал, как слезы у меня задрожали в горле.
Она выдернула руку и спрятала ее под подушку.
– Я знаю, – снова заговорила она тихо, – что я никому не нужна, что жизнь моя в тягость, и не мне одной…
– Это ты напрасно говоришь, ты грешишь, – резко вмешалась тетка. – Если бы ты выздоровела… поправилась бы, ты могла бы быть многим полезна, а теперь только дорога… вам.
– И я тоже думаю, – прибавил я с убеждением.
– И вы тоже? – переспросила она, прямо уставив в меня свои засиявшие глаза. На щеках у нее выступил румянец пятнами, грудь слегка заволновалась.
– О да! И я также… – прибавил я.
– Благодарю!.. – сказала она грустно и неопределенно и прилегла на подушки – как будто под наплывом радостного довольства собой. Она то закрывала, то снова открывала глаза, щурилась и улыбалась. Она походила на кокетливого ребенка, которому хорошо, приютно на солнце, греющем его, с такой лаской.
И вдруг она поднялась. Оправила быстро пуховую шаль, которой была закутана… улыбка исчезла, румянец также. Ее лицо опять стало бледным и грустно угрюмым.
– Опять игрушки, увлечение!.. – проговорила она шепотом про себя и вдруг резко обратилась к тетке:
– Ma tante, посмотри, пришел ли Ахмед и что лошадь?!
Тетка всплеснула руками.
– Вот!.. Подите вы с ней! Едва держится на ногах, а хочет опять скакать верхом на этой проклятой лошади. Ведь два раза била ее… нет!
– Ma tante, посмотри же! Я тебя прошу. Не то я сама пойду!..
И она поднялась с дивана и пошатнулась.
– Сиди! Сиди! Иду!..
И она ушла.
– Знаете ли, что я вам скажу, – обратилась она ко мне серьезно, когда дверь захлопнулась за теткой. – Я умру через месяц и три недели. – И она пристально, угрюмо посмотрела на меня.
Я пожал плечами.
– Откуда же это вы могли узнать? – спросил я.
– Я не знаю. Какой-то внутренний голос говорит мне. Это мое убеждение.
– Полноте! Поверьте, это только вам так представляется теперь, когда вы еще больны, не оправились. Жизнь и здоровье вернутся, и мрачные мысли исчезнут.
– Я не жалею жизни. Я не боюсь смерти. Я желаю ее. Сколько раз, почти каждый день я ее искала…
– Это просто неудача жизни в вас говорит. Вы не испытали ее радости… Взаимного глубокого чувства…
Она вдруг страшно побледнела, так что я невольно вскочил со стула, но она протянула руку вперед.
– Ничего… это пройдет!.. Воспоминанье…
Она несколько мгновений лежала, тяжело дыша, и затем румянец снова резкими пятнами выступил на ее щеках.
– Жить не стоит! – снова заговорила она, не смотря на меня, как бы сама с собою.
Что страсти?!!
Ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка…
– И чем же сладка жизнь! Чем держится обман?.. И какой обман! Грубый, бесчеловечный! (Она вдруг приподняла голову и остановила на мне свой сверкавший взгляд.) Знаете ли? Мне иногда представляется весь этот сумбур, который зовут жизнью, в виде мрачной, темной волны. Она медленно поднимается вокруг вас, поднимается в вашем сердце. Растет выше и выше. Вам становится нестерпимо жутко… И вдруг!.. Она разбивается в пену и покрывает вас белым саваном забвения… Вам становится легко, покойно, хорошо!..
И на губах ее снова появилась покойная кроткая улыбка. Она опрокинулась на подушки и закрыла глаза.
«Точно мертвая!» – подумал я, и сердце во мне остановилось.
LXI
– Княжна! – заговорил я с дрожью в голосе… – Мне кажется порой жизнь потому мрачной… что мы ищем в ней наслаждений для себя, собственно для себя. Но неужели же человеку не может доставить наслажденье счастье другого, близкого к нему человека… Человека, который весь предан ему, до полного самозабвения, до последней капли крови?!
Она раскрыла глаза, пристально, не мигая, посмотрела на меня и спросила резко:
– Без взаимности?!
– Да! – прошептал я. – Даже без взаимности.
Она тихо покачала головой и снова опустила ее на подушки, прошептав:
– Это не может быть. Это немыслимо.
– О! Для меня это возможно! – вскричал я. – Мне кажется, я способен быть жертвой. Способен отдаться любимой женщине, человеку (поправился я), забыв совершенно о себе и постоянно думая только об его счастье…
– Которого вы не можете доставить? – спросила она насмешливо. – Да! Это действительно трагическое положение!
Я всплеснул руками.
– Княжна! – вскричал я. – Неужели вы так… жестоки, холодны, что вас не может тронуть постоянная, глубокая преданность человека – вы никогда не почувствуете к нему никакой симпатии, даже дружбы, даже сострадания?!
– К рабу?! Нет. К человеку? Да!.. Но укажите мне, где же этот человек? – Она быстро приподнялась, и глаза ее снова засверкали. – Укажите, где он затерт между рабов, постоянно прислуживающих и угождающих высшему, женщине, своим страстям?.. Где господин, а не раб!.. Укажите мне его, и я сама пойду и поклонюсь ему…
В ее голосе зазвучала такая сила страсти, такая жажда идеала, что мне самому показалось мелкой и жалкой моя любовь, которая искала состраданья в любимой женщине. Да и сам я показался жалок самому себе. Я тоже искал господина, искал идола, которому бы мне было сладко молиться.
– При таком ужасном взгляде на всех людей, я понимаю, княжна, ваша жизнь тяжела, бесцельна… Но неужели же у вас нет в ней никакой привязанности?! Неужели вы никого, никого не любите?!
Она посмотрела на меня пристально и сказала, прямо смотря на меня, с лукавой усмешкой:
– Вас я люблю, а больше никого.
Я чувствовал, как я весь покраснел, и проговорил заикаясь:
– Вы шутите, княжна. А я говорю серьезно…
– Нет! Нет. Серьезно, – заговорила она, приподнимаясь с подушки. – В вас есть много детского, симпатичного, доброго и откровенного.
Кровь снова прилила к моему лицу, но прилила от радости. Я вдруг вспомнил, что в первый раз, там, у Томаса, когда мы провели вместе вечер, она обращалась больше ко мне. Вспомнил, что ночью, в ту безумную ночь, когда она отправилась в чужой лагерь, она выбрала меня в спутники. Вспомнил, что во время посещения Малахова кургана она всходила на него, опираясь на мою руку, я вспомнил даже жар и трепет ее молодого тела… и нега томления побежала по всем моим нервам.
– О! Княжна! – вскричал я. – Если б вы знали, как во мне все волнуется при одной смутной надежде, что это не мечта, что это возможно?!
– Что такое? – резко спросила она.
– Ваша взаимность… – робко прошептал я и посмотрел на нее долгим умоляющим взглядом.
Она отвернулась.
– Вы ребенок! – сказала она. – Какая же между нами может быть взаимность?
Помню, как при этом определении самая пошлая, детская обида закипела в моем сердце… Мне хотелось броситься, схватить ее, сжать до боли в моих объятиях и спросил: «Разве ребенок может так обнимать?» Но вместе с тем вдруг целый ряд воспоминаний промелькнул в разгоряченной голове. Я вспомнил, как Сара называла меня мальчиком, вспомнил, сколько раз называла меня Лена ребенком, Серафима – тоже (перед ней я действительно был ребенок). Даже добрая Марья Александровна относилась ко мне с тою ласковою бесцеремонностью, с которой относятся к детям… Что же? Я был счастлив! Если нельзя быть счастливым взрослым, то буду счастлив ребенком. И я вдруг нашел в себе силы, хладнокровие улыбнуться и даже пошутить.
– Княжна, – сказал я. – Христос сказал, что царствие Божие принадлежит детям. Следовательно, и я могу рассчитывать на частицу блаженства, если не там, то здесь.
Ее лицо вдруг сделалось серьезным, и она резко проговорила:
– Я не люблю детей!..
LXII
В комнату вошла тетка.
– Ждала! ждала! Нет твоего Ахмета. С завтраком распорядилась. Тu dejenera a la maison?.. N’est се pas[58]58
Вы оставите его дома? Не так ли?
[Закрыть]?
Она ничего не отвечала. Старуха подошла к ней сбоку и обеими руками погладила ей голову, тихо прошептав:
– Моn enfant capricieuse! (Мое капризное дитятко.)
Она вдруг схватила обе эти руки и начала их горячо целовать. Мне даже показалось, что на глазах у нее заблестели слезы. Тетка поцеловала ее в голову.
– Зачем же вы целуете?.. Ведь у вас нет привязанности ни к кому? – посмеялся я.
– Ma tante[59]59
Тетушка!
[Закрыть]! Где у нас конфекты? Дай ему бомбошку. Ведь это дитя, ребенок!
Я обратился к тетке:
– Будьте столь добры, разрешите мне одно недоразумение. Сейчас княжна говорила мне, что она не любит детей, а за несколько минут она призналась мне, что любит меня, потому что во мне много детского. Как это понять, согласить?!
Откуда у меня взялась храбрость сделать это открытое нападение, я не знаю, но оно вышло очень эффектно… И я почувствовал, что выигрываю именно от этого нападения. Оно рассердило ее.
– Вы ребенок! – вспылила она, обращаясь ко мне. – И потому не можете этого понять. Я люблю детей, как игрушки, как цветы, как нарядных птичек. Но эта любовь тотчас же улетает или превращается в ненависть, когда мне напомнят, что любить – это мой долг. Что так велел кто-то, какой-то герой из сказочного мира, которого я не знаю. Тогда в каждом ребенке, в том числе и в вас, я вижу одни антипатичные, отталкивающие черты… Поняли?
Я встал и молча поклонился.
– Я рад одному, – сказал я, снова садясь на стул, – что у вас есть привязанности, что вы можете их чувствовать – и я понимаю, что вы можете жить. Каждый человек живет любовью. Хоть какой-нибудь да любовью, и плохо тому, у кого нет ее.
– Вы рассуждаете положительно по-ребячьи! Сколько есть людей, которые не имеют никаких привязанностей, и они вполне счастливы. Слушайте, я научу вас! Самое гадкое, тяжелое в жизни и есть любовь. Без нее обман жизни был бы невозможен. Теперь же все вертятся около этого огонька, все тянутся к нему, как мотыльки, не замечая, что он жжет им крылья. В жизни все темно, и самое темное – это и есть любовь, которая, как какой-то демон, волшебник влечет вас к себе, с тем чтобы обмануть.
Она вдруг замолкла, нахмурилась, побледнела и тяжело вздохнула.
– Julie! Зачем же ты разочаровываешь молодого человека? – вмешалась тетка. – Он только что начинает жить; для него в ней розовые цветочки, а ты…
– О нет! – вскричал я. – Не думайте, чтобы я был действительно таким ребенком, каким представляет меня княжна. Я тоже обжег крылья около этого огонька…
При этом она вся нервно вздрогнула, а я замолк и невольно подумал: что такое мой обжог сравнительно с тем ударом, который разбил ее сердце? И неужели же нет сил и средств возвратить ему жизнь?!
И я взглянул на нее. Она снова опустилась на подушки. Глаза ее были закрыты. И на всем бледном, помертвелом лице ее было такое глубокое страдание, что сердце во мне сжалось.
«О! Чего бы я ни дал, чем бы ни пожертвовал, чтобы только найти тот покой, которого жаждет эта страдающая душа!»
Тетка посмотрела на нее, на меня, потупилась и тихо, неслышно, по мягкому ковру вышла из комнаты. Несколько минут мы сидели молча. Я не знал, спит она или нет. Она лежала как мертвая.
LXIII
Вдруг она подняла голову и, быстро схватив меня за руку, уставила на меня нахмуренные, сверкавшие глаза.
– Слушайте! – заговорила она. – Привязанности, которыми вы меня попрекаете, – это привычки. Разве можно назвать привязанностью мои отношения к этой старухе, которая за мной ходит как за какой-нибудь канарейкой. (И она кивнула на дверь, в которую ушла тетка.) Да и сама жизнь разве не та же привычка?! Надо жить и не думать, только тогда и можно жить. Каждое утро, когда проснешься со свежей головой и вспомнишь, почему и как ты живешь, то со всех сторон поднимутся черные чудища: горе, страдания, пустота, всякая пошлость и подлость – точно темное море… и такая тоска нападет!..
Она с отчаянием вытянула руки, хрустнула пальцами и упала на подушки. Мне показалось, что в ее голосе звучали слезы.
– Княжна! – сказать я тихо. – Вам необходимо уехать отсюда, здесь все вас раздражает, волнует. Вам здесь не место.
Она вдруг приподнялась и уставилась на меня.
– Где же мне место? – спросила она глухим отчаянным шепотом. – Укажите мне уголок на земле, где бы я могла отдохнуть покойно!.. Нет! Мое место именно здесь, здесь, где работают смерть и разрушение! Ах! (И в глазах ее заблестела дикая радость.) Если бы было в моих силах подложить искру в этот черный грязный шар, который люди зовут землей. Если б от этой искры он вспыхнул, как порох, и разлетелся бы в дребезги. О! Какое бы это было наслажденье!.. – И она вдруг всплеснула руками и залилась диким истерическим хохотом.
На этот хохот быстро вбежала тетка.
– Господи! Что это с ней?! Опять истерика! – И она схватила какие-то капли, плеснула в рюмку и начала уговаривать ее принять их. Но она отталкивала рюмку, каталась по дивану и неистово хохотала.
– Батюшка! Будьте столь добры, приприте двери!.. Я боюсь, она вскочит и убежит куда глаза глядят.
Я побежал к входной двери и запер ее. Минут 10–15 продолжался этот дикий, раздражающий смех. Затем она тихо, жалобно застонала и замолкла.
Я снова вошел в комнату. Она лежала бледная на диване. Из полузакрытых глаз катились слезы. Старуха подошла ко мне и прошептала:
– Оставимте ее! Не тревожьте!.. Бог даст, она заснет… успокоится.
Я взял шапку, поклонился и тихо вышел.
Внутри меня все было сжато, стиснуто какими-то холодными тисками. Я пошел прямо к ее доктору Вячеславу Ростиславовичу Корзинскому и, к счастью, застал его дома, за завтраком.
Это был обходительный, но уклончивый и очень мягкий господин. На мой вопрос, что с нею, каково ее положение, он ответил не вдруг, помигал стальными глазками, пожал плечами и, посмотрев на меня подозрительно, сказал:
– Ничего нельзя здесь постановить определенного. Дело сложное. («Темное дело» промелькнуло у меня в голове.) Очевидно психопатическое состояние, но оно связано с расстройством женских органов… (И он снова замигал и забегал глазками.)
– Да излечимо это или нет?! – спросил я с нетерпением.
Он опять пожал плечами.
– Ей, вероятно, необходимо вступить в брак или так себе… faire une liaison…[60]60
Завести связь…
[Закрыть] Это упростит дело…
Я поблагодарил его и вышел.
LXIV
По дороге к Малахову я зашел в пятый бастион. Там шла обычная жизнь. Туторин, Сафонский и штабс-капитан с ожесточением козыряли. У парапетов дремали солдатики, выпуская аккуратно по залпу через каждую четверть часа. Неприятель на каждый залп отвечал двумя и вперемежку подсыпал штуцерной трескотни.
– А-а! Навещающий больных!.. – закричал Сафонский. – Как драгоценное здравие ее Сиятельства?.. Не лопнула еще?
– Где ей лопнуть? – усомнился штабс-капитан. – Ее и черти не берут, проклятую! – И он с ожесточением убил трефовую даму козырем.
Помню, кровь бросилась мне в голову при этом восклицании. Мне хотелось сказать: вы, господа, ни о чем не думаете, ничего не знаете и ничего не понимаете, а потому так и судите!
Но я ничего не сказал и молча подсел к Туторину. Он неохотно подвинулся и дал мне место на конце толстого бруса, на котором и сам сидел.
Я машинально смотрел в карты, но на сердце кипели невысказанные слова и обида той, которую я, кажется, уже любил более всего на свете. Впрочем, я не выдержал и через несколько минут, призвав, насколько мог, все свое хладнокровие, сказал серьезно:
– Господа! Я прошу вас… по крайней мере… при мне, удержать ваши бесчеловечные отношения к княжне… Потому что я… я в них, кроме дикости и бесчеловечия, ничего не вижу.
Туторин при этом покраснел и вскричал:
– Да ты не видишь, что идешь в бездну!.. Ведь нам жаль тебя, как доброго товарища! Нам больно видеть, как тобой тешится и играет эта (тут он употребил весьма энергично нецензурный эпитет)… и сгубит… непременно сгубит, как сгубила уже многих.
Я почувствовал при этом, как краска бросилась мне в лицо. Мне стал обиден не столько эпитет, которым грубо выругал ее этот мальчишка, но именно то, что этот глупый щенок вмешивается не в свое дело и берет меня под свое покровительство.
– Милостивый государь! – сказал я, стараясь быть, насколько возможно, хладнокровнее, но при этом чувствовал, как кровь заливала мне голову и глаза покрывались туманом. – Милостивый государь! Детей секут за то, что они вмешиваются не в свои дела… Но вы носите офицерский мундир… вероятно, по ошибке… и не понимаете, что нельзя оскорблять женщину офицеру…
– Да разве это женщина!..
При этом восклицании рассудок мой улетел окончательно.
Я с бешенством вскочил и ударил по доске, на которой шла игра.
– Молчать! – закричал я неистово и хрипло.
LXV
Туторин также вскочил бледный.
– Как вы смеете!.. – закричал он.
Но я более не владел собою. Мне показалось противным красивое лицо его, дерзкое и молодое, и я более инстинктивно, чем сознательно, быстро размахнулся и ударил кулаком по этому лицу.
Что было потом, я не помню. Кажется, он выхватил саблю, но другие бросились и разняли нас. Помню только, что из дальних углов повскакали матросики и бросились к нам и в то же мгновение опять разбежались и попрятались, потому что в самую середину бастиона, в трех, в четырех шагах от того места, где мы стояли, прилетела и тяжело шлепнулась бомба, так что земля охнула под этим ударом.
Помню, что в это мгновение страх смерти вдруг вытеснил во мне злобу. Может быть, меня охватила общая паника, но вслед за другими я кинулся в мою прежнюю каморку, и только что успел вскочить в нее, как раздался оглушительный удар, треск и лязг осколков, разбивавших камни.
Мы снова выглянули из наших убежищ.
Подле большой доски импровизированного стола, на земле валялись карты и лежал молодой матросик… Он бросился поднимать карты, которые в общей суматохе полетали со стола, и в это время накрыл его разрыв бомбы.
Один осколок ударил его в ногу, разбил колено, другой унес кисть руки, из которой кровь брызгала фонтаном. Он отчаянно махал ею, приговаривая со стоном:
– Ах, матушки! Ах, светы родимые!
Тотчас же к нему подбежали солдаты, подняли, положили на носилки и понесли.
Я не простился ни с кем и пошел к себе на Малахов курган.
Вечером рассыльный солдатик принес мне записку или, вернее, целое письмо, писанное на простой синей бумаге довольно безграмотно. Вот что было в этом письме;
«Милостивый Государь!
Вы, как офицер, должны понимать, что бить кулаком по роже есть бесчестие, а так как в военное время дуэли не обычны, то не угодно ли будет вам вместе со мною выйти завтра в 8 часов утра на опасное место, на площадку по дороге к бастиону 4 и простоять на оной площадке, под выстрелами неприятеля, пятнадцать минут. Суд Господень накажет обидчика.
Остаюсь, милостивый государь, готовый к услугам вашим
Николай Туторин».
Я отвечал с тем же рассыльным, что завтра, в 8 часов, буду на назначенном месте. Действительно, это было самое опасное место, в особенности теперь, когда неприятельские апроши придвинулись к нему так близко.
Я почти был убежден, что мы оба будем убиты. И эта уверенность, не знаю почему, мне доставляла какую-то смутную, неопределенную радость. Я, точно школьник, в чем-то и пред кем-то провинившийся, рад был перемене жизни. Как-нибудь, только бы поскорее вон из этого ада, от этих постоянных картин смерти и крови, от этой глупой, бесцельной жизни и от этой чарующей, влекущей женщины, этой несчастной с разбитым сердцем, брошенной в дикую, бесчеловечную обстановку!..