Текст книги "Тёмный путь"
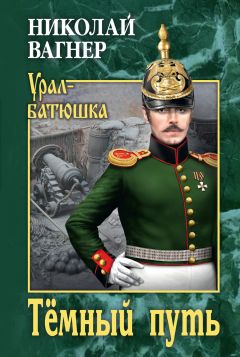
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 48 страниц)
VI
С лестницы спускался Николай Павлович. Справа его шел Клейнмихель, слева Бенкендорф и Меньшиков.
Сзади его сверху несколько камер-лакеев тихо сносили в креслах Александру Федоровну.
Через несколько минут все сени наполнились сошедшими сверху. Тут были почти все члены Царской Семьи и множество придворных. Посреди стоял Николай Павлович; его высокая, статная и тучная, немного сутуловатая фигура высилась над всеми. На нем была военная фуражка и шинель. Он довольно долго разговаривал с Меньшиковым, одобрительно качая головой на все, что ему докладывал князь, и по временам быстро, неожиданно повертывал голову и бросал косые взгляды по сторонам.
Затем он что-то сказал и быстро двинулся к дверям. Вся толпа двинулась за ним. Меньшиков продолжал идти справа, Клейнмихель следовал сзади.
Как только Государь вышел на крыльцо, я с остановившимся сердцем быстро выделился из толпы, подошел к нему, упал на колени и протянул ему прошение.
Никогда не забуду того повелительного взгляда острых голубо-серых глаз, который бросил на меня Государь.
– Что такое?! – быстро проговорил он.
– Прошение, Ваше Величество… – с трудом проговорил я.
Он взял бумагу и, не развертывая ее, опустил в боковой карман пальто, потом быстро обратился к Бенкендорфу и, указав на меня пальцем, проговорил, нахмурясь:
– Взять его!
Почти мгновенно бросились ко мне двое жандармов, и точно по мановению волшебного жезла я очутился на левой стороне крыльца. Жандармы крепко держали меня под руки, но, кажется, делали это машинально, а сами глядели вперед и ждали дальнейших приказаний. Точно так же смотрела вперед на Государя и Царскую Семью и вся публика.
Николай Павлович сел направо, на козла первой линейки, и взял вожжи и длинный хлыст от какого-то придворного служителя. Подле Государя села Ольга Николаевна. Сзади Государя поместилась Александра Федоровна.
Но в это время к нам быстро подошел жандармский офицер и приказал жандармам:
– На гауптвахту!
Жандармы свели меня с крыльца и выпустили мои руки. Один пошел вперед, сказав мне:
– Извольте следовать за мной.
Другой пошел сзади. Немного погодя я оглянулся и увидал, что за нами идут еще трое жандармов. Окруженный этим кортежем, я дошел до Петровской гауптвахты.
VII
Когда я сходил со ступенек крыльца, то обернулся в надежде увидеть Лену, но ее не было. Вероятно, публика оттерла ее и Надежду Степановну. Я мысленно простился с моей «дорогой сестрой».
На гауптвахте жандармский офицер и каких-то двое чиновников сняли с меня формальный допрос: кто я? откуда? в чем состояло мое прошение? Спросили даже, как звали мою маму и мою несчастную сестру.
После этого допроса жандармы отвели меня в небольшую комнатку с одним окном, которое было высоко, с простою кроватью, столом и стулом и оставили одного в совершенной темноте, заперев тяжелые двери. С этой минуты я был арестантом.
В моей временной тюрьме я пробыл два дня. На другое утро с меня сняли еще допрос. Пришел жандармский полковник, с ним офицер и какой-то статский с Владимиром на шее. Меня допрашивали: не имел ли я каких-либо особых политических намерений, подавая мое прошение Государю? Допрашивали, с кем я знаком. Я назвал целую серию моих знакомых в П. Спрашивали, не имел ли я сношений с каким-то англичанином, фамилию которого я теперь забыл. Допрос продолжался часа полтора, но мне казалось, что он тянется целое утро.
Ночью, только начало светать, часу во втором, меня разбудили громкие шаги, стук прикладов, команда. Двери отперли, и ко мне вошел жандармский офицер, приподнял фуражку и проговорил:
– Извольте одеваться поспешнее. Вас сейчас перевезут.
– Куда?
Он пожал плечами и тихо сказал:
– Мы не имеем ни права, ни обязанности отвечать вам.
Я быстро вскочил, оделся. За дверями ждали нас двое солдат с ружьями и двое жандармов. По длинному коридору меня повели на задний двор гауптвахты, где стояла маленькая черная каретка с железными решетками вместо окон. Дверцы отворили. Меня ввели. Подле меня сел жандарм, напротив другой, и карета покатилась.
«Странно! – подумал – я. – Меня везут, точно государственного преступника».
VIII
Был уже ясный, солнечный день, и солнце взошло довольно высоко, когда мы въехали в Петербург, и каретка запрыгала по камням мостовой.
Мои часы остановились, и я обратился к жандарму с просьбою сказать мне, который час. Он посмотрел на меня пристально и промолчал.
Я обратился к другому и получил от него ответ:
– Нам не приказано разговаривать с вами.
Я пожал плечами и замолчал. Странно! Как будто бы можно было узнать что-нибудь от преступника, когда с ним не разговаривают? Или, может быть, они не надеются на стойкость жандармов?
Мне осталось рассматривать пыльные пустынные улицы Петербурга, что я и делал сквозь мое окошечко, загороженное решеткой. Но почти на каждом шагу меня встречал такой отчаянный толчок, что я вскоре принужден был отказаться и от этого развлечения. Вероятно, карета была на плохих рессорах, а может быть, и вовсе без рессор.
Часа через полтора этой адской езды мы снова выехали на шоссе, и я скорее догадался, чем узнал, что меня везут мимо парка на Петербургской стороне. Через полчаса каретка снова запрыгала по мостовой и въехала через подъемный мост в Петропавловскую крепость.
Мне показалось, что мы въехали в какую-то темную яму. Сердце у меня сжалось, и мороз пробежал по коже при воспоминании о тех ужасах (вероятно, вымышленных), о которых рассказы ходили тогда в Петербурге об этом страшном месте заключения.
Зазвонил звонок, и каретка несколько раз повернула и подъехала к какой-то двери, у которой стоял караул. Меня, дрожащего и от бессонной ночи, и от утреннего холода, от которого я не успел еще согреться, вывели и повели по длинному, темному коридору, по которому направо и налево были маленькие двери с решетчатыми окошечками, и около каждой этой двери стоял часовой с ружьем.
Мы остановились у одной такой двери. Унтер-офицер, шедший впереди, громко прокричал:
– Номер 42.
А жандармский офицер, шедший впереди меня, записал что-то в книжечку. Унтер-офицер отпер двери. Жандармский офицер вошел первый и пригласил меня следовать. Я вошел.
– Я должен вас предупредить, – обратился он ко мне со сладкой улыбочкой, – что у нас всякие переговоры с часовыми со стороны заключенных строго воспрещены. Для ваших потребностей вы имеете право обращаться к смотрителю и дежурному офицеру, который каждый день в 10 часов обходит все камеры.
Затем, любезно поклонившись мне, он вышел, а за ним удалились два жандарма с саблями наголо, которые сопровождали меня.
Двери захлопнулись, защелкал замок, раздалась команда, застучали приклады, послышались мерные удалявшиеся шаги, тише, тише, и все замолкло.
Я остался один в небольшой высокой комнатке с крохотным окном, в котором была вделана толстая решетка, в комнате с серыми, сырыми стенами из гранита… Три шага вперед, три шага назад… Слезы застилали мне глаза. Я упал на жесткую постель, покрытую одеялом из серого солдатского сукна, и горько зарыдал.
IX
Причина моего заключения, или, собственно говоря, переселения в Петропавловскую крепость, с одной стороны, несколько разъяснилась для меня на другой день, но с другой – еще более запуталась и покрылась мраком.
В одиннадцать часов меня с конвоем провели по длинным, изогнутым коридорам в присутствие, то есть в канцелярию для допросов, и, таким образом, меня без малого в три дня подвергнули трем допросам в трех разных комиссиях. На этот раз я подпал под допрос комиссии, которая имела в руках, очевидно, гораздо больше данных для следствия и была гораздо полнее составлена.
За длинным столом, покрытым черным сукном, на котором стояло высокое зерцало, сидело семь человек под председательством высокого, седого генерала, который говорил глухим, каким-то гудящим басом.
Меня подвели к самому столу и поставили напротив генерала.
– Молодой человек, – глухо и медленно заговорил он, как бы отчеканивая каждое слово. – Мы читали данные вами показания при предыдущих допросах и находимся теперь вынужденными, ввиду вновь полученных сведений, подвергнуть вас новому, строжайшему допросу. При этом я должен предупредить вас, что мы рассчитываем на вашу полную откровенность, что только чистосердечное раскаяние и полное, искреннее признание в содеянном преступлении могут избавить вас от тягчайшего наказания…
Он немного промолчал, прокашлялся и начал снова еще тише и глуше:
– Из числа ваших знакомых в П. вы назвали Сару Гольдвальд и Карла Кельхблюма, – но вы умолчали о гг. Юркенсоне, Штурцмайере, Вильбрейхе, Блюментале, Херцштейне и многих других.
Он замолчал и как-то сонно, не спуская глаз, смотрел на меня из-под нависших седых бровей.
– Ваше пр-ство, – сказал я, – я имел дело с господином Юркенсоном по закладу моего имения, но я в первый раз слышу те фамилии, которые вы изволили назвать, и никогда не был знаком со всеми этими господами.
Генерал не вдруг ответил.
– Молодой человек! – начал он внушительно. – Подумайте о том, что я вам говорил, серьезно подумайте. Вашим чистосердечным признанием вы докажете искреннее раскаяние и дадите нам право ходатайствовать о снисхождении вашей участи. Вы были знакомы и весьма знакомы со всеми этими господами. Нам это все доподлинно известно. Все это были ваши сообщники, которых вы при помощи связей привлекли к преступному заговору, прямо угрожавшему основам государства. Нам все известно, и мы прямо обвиняем вас в иудофильском заговоре, который имел целью подчинить Российскую империю еврейской гегемонии…
Обвинение это было для меня до того неожиданно, странно, дико, сумасбродно, что я едва мог собраться со словами и отвечать на него.
– Ваше пр-ство, – вскричал я с запальчивостью, подходя вплоть к столу и смотря пристально на генерала. – Я никогда ни в каких заговорах не принимал никакого участия, вот вам Бог свидетель, – я указал на небольшой образ Спасителя, висевший в углу.
Генерал пристально и довольно долго (как мне показалось) посмотрел на меня и затем, обратясь к жандармскому офицеру, сидевшему подле него, тихо и задумчиво проговорил:
– Введите свидетеля!
Не прошло и пяти минут, как послышались отдаленные шаги, которые затихли при входе в присутствие, так как весь пол его был устлан мягким ковром. Перед моими изумленными глазами предстал Кельхблюм, худой, бледный, небритый, в арестантском халате. По обе стороны его шли два жандарма с саблями наголо.
Точно какой-то туман покрыл мою голову, и на одно мгновение из глаз исчезли и комната присутствия, и седой генерал, и все мои судьи.
X
– Г. Шварцшлейм, – обратился генерал к Кельхблюму, – потрудитесь вкратце повторить сущность ваших обвинений против подсудимого. – И он указал на меня.
Я еще более открыл глаза, если это было возможно, и едва верил им.
«Кельхблюм стоит передо мной или нет? – спрашивал я невольно. – Или это двойник его, удивительно на него похожий, с небритой бородой, всклокоченной головой и сильно похудевший!»
Он начал говорить, и я опять убедился, что это голос Кельхблюма. Это его манера говорить, слегка пришепетывая и подмигивая левым глазом.
Он обвинял меня, что я составил заговор с целью свергнуть с престола царствующий дом и посадить на трон какого-то германского герцога, всегда покровительствовавшего евреям; что этот заговор имел участников по всей России между евреями, что все главные вожди заговора съехались на общее собрание в П., на котором и было постановлено отравить весь царствующий дом.
Я, разумеется, приходил все более и более в ужас от этого обвинения (сначала оно казалось мне сумасбродным). Я пробовал опровергать, отрицать его, но Кельхблюм, не смотря на меня, а прямо на генерала, хладнокровно выслушивал мои запальчивые реплики и вспышки и отвечал на них с такими подробностями и quasi-доказательствами, что невозможно было им не поверить. Очевидно, он играл слишком хорошо разученную роль.
Допрос кончился. Кельхблюма увели, а вслед за ним отправили и меня снова в мою комнату. Жандармский офицер, сопровождавший меня вместе с конвоем, нес под мышкой портфель и, когда мы вошли в камеру, вынул из него довольно толстую тетрадь и, положив передо мною на стол, сказал мне:
– Потрудитесь ответить обстоятельно на все предложенные здесь вопросы. Через три дня я приду за этой тетрадью. Если вы не успеете в этот срок ответить на все поставленные вопросы, то он может быть продолжен. В случае вашего нежелания исполнить это распоряжение, вы можете подвергнуться принудительным и… некоторым дисциплинарным мерам.
Сказавши это, он слегка поклонился и вышел. Когда двери захлопнулись и последние шаги солдат, введших меня, замолкли, то среди наступившей тишины невыразимый ужас сдавил меня как тисками.
– Я погиб! Погиб! Погиб! – невольно шептал я, ломая руки, и рыдания подступали мне к горлу.
Я упал на постель и сдавил руками голову. Она кружилась, и вся глотка была наполнена какою-то несносною сухою горечью.
XI
Во всю эту ночь я не засыпал, или, как говорят, «не смыкал глаз», и чего-чего не представлялось мне в эту страшную, тяжелую ночь. Участь пятерых казненных декабристов казалась блаженною, желанною участью.
«А не то сгнию в подземельях, – думалось мне, – в рудниках. – Лена, дорогая моя Лена пойдет со мной… Она не покинет меня… Добрая моя!..»
И слезы навертывались, катились из глаз…
Но вдруг резкий, острый щипок руки заставил меня вскочить. При бледном свете луны, который падал маленьким пятном на мою постель, мне представилась отвратительная картина. По всему одеялу, по подушке, везде ползали мокрицы такой громадной величины, какой я нигде не видал во всю мою жизнь.
Я в ужасе отскочил от моей постели, но каменный пол был мокрый. На нем было по крайней мере воды на полпальца. И везде во всех углах, на всех стенах слышно было это отвратительное шуршание костлявых, крючковатых лапок. Все это были те же отвратительные жильцы этого сырого подземелья, которые собрались сюда, голодные, за остатками обеда или даже грызть мое собственное тело.
Меня тошнило. Голова кружилась. Я взял мочальный стул, поставил его посреди комнаты и сел на него, высоко приподняв ноги на перекладины.
В таком положении я просидел всю ночь, не закрывая глаз. С рассветом мои враги удалились. Шуршанье утихло. Вода тоже куда-то убралась, и я встал шатаясь, подошел к постели, встряхнул подушки, сырое одеяло и лег.
Но заснуть я не мог. Мне слышались какие-то глухие, словно подземные стоны и дикие завывания. Волосы вставали дыбом, и мороз ходил по спине. Мне чудился робкий стук и тихий шепот за стенами. Точно кто-то рыл землю или что-то зарывали в нее, что-то страшное, тяжелое… гроб… с живым человеком… Или где-то замуровывали скелет… Где-то глухо звякали цепи. А в ушах невольно, как-то ритмически тоскливо звучало, точно мерные грустные всплески воды:
Был ясный белый день, когда вдали в коридоре послышались тяжелые гулкие шаги. Ближе, ближе… Загремели запоры, растворились двери, и вошли жандармы… жандармы… много жандармов… что-то несли… таинственное, страшное…
Я дико вскрикнул и лишился чувств.
XII
Когда я очнулся, то подле меня стоял какой-то маленький человечек в черном мундире, без эполет и давал мне нюхать какой-то острый спирт.
Я открыл глаза. Он быстро пощупал мой пульс и сказал негромко жандармскому чиновнику, который стоял впереди всех:
– Обморок и легкий лихорадочный припадок… больше ничего! – И он отошел в сторону.
– Мы должны исполнить над вами порядки, которые предписывают нам узаконения, – сказал полковник мягким, но несколько осипшим голосом. – И прежде всего мы должны переодеть вас. Потрудитесь раздеться.
Я сидел на постели и не понимал, чего от меня требуют. Голова страшно болела.
Полковник кивнул жандармам, и трое из них бойко, со звоном шпор подошли, подняли меня с постели и начали быстро раздевать очевидно привычными руками. Я не сопротивлялся.
Меня одели в казенное толстое белье, в серый арестантский халат. Мне было страшно холодно. Я дрожал, и зубы мои стучали, как в сильном лихорадочном пароксизме. Мне хотелось смеяться и плакать, и только внутренний неугомонный голос постоянно напевал мне:
– Lasciate ogni speranza!.. Lasciata ogni speranza!..
– Все ваши вещи и деньги, – говорил сипло полковник, – будут в целости и будут возвращены вам или вашим родным. В вашем бумажнике находится 345 рублей. – И он, сосчитав деньги, снова положил их в бумажник.
– А в вашем кошельке… – И он взял кошелек из рук жандарма.
И вдруг одно воспоминание как молния прошло сквозь мой мозг.
– Полковник!.. – вскричал я. – Оставьте мне одно, только одно… Ради Бога!.. В бумажнике – маленький медальон с миниатюрой на кости…
Полковник медленно взял бумажник, вынул портрет, развернул бумагу, в которой он был завернута, и спросил:
– Чей это портрет?
– Это… это моей бедной… мам… матери… – едва я мог проговорить сквозь страшную стукотню зубов и рыдания, которые подступали к горлу.
– Этот портрет будет вам возвращен сегодня же, – сказала он, подозрительно смотря на меня и медленно завертывая миниатюру снова в бумагу.
Я не мог долее сдерживать судорожный, истерический пароксизм плача, который вдруг накрыл меня. Я упал на подушку и громко, визгливо зарыдал, как маленький ребенок.
Полковник, жандармы, конвой – все тихо, торопливо удалились. Загремели запоры, раздались опять гулкие шаги по коридору, и все снова покрылось гробовой тишиной.
Lasciate ogni speranza!.. Lasciate ogni speranza!..
XIII
Два или три дня (наверно не помню сколько) ко мне никто не являлся; только в обычные часы приносили обед, до которого я почти не дотрагивался. В эти дни я пережил такие душевные муки, каких не испытал во всю мою жизнь. Иногда мне казалось, что я схожу с ума.
Я принимался несколько раз за тетрадь или вопросные пункты; но в голове шумела такая буря, что я не мог даже понять самих вопросов. И чем долее я вдумывался в них, тем сильнее болела моя голова и тем темнее становился для меня их смысл.
Наконец я дошел до полной апатии. Мне было все равно: жить или не жить. По временам, лежа на постели, я воображал себя в гробу, старался ни о чем не думать, ничего не чувствовать, голова слегка кружилась, в ушах раздавался легкий мерный шум, и мне было сравнительно хорошо.
Спал я только днем, и то немного, а всю ночь дремал на стуле. Просить, чтобы меня перевели в другую камеру, где не было бы мокриц, я не хотел.
На третий день утром не помню как я перешел в полусне на постель, заснул как убитый и, вероятно, проснулся поздно.
Прямо на мою постель, на мои руки ярким пятном светило солнце, и от этого света вся моя мрачная камера совершенно преобразилась, приняла как будто праздничный вид.
«Господи! – подумал я. – Ведь бывают же положения гораздо хуже, более отчаянные и безнадежные. Были же люди, которые спасались от смерти, по-видимому неизбежной, и все на свете в руках невидимых. Того, кто один владеет судьбой человека. Пусть смеются над фаталистами. Пусть отрицают Провидение и ставят на место его закон… Ведь это только замена названий, и сущность дела нисколько от того не меняется!..»
В первый раз во время моего заключенья на меня сошла потребность молиться – робкая и стыдливая. В первый раз мною овладело умиление, слезы покатились из глаз, и я молился мысленно горячо, с полной покорностью Невидимому, но более сильному, чем мы, и более… О! Гораздо более Кроткому и Любящему.
Странное дело! Мне явственно послышался в это время голос моей матери. Она как будто сказала: «Верь и надейся!» Пусть назовут это галлюцинацией заключенного, но только в это самое время двери моей камеры отворились, и шум людской жизни ворвался в мои уши.
До этого мгновения я не слыхал ничего: ни обычных громких шагов конвоя, ни стука также громкого дверных замков и затворов.
Я вскочил с постели. Передо мной стоял жандармский полковник без всякого конвоя, совсем не тот полковник, который переодел меня в арестанта. Нет, это был довольно низенький, толстенький, казалось, добродушный человечек. Он стоял и заливался искренним, радушным смехом, который так гармонировал с солнечным пятном на моей постели и с праздничным освещением моей камеры.
XIV
– Ха! ха! ха! Спит сном праведным! О золотая юность!.. О чистая душа! Ха! ха! ха!.. Спит, когда на дворе давно уже час! Спит, когда к нему входят с шумом, с звоном, с бряцанием, уходят, опять входят, – а он все спит… Ха! ха! ха!
Без всякого сомнения, смех этот только казался искренним. Полковник хорошо, в совершенстве играл свою роль, но смех его, хотя и деланый, был страшно соблазнителен. Я невольно улыбнулся, поклонился приветливо и сказал:
– Желаю вам доброго утра, полковник!
– Доброго утра! Ха! ха! ха!.. Доброго утра, когда нам обедать пора! ха! ха! ха!.. Ах! ах! Молодой человек!
И затем вдруг, таинственно нагнувшись к моему уху, он прошептал.
– Я принес вам добрую весть, молодой человек! – И он потрепал меня по спине. Положение ваше совсем не так дурно, как вы думали… вовсе не так дурно, и в доказательство мы вас сейчас переведем в другую светлую камеру и угостим как следует, и согреем, и проветрим… как зимнего таракана! Ха! ха! ха! ха!
– Переведите, пожалуйста, полковник! Здесь ужасно сыро… и… мокрицы…
– Мокрицы! ха! ха! ха! Это и есть наши тараканы. Ха! ха! ха! Мерзость страшная, пойдемте! Пойдемте отсюда скорее. – И он взял меня под руку и вывел из камеры.
В стороне неслышно и недвижно стоял конвой, и, когда мы двинулись по коридору, он медленно пошел за нами.
Мы вошли не в камеру, а в комнату, которая показалась моим глазам, отвыкшим от света, весьма светлою, хотя в ней и было только одно окно, заделанное толстою решеткой. В середине стоял небольшой стол, и на нем был накрыт обед или завтрак на два прибора. Все было сервировано просто, но чисто. На столе стояла даже бутылка красного вина. (Медок «Сент-Жюльен», и весьма порядочный, как оказалось впоследствии.)
– Вот вам, мой юный герой! Наслаждайтесь! Кушайте на здоровье! Выпейте вина! Во славу будущего освобождения, – прибавил он тихо и захохотал. – А сейчас приведут к вам вашего товарища… Кого? Это сюрприз! Ха! ха! ха! Ваш прежний друг-приятель! Ха! ха! ха! Видите ли, как мы верим в вашу невинность! Ха! ха! ха! Доброго аппетита! Никто вам мешать не будет. Положительно никто. Беседуйте, болтайте сколько душе угодно. Доброго аппетита! Ха! ха! ха!
И он вышел. Двери за ним затворились.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































