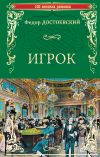Текст книги "Тёмный путь"
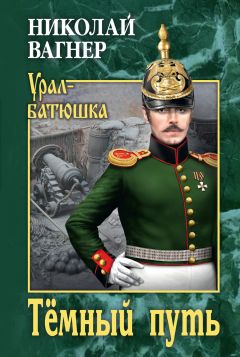
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 48 страниц)
XCVI
– Где он? Там?
– Сюда пожалуйте, ваше благородие!
И дверь отворилась (я забыл запереть ее).
Вошел человек, еще довольно молодой, высокий, плечистый, в синих очках, с большим лбом, большими усами и бакенбардами, в сером резинковом макинтоше.
– Узнаете меня? – спросил он, подойдя ко мне. – Нет? Не узнал!
И он быстро сбросил макинтош на турецкий диван, бросил на него широкополую мягкую шляпу и очутился в летнем сером люстриновом сюртуке.
Затем он вынул большой батистовый платок и с наслажденьем начал обтирать лицо, бакенбарды и шею, проговорив:
– Этакая непотребная пылища у вас!.. Так не узнал? Старого-то товарища? – И он сел на диван прямо против меня. – Усы, бакенбарды отрастил, синие очки надел. Это чтобы снег на ваших проклятых горах не портил глаз. А? Не узнал? Серьчукова-то? Не узнал… Стыдно!
– Серьчуков! – вскричал я. – Неужели это ты?
– Я самый – Петр Сергеев Серьчуков сын.
Это был медик, бывший студент К… университета. Он был старше меня по крайней мере пятью годами и целыми тремя курсами, так что я застал его в университете уже на третьем курсе.
Он меня лечил от некоторой негласной болезни, и целый год мы с ним были очень коротки.
Мы обнялись и расцеловались.
– Что это ты, пистолет осматривал? – спросил он, смотря на меня.
– Д-да… осматривал.
– Да что ты какой кислый? – спросил он, смотря на меня подозрительно. – И глаза красные… Это от пыли, или от солнца, или… Не хочешь ли я тебе aqualauro-cerasi закачу, а не то валерьяшки хватим… guttas quinque decern… у меня есть с собой.
Я махнул рукой и закусил нижнюю губу; но слезы невольно побежали из глаз.
– Бэ-э! М-э-э-э! – заблеял Серьчуков. – Это, брат, бараний язык. Я ему не обучался. А ты лучше объяснись обстоятельно, в чем кручина лютая.
И он своей крепкой и сильной рукой схватил меня за руку, потянул, посадил подле себя на диван и обнял.
– Ну, поведай твою тайну, ибо на свете нет ничего тайного, что бы не сделалось явным. Эй, ты! Ваше благородие, как у тебя денщика-то зовут? Эй, пигалица кавказская!
Я быстро утер глаза и кликнул денщика.
– Ну, казенный инструмент, слушай! Ступай к нам и спроси у нашего крепостного инструмента Ивана мою походную аптечку. Скажи, что дохтур прислал.
– Слушаю, ваше благородие.
И он, повернувшись налево кругом, отправился.
XCVII
– Ну рассказывай же: «Чем тебя я огорчила?» – обратился он ко мне. – Но только первоначально дай чем-нибудь промочить горло… смерть пересохло! И всего лучше: нет ли у тебя водочки? Какого-нибудь этакого шнапсику или просто православного сильвупле?
– Коли хочешь, так кахетинское есть, а водки нет.
– Ну, давай и кахетинского, ничего, освежимся.
Я превратился в денщика и достал из шкафчика бутылку и два стакана.
– Вот этак-то приличнее будет, – сказал он, – наливая стаканы мне и себе. – Давай, за мой приезд и твое огорчение! Хлопнем по-старинному!
Мы чокнулись.
Стакан вина натощак ударил мне в голову, и все сердце покрылось каким-то кисло-сладким туманом.
Я рассказал ему всю историю моей любви, затем моего ареста и нашей разлуки с Леной.
Он внимательно слушал, курил сигару и во время рассказа выпил почти один всю бутылку. Попросил еще. Я вынул другую бутылку.
– Так, значит, бросила тебя… Ну, брат скажу тебе, что у бабья бывает много разных капризов и прихотей, но такого не встречал… Вот не видал! А это, знаешь ли, хорошо! Она, знаешь ли, того, с характером. На нее можно, брат, положиться… вот что хорошо!
Он, очевидно, несколько опьянел.
– А вот ты попробовал бы возиться с такой бабенкой, с какой я теперь вожусь, так ты бы того… не сладил!
– Да и я хотел было стреляться… Тяжело, ужасно тяжело!
– Стреляться-то? Правда, брат, правда! Тяжело! И оставь ты эту глупость, сделай милость. Стреляться можно только после смерти… Если бы тебе, брат, привелось возиться с такой бабенкой, как у меня, так ты бы двадцать раз застрелился… ей-богу!
И он хотел еще подлить вина, но в бутылке не оказалось ни капли. У меня был еще полный кувшин, но я счел за лучшее не предлагать ему.
– И что в ней пакостно, так это то, брат, что капризы-то у ней – шут дери ее душу! – какие-то несуразные. Приспичило, например: поедем на Кавказ! И каких резонов ни представлял ей – ничего! Поехали!..
Он немного помолчал и провел рукой по густым волосам.
XCVIII
– Кто же она? – спросил я его. – Жена твоя?
Он усмехнулся и махнул рукой.
– Хватил! Коли была бы жена, так я бы ее двадцать раз спустил… Нет, брат, не жена, а хуже жены, в тысячу раз хуже! – Он вдруг нагнулся ко мне и проговорил быстрым шепотом: – Миллион за ней чистогану! – Он прищелкнул языком и отшатнулся. – И если я, Петр Сергеев, сын Сеньчуков, хоть одним словом или делом обмишулюсь, то не видать мне этого миллиона как ушей своих… Понимаешь?
В это время вошел мой денщик, держа обеими руками небольшой ящик красного дерева с медными скобками и наугольниками.
– Это что?! Аптека? Ну, мы уж приняли капель! Теперь, брат, не нужно. Отнеси аптеку назад. Марш!
– Слушаю, ваше благородие! – И он повернулся и отправился назад.
– Я с этой бабенкой, брат, третий год валандаюсь. Окончив курс, поехал я, как тебе известно, в Питер, чтобы там, так сказать, в медико-хирургической пообтереться. А тут случай подвернулся. Меня ей рекомендовал Буяльский. Поехали мы с бабой по горам, по озерам. Горы страшенные, озера, что твоя синька. Мыкались мы с ней, мыкались… по Швейцарии, по Италии, по Испании; прожили, почитай, с полгода в Париже. И там не понравилось! Поедем, говорит, в Америку. Съездили и в Америку. Я по-английски ни бельмес. Скучища смертельная! Прожили с месяц – поедем в Индию! Ах ты, шут тебя разорви! Точно это у бабы спица в пояснице. Съездили и в Индию. Из Индии махнули в Лондон. Тут промыкались месяц и затем в России и прямо сюда.
– Да что же у ней, – спросил я, – болезнь, что ли, такая?
– Болезнь, да другая. – И он закурил новую сигару. – У ней, как тебе сказать… И сам я хорошенько не разберу, что такое у ней. Только повреждена основательно. И главное не то, что у ней галлюцинации, а все предчувствия. Необыкновенная живость представлений. Представится ей что-нибудь, и баста! Вынь да положь. Представилось, что будет у нас война с Турцией и Европой, и баста! Поедем на Кавказ!
– Зачем?
– А хочу видеть, как Ахалцих возьмут.
– Как Ахалцих возьмут?
– Да так… возьмут! Для нее это ясно как день.
Я посмотрел на него с недоумением.
ХСIХ
– Во-первых, Ахалцих так укреплен, что едва ли туркам удастся его взять, а во-вторых, и войны у нас не предвидится. Мы только хотим попугать Турцию, совершенно по-джентльменски, а у ней уж Ахалцих возьмут!
– Да что же ее-то это интересует?
– Ну вот! Поди ты! Видеть хочу!
– Авантюристка!
– Просто баба, а от нечего делать всегда всякая баба бесится. Деньги есть, так отчего же не беситься? Она, надо тебе сказать, образована превосходнейшим манером, говорит и пишет на пяти, шести языках. Всю французскую энциклопедию в плоть и кровь претворила. Contrat social наизусть знает. – Последние слова он прошептал многозначительно.
– Синий чулок! Старуха!
– Какая старуха! 25, 27 лет. И так себе… недурна. Но только нервна, капризна… Господи! И с предчувствиями, а главное, с теориями всякими, на всякий случай. Просто как попадешься к ней в когти, так она тебя этими теориями – ей-богу – в гроб уложит. Только и есть одно спасенье: карты. Давайте, скажешь, Серафима Львовна, в мушку или в ералаш с двумя болванами. Ну и засядешь. Отвлеченье произойдет.
– Да какая же в ней болезнь! Она просто философ в юбке.
– А вот погляди и узнаешь, как она философствует. Помешана на том, что все мы ходим в темном лесу, да еще на жидах. Ты, пожалуйста, с ней о жидах не заикайся. Раздражишь. У ней была какая-то интрижка, которой жид помешал и съел у нее порядочный куш мимоходом. После этого она о жидах слышать хладнокровно не может.
– А сама она не похожа на жидовку?
– Нет! Скорее на цыганку, чем на жидовку. Да вот пойдем к ней, я представлю.
– Ну, куда же? Я отдохнуть хочу. У меня все внутри дрожит.
– Пойдем! пойдем! Воздух освежит, развлечешься, а там я еще тебе aqua Laurocerasi или валерьяшки…
– Да как же! Мне надо хоть немножко прибраться. Посмотри, я в каком виде.
– Ничего! ничего! Вид очень интересный, меланхолический. Идем! Идем!
И, схватив со стола мою папаху, он нахлобучил мне ее на самый лоб и, быстро накинув свой макинтош и надев шляпу, схватил меня под руку и потащил.
С
Они остановились в форштадте у одной грузинки, в небольшой сакле.
У крыльца целая толпа армян, грузин, черкесов стояла вокруг дормеза, при виде которого мое сердце болезненно сжалось. Он напомнил мне другой дормез, который увез в это утро мою дорогую, мое счастье. И мне вдруг до того стало тяжело, что я живо сделал вольт-фас налево кругом и отправился марш, марш, проговорив на ходу, махая рукой:
– Нет! Нет! Я не могу… В другой раз… Не теперь… не могу!
Но Серьчуков был не из таких малых, которые выпускают так легко, что попало им в когти.
– Что ты! Что ты! – закричал он. – Я тебя сейчас обрею! Ей-богу! И холодной воды на голову. Честное слово! Пойдем! Все это пройдет, соскочит… Пойдем!
И он потащил меня насильно.
– Пусти, Серьчуков!.. Или я драться стану.
И все мое горе вдруг перешло в бешеную злобу. У нас завязалась борьба.
В это время из сакли на крыльцо вышла барынька, небольшого роста, вся в белом, в кружевном, под широкой кружевной накидкой, которая, закрывая ее глаза, делала ее похожей на грузинку.
– Серьчуков, что вы делаете! – закричала она звучным дрожащим голосом. – Пустите его!
– Вот! Серафима Львовна, честь имею… вам представить. (Не барахтайся же! Тебе я говорю.) – И он насильно тащил меня к крыльцу.
Серафима Львовна сошла с крылечка и подошла к нам, закрываясь носовым платком от солнца.
– Честь имею представить вам: товарищ мой. Бежит от вас сломя голову как от какого-то чудовища… Владимир… (как тебя по батюшке-то зовут?) – быстро прошептал он, нагнувшись к моему уху.
– Извините, пожалуйста, – обратился я к Серафиме Львовне, еще весь дрожа от борьбы и досады. – Есть товарищи до того грубые, что не понимают и не могут уважать ни горя, ни страдания товарищей.
– Да! Он грубый, но он добрый… он добрый. И вы его простите, пожалуйста. Если вы дошли, или он вас довел до нашего жилья, то зайдите хоть на минутку. Освежитесь, выпейте стакан воды, шербету. – И она протянула мне маленькую ручку в черной митенке.
У меня в горле пересохло, во рту была нестерпимая горечь. Я пожал ее руку и пошел вслед за ней вместе с Серьчуковым, который обтирал все тем же белым батистовым платком со лба и с лица капли крупного пота, ворча при этом:
– Вот сумасшедший! Право сумасшедший! От самого крыльца бежит, как истый русак-трусак! А еще воином прозывается, Георгия в петлице носит.
И мы вошли в темную саклю, в пахучую атмосферу роз и гелиотропа.
CI
Стены низенькой большой комнатки были обиты бархатными коврами. Пол также устлан коврами. Наконец, повсюду были низенькие диваны, также убранные мягкими коврами. От этих ковров комната казалась еще темнее и душнее.
В одном углу стояла голубая восточная курильница, и, кажется, из нее шел этот освежающий и раздражающий запах роз и гелиотропа.
– Садитесь, отдохните, – говорила Серафима Львовна. – Сейчас вам… Эй, Тэнни! Com her[3]3
Подойдите!
[Закрыть]! – И она позвонила.
В комнату вошла хорошенькая субретка с идеальным английским лицом.
– Bring some refreshing Sherbet or Lemonade[4]4
Принесите свежий шербет или лимонад!
[Закрыть]!
– Yes m’am. – И она исчезла.
– Вы, пожалуйста, не сердитесь на него, – обратилась она ко мне. – Он, право, предобрейший малый, хотя порой бывает невыносим. – И она уселась с ногами на мягкий диван. – Хотите покурить? Это настоящие испанские. – И она протянула мне маленький восточный port-сигар с пахитосами.
Я пристально смотрел на нее. Я невольно начинал забывать боль огорчения разлуки с Леной. Всякий, кто увидал бы в первый раз Серафиму (так мы с Серьчуковым стали звать ее потом), назвал бы ее «кривлякой». Но ее кривлянье не было жеманство или кокетство. Это были врожденные нервные, порывистые, угловатые движения. Она вся была точно на пружинах. И точно так же на пружинах были все черты ее лица.
Всякая малость, безделица, удивлявшая ее, заставляла ее тотчас же вскидывать высоко ее довольно густые черные брови. Глаза ее большие, черные то суживались, то расширялись. Выражение рта и довольно крупных губ постоянно менялось.
По временам она казалась чуть-чуть не красавицей: такою жизнью, молодостью, огнем дышали все черты ее симпатичного лица. И вдруг точно утомленье нападало на него. Оно все словно опускалось. Щеки мертвенно бледнели. То там, то здесь выступали морщинки, и она казалась тогда старухой, по крайней мере лет в 40.
Я незаметно втянулся в разговор, незаметно в общих чертах, при помощи Серьчукова, обрисовал мое горе.
– Знаете ли, – сказала она. – Я никогда, во всю свою жизнь не испытывала ничего подобного и не желала бы испытать! Я хочу быть свободной, как воздух. (И глаза ее вдруг сделались большими, а тонкие ноздри раздулись.) J’aime tout le monde, mais je n’aime pas l’amour. Je préfère la liberté[5]5
Люблю всех, но не люблю любовь. Я предпочитаю свадьбу.
[Закрыть].
СII
Разговор незаметно коснулся настоящего положения России.
– Pauvre et genereux pays! – сказала она. – Il a a traverser une longue et sanglante epreuve, une belle page de martylogie du peuple. (Бедная и великодушная страна! Она должна перенести долгое и кровавое испытание, прекрасную страницу народной мартирологии), и выйдет ли она из нее или погибнет? Dieu sait[6]6
Бог ведает!
[Закрыть]!
И при этих словах я вдруг заметил странную перемену в ее голосе и лице. Оно сделалось необыкновенно серьезным и мертвенным. Точно эти слова произнесла не Серафима, а какая-то другая женщина.
Я невольно вопросительно обернулся на Серьчукова.
Он насмешливо подмигивал, точно говорил: «Вот началось, и ты увидишь, ты сейчас увидишь диво диковинное».
– Твердыни ее будут разрушены надолго, – продолжала она тем же глухим голосом. – Флот потоплен и, боже мой, сколько жертв погибнет… и какое мужество! Какая отчаянная стойкость!
И вдруг она замигала, и из глаз ее полились крупные слезы. Она закрыла лицо платком, быстро вытерла глаза и снова обратилась ко мне. Но это были уже другие глаза, другое лицо. Это было выражение грустное, но живое, доброе и милое.
– Послушайте, – говорил я. – Вы так уверенно говорите (предсказываете – хотел я сказать), как будто вам все это в точности известно.
– Ах! – вскричала она. – Mon, jeune homme. Allons, voyons un peu[7]7
Молодой человек. Давайте разберемся.
[Закрыть], на что мы рассчитываем и на что рассчитывают они, эти вечные, исконные враги России. – Думаете ли вы, что эта война началась случайно? Non, mille fois nоn[8]8
Нет, тысячу раз нет!
[Закрыть]! – И она быстро придвинулась ко мне. – Турция, вы, вероятно, хорошо понимаете (хотя я ровно тогда ничего не понимал), Турция только орудие, не более, один предлог pour changer la situation des choses[9]9
Чтобы изменить ситуацию.
[Закрыть]. Франции необходим реванш за 1814 год; Англии необходимо преобладание на Востоке – voila la cause de la guerre[10]10
Вот отчего война.
[Закрыть]. И вы думаете, что они подняли ее так себе, чтобы немножко повоевать и успокоиться? Совсем нет.
И она еще ближе подвинулась ко мне и заговорила быстрым страстным шепотом по-французски.
– Их давит се colosse du nord[11]11
Северный колосс.
[Закрыть]. Им нужно сбросить его в бездну. И они повалят в бездну «тяготеющий над царствами кумир», непременно повалят (это она сказала по-русски). Посмотрите, ради Бога, кругом оглянитесь, к чему мы готовы? Ровно ни к чему. Мы, военная страна! Мы не знаем, чем мы располагаем! Миллион войска!.. Да разве это войско!
– Серафима Львовна! – вскричал тут Серьчуков. – К чему вы юнца-то совращаете? Ведь он верит, а потому и непобедим…
– Laissez les illusions[12]12
Оставьте иллюзии!
[Закрыть]! – вскричала она строго. – Нам не нужно веры; нам нужно знание. А его-то и нет!
СIII
И она начала указывать на разные промахи и слабые стороны нашего положения, в котором все приносилось на жертву внешности, и за этой внешностью скрывалась, уродовалась и пропадала вся суть дела.
– Посмотрите, – говорила она. – Мы до сих пор твердо уверены, что будем воевать только с одной Турцией. Мы вовсе не ожидаем тройственного союза на наши береговые позиции (sur nos positions maritimes).
Мы выстроили крепости, почти неприступные, на финских берегах и на Черном море и думаем, что их будут брать с моря. Их возьмут с сухого пути, любехонько возьмут там, где нет укреплений.
И при этих соображениях мне вдруг представилось наше «гушанибское устрашение», сжигание аулов и рубка леса под выстрелами неприятеля. Мне даже живо представлялся голос Боровикова: «Мы рубим, а он нас рубит: за лесину человека, а то и двух!»
– Croyez-moi[13]13
Верьте мне!
[Закрыть]! – проговорила тихо, с уверенностью, Серафима. – Поверьте мне: мы не можем их победить, parceque nous sommes des esclaves[14]14
Потому что мы рабы!
[Закрыть]!
– Ах, полноте, Серафима Львовна! – вскричал досадливо Серьчуков и поднялся с низенького диванчика, на котором, по примеру хозяйки, расположился с ногами. – Тошно слушать! Право! К чему тут рабство приплели? Побили же мы французов в 1812 году и с ними «двунадесять языков» и теперь побьем, здорово побьем, несмотря на рабство.
– Это будет наше несчастье!
– Как несчастье? Разве для нашего благополучия необходимо, чтоб нас побили? – возразил я и вытаращил на нее глаза.
– Certainement[15]15
Разумеется!
[Закрыть]! Непременно! – И она хотела аргументировать свой афоризм. Но Серьчуков при этом расхохотался так грубо и неистово, что я даже за него покраснел.
– Подумайте немного, – начала она тихо, обратясь ко мне и не обращая вниманья на его неприличный хохот, – подумайте, и вы согласитесь, что нам, как мы теперь живем, дольше жить нельзя. Я не говорю об Англии, а тем более об Америке, но возьмите вы хоть Францию, sous le regime de ce petit caporal-mouchard[16]16
Во время правления этого маленького капрала.
[Закрыть]. Разве у нас есть что-нибудь подобное? У нас только cette noble noblesse qui ronge et suce comme un parasite tout ce bon peuple ignorant et soumis[17]17
Это благородное дворянство, которое, как паразит, высасывает соки из невежественного и покорного народа.
[Закрыть].
– Да ведь вы тоже принадлежите к cette noble noblesse! – вскричал Серьчуков. – Ведь эти все ковры, амбры, финтифлюшки – все эти барские затеи (и он обвел кругом руками), ведь вы их берете с ваших крепостных – это их пот и кровь!
– Comme vous etes grossier, monsieur[18]18
Вы такой грубый, месье!
[Закрыть]! – вскричала она, хлопнув рукой по дивану, и покраснела до слез. – Не могу же я одна противоречить всем! Que suis-je! Une pauvre femme malade et rien de plus[19]19
Которым я являюсь! Больная соседка и ничего больше.
[Закрыть].
CIV
Она достала из кармана маленький флакончик, понюхала, налила на руку несколько капель какой-то пахучей жидкости и потерла ею себе виски.
– Вот он всегда так, – сказала она тихо, – всегда меня взволнует… Хорош медик!
– Ну, виноват! Виноват! Молчу! – И он угрюмо уселся около маленького окошечка, закурив сигару, и начал пускать в него дым с ожесточением; а Серафима снова тихо заговорила. Она, очевидно, не могла остановиться, не могла сойти с любимой темы, потому что была заведена и спущена, как нервная машинка.
– Est-ce que l’abolition des serfs est possible maintenant quand nous memes nous ne sommes que des serfs de nos passions et des nos tempéraments[20]20
Возможно ли теперь упразднение рабства, если мы сами не более чем рабы наших страстей и темпераментов?
[Закрыть]? Мы, знаете, с одной стороны, преклоняемся и благоговеем, а с другой – рвем и мечем. Точно поляки: «шляхтич на загроде, равен воеводе!» С другой стороны, наши бедные крестьяне, ils sont si accoutumés a notre patronage, a nos surveillances[21]21
Так привыкли к нашему покровительству.
[Закрыть], что они сделались совсем ребята, они отвыкли даже рассуждать! Право! Не цепи рабства страшны, но та цепь, которая сковала воедино крепостника и крепостного. Ее трудно разорвать… Вот в чем вопрос!
При этом Серьчуков не выдержал. Он обернулся, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и снова отвернулся.
Я, помню, не мог тогда понять многого из того, что говорила Серафима, и много, может быть, понимал не так; но эта сентенция крепко удержалась в моей памяти, и я теперь дивлюсь невольно вдумчивости и уму этой нервной натуры, которой я весьма многим обязан.
– Освободите крестьян, – продолжала она, – они сами себя съедят (ils s’avaleront eux-memes). Сперва съедят нас, помещиков, затем начнут поедать друг друга. Понимаете ли вы, какой это страшный, великий и какой это темный вопрос?! Туча, кровавая туча висит над Россией и творит в ней страшное, темное дело (une affaire sombre et affreuse). И нам нет выхода… нет!
И вдруг она закрыла лицо руками и нервно, истерически зарыдала.
– Ах ты, Господи! Беда с этими нервными субъектами! – вскричал Серьчуков, вскочив с диванчика.
Он быстро, порывисто схватил стакан воды, стоявший на столике, и весь его грубо опрокинул на голову Серафимы.
Она вздрогнула, вода полилась по кружевному покрывалу, по ее накидке, по ее черным волосам. Она с наслаждением прихлопывала по ним руками и тихо шептала:
– Merci! Мега! Это пройдет… Са passera… Это улетит… И все улетит!