Текст книги "Тёмный путь"
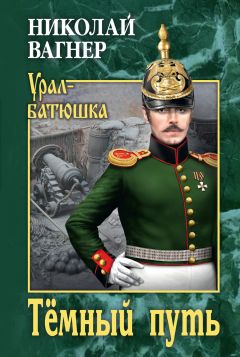
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 48 страниц)
XV
Когда я сквозь слезы дочитал это письмо, то дорогой образ милой девушки снова предстал передо мною. Он не побледнел в моем сердце, нет! Он окружился каким-то тихим, святым ореолом.
В ее вопросе, совершенно естественном, хотя несколько наивном (как же я мог узнать, когда кончится междоусобица!), мне послышалось совсем другое, что так нежно, призывно ласкало мое сердце. Я подумал: раз она выйдет из стен монастыря и на ее чуткое сердце пахнет иная, свежая, здоровая жизнь, то она – разумеется, под усиленными просьбами и уговорами с моей стороны – не захочет снова вернуться в темный гроб и похоронить себя вторично…
Мечты одна другой отраднее и светлее заволновали мою голову и разогрели уснувшую любовь. Я день и ночь думал об одном: как вырвать Лену из стен монастыря, как воскресить в ней жажду жизни и привлечь ее к нашему светлому делу – привлечь эту глубокую, восторженную натуру… Я считал это дело далеко выше, святее ее монастырского эгоизма. Я хотел тотчас же написать ей, вылить все мои мечты и мои горячие чувства… Но обдумав, сжег письмо и решил ехать самому.
На другой же день я довольно легко получил месячный отпуск, достал и подорожную, но в то время, когда я укладывался и уже послал за лошадьми, дверь в мой кабинет отворилась и в комнату вошел Павел Михайлыч.
Он вошел закутанный, в теплом пальто, обвернутый шарфом – бледный, исхудалый.
– Павел Михайлыч! Вы ли это?.. Что с вами!..
Он молча обнял меня, припал к плечу и заплакал.
– Что с вами, дорогой мой?! Что такое случилось? Господи!
– Они убежали!.. Покинули нас!
– Кто?
– Они… Александр и Жени…
Я всплеснул руками.
– Может ли это быть?.. Куда ж они убежали?.. Расскажите… Сядьте, родной мой… – И я усадил его на кресло. Он задыхался и дрожал. – Не хотите ли воды?
– Дайте!.. У меня в горле пересохло. Я прискакал на почтовых, все кричал, погонял ямщиков… Надо торопиться.
– Когда же это случилось?
– На прошедшей неделе, в пятницу… Меня как обухом… Я свалился, жена тоже… Только вчера встал – а она еще лежит… в жару… Не знаю, что будет?.. – И он закрыл глаза и как-то беспомощно заплакал, как маленький ребенок.
– Не расстраивайте себя!.. Полноте!.. Надо быть твердым.
– Родной мой! – вскричал он и схватил мою руку обеими руками. – Помогите! Я просто потерял голову… Я не знаю, что делать и что с нами будет? Ведь оба… оба… бросили нас… И из-за чего началось. Из-за пустяков… 8 мая, вечером, жена хотела отслужить всенощную… У нас ведь всегда служили… Память отца жены… Послали за священником, Александр услыхал и принялся резонировать… Это, говорит, помещичья отсталость; «темное царство». Мало церкви… Еще на дом попов приглашать… Чадят везде ладаном… Меня, знаете, покоробило, но я хладнокровно говорю ему: мы прожили век с теплой верой в помощь угодников Божьих… И теперь под старость нам трудно, невозможно… переменить убеждения и веру, ведь ты проповедуешь же свободу вероисповедания и совести… И точно его кто-нибудь укусил… Покраснел весь… с сердцем говорит: вы, говорит, прожили весь век, не рассуждая… дикарями… и еще хвастаетесь своим обскурантизмом… Нечего сказать, хороша твердость убеждений… каждый человек стыдился бы такой твердости, а вы хвастаетесь! И знаете ли, побледнел… ходит, бегает по комнате из угла в угол, точно дикий зверь… Ну, говорю я, Александр, рассуждать с тобой нам не о чем и не для чего… Молю Бога, чтобы он вернул к тебе разум, а я остаюсь при моем рассудке… Ушел, хлопнул дверью, и с этого вечера началось… Сперва не говорил со мною и с матерью… а потом далее избегал меня… Придет всегда поздно и обедает отдельно с Жени… И она ведь с ним… тоже… со мной и с матерью не говорят… Ну, посудите сами, легко ли нам, дорогой мой!.. Чем мы провинились?.. Жена раз вечером застала ее одну… У нас ведь был клуб якобинский… Этот болван Варуновский, и еще набралось даже не знаю кто и откуда. Пьют, едят, кричат и нас в грош не ставят… Только недели две как освободили… Пришла жена, говорит: «Женечка! – А сама плачет и на колени… опустилась перед ней. – Ты всегда была добрая… Ведь ты наше сокровище!..» Вскочила, побледнела. «Я, – говорит, – вы знаете, не переношу чувствительных сцен». Схватила шаль, накинула и вон из комнаты. Вот что значит, дорогой мой, сердце окаменеет.
– Как же они убежали? – спросил я…
– Убежали ночью… Мы встали поутру… А Петр и говорит: Павел Михайлович, у нас неблагополучно… Что такое?.. Вчера, говорит, в первом часу Александр Павлович и Евгения Павловна… уехали… Как уехали?! Точно так; собрались совсем по-дорожному… за углом сели в кибитку и уехали… Меня, знаете ли, так сразило, просто сразило… Бросился я наверх… а там все чисто и пусто…
И он зарыдал…
– На столе, знаете ли?.. На столе… лежит лист бумаги, и на нем написано… крупными словами (заметьте, это в насмешку над нами, что мы, дескать, мелкого письма не прочтем) написано: «Мы уезжаем, так как жить нам с вами противно и тошно… Желаем вам всякого благополучия и побольше ума». Подписались: Александр и Евгения…
– Что же вы, искали, узнавали? Куда они уехали?
– Сейчас же бросился… к Варуновскому и ко всем… Посылал, разузнавал… Как в воду канули… Ничего… Ничего!.. Ни слуху ни духу! Родной мой! Помогите. Я просто голову потерял!.. Я, знаете ли, думаю, – сказал он шепотом, – не убежали ли они… туда.
– Куда? – спросил я.
– Туда, к повстанцам… Там теперь недостаток в офицерах…
– Это ведь можно сейчас узнать.
– Как! Родной мой, научите…
– Справиться на городской станции… Взяли ли лошадей такие-то по подорожной на московскую дорогу?
– Правда! Правда! Едемте…
– Да! Но как же?.. Я послал за лошадьми.
– За какими лошадьми?
И тут только он оглянулся и обратил внимание на выдвинутый чемодан и на разложенные вещи.
XVI
Я в немногих словах передал ему, куда и зачем я собирался.
– Как это счастливо, что вы еще застали меня, – сказал я.
– Как же это вы? Нет, родной мой! Поезжайте! Поезжайте!.. У каждого из нас свое горе, своя забота.
– Нет, я не поеду… Горе ваше должно быть моим горем… Видно, судьба не судила…
И я посмотрел на его доброе, растерянное, страдальческое лицо и быстро начал надевать саблю и набросил китель.
Мы съездили на станцию. На станции никакой подорожной на их имя не было записано. Съездили к полицмейстеру, который был знаком и мне, и Самбунову. Но никаких разъяснений и советов от него не получили.
Мы положительно не знали, куда обратиться, где искать беглецов. К этой тяжелой неизвестности у меня присоединялось мучение за мою милую Лену. Мне казалось, что каждый час, каждая минута промедления здесь может быть пагубной для нее. Я вспоминал тяжелый удар ее пострижения. Всю сцену в монастырской церкви. И мне казалось, что меня кто-то зовет, что-то тянет вырвать ее скорее из темной жизни, из монастырского гроба.
Целый день мы мыкались с Павлом Михайловичем. Ездили по его родным и знакомым, отыскивая везде совета, указания. Но все было напрасно. Одни читали длинные наставления, как следует строго и сурово держать детей в страхе Божием; другие говорили, что в настоящее переходное время с детьми надо быть очень осторожным и снисходительным!..
Поздно ночью мы вернулись домой. Павел Михайлович остановился у меня и уснул в зале, на диване. Я долго слышал, как он охал, стонал и возился.
На другой день он поднялся ни свет ни заря и уж собрался в дорогу.
– Куда же вы?! – удивился я.
– Да к себе, дорогой мой. Будь что будет! Его воля святая. Боюсь, как там у меня жена… Ведь она еле жива. Так нас сразил этот громовый удар.
Тарантас его стоял уже заложенный. Я простился с ним, усадил его и тотчас же начал собираться и послал за лошадьми.
Все или почти все у меня было уже уложено. Нетерпение томило меня. Я поминутно подбегал к окнам – не ведут ли лошадей?
Наконец мне удалось вырваться из города, и я перекрестился. Погода была ясная и теплая, и дорога была хорошая.
Я ехал почти с теми же чувствами, как тогда, четыре года тому назад, скакал из Севастополя. Правда, я теперь не бросал по золотому на водку, но так же убеждал ямщиков, уговаривал, бросал по полтине и даже по рублю на водку, и чем ближе подвигался к Холмогорам, тем сильнее и сильнее мучила меня неизвестность.
По временам я спрашивал себя: да зачем же я так спешу? Ведь ничто не переменится: приеду ли я неделей и даже целым месяцем позже. Но мысль, что может быть… вот… вот… она уж уехала на место восстания… что я уже не найду ее в Холмогорах. Одна эта мысль приводила меня в испуг и в сильный гнев, и я сулил ямщикам по целковому на водку.
На пятые сутки безумно скорой езды я въезжал в Холмогоры. Здесь только что начиналась весна. Везде еще лежал глубокий снег. Деревья стояли с набухшими почками, и только одни вечнозеленые ели не меняли своего неизменного колючего убора.
Я остановился у прежнего хозяина. Меня встретили с распростертыми объятиями и лобзаньями, как старого знакомого. Да и я сам был как-то особенно весело настроен.
– А сестричка твоя, слышь, – заговорила хозяйка, – все недомогает. Такая стала болезная.
– Что же с ней?
– Да все хворость нелегкая привязалась… С самого Покрова, слышь, болеет… Исчахла вся…
– Ведь она собиралась туда? В Польшу?
– Не слыхала я, свет ты мой, не слыхала.
Я быстро переоделся. Наскоро выпил чай с густыми сливками и отправился.
Почти бегом дошел я до монастыря, перескакивая через лужи или утопая в снегу. Монастырь смотрел еще серее и противнее. Я постучал в ворота.
Та же убогая сестра с молитвой отворила калитку и, прицокивая, спросила:
– Цово тебе?
И та же «мать Агапия» отозвалась на ее зов и подошла ко мне.
– Здравствуйте, мать Агапия! – сказал я, приподнимая фуражку. – Не узнаете меня?
Она как-то удивленно или испуганно отступилась от меня.
– Вы что же, к сестрице?.. Наведаться!..
– Да! Спросите мать игуменью.
Она смотрела на меня и не двигалась.
– Надо, чай, пойти спросить? – проговорила она тихо, смотря на привратницу, как будто недоумевая, идти или нет. Потом быстро обернулась и заковыляла. Я машинально пошел вслед за ней.
В сенях она остановилась.
– Вы побудьте тутот-ка, в сенцах-то, а я пойду спрошу…
– Пожалуйста, поскорее.
– Сейчас.
Она опять заковыляла, а я остался в сенцах и затем прошел в хорошо знакомый широкий коридор.
«Вот! – подумал я. – Четвертая дверь налево. Это ее дверь!..» Сердце сильно билось.
Ждать мне пришлось довольно долго. Я начинал терять терпение. Меня била лихорадка. Я уже прохаживался несколько раз по коридору, осматривал образки над дверями и останавливался перед заветною дверью.
– «Постучать или просто войти?.. Обрадуется или нет?.. Испугается… Что же они не идут?.. Поганые монастырские черепахи!.. Я наконец и скандал учиню».
В это время из глубины коридора вышла мать Агапия и с ней еще две монахини.
Тихо и робко они подошли ко мне и остановились молча, как раз перед дверью кельи Лены.
– Что же, – спросил я, – можно видеть?
И я уже протянул руку к двери.
– Да ее тут нетути, – проговорила торопливо мать Агапия и прислонила к двери руку.
– Где же она?..
– А в церкви уж.
– Молится?
Она ничего не ответила и пристально посмотрела на меня.
XVII
– Что же? Сойдемте в церковь. Ведь можно в церковь-то войти?
– Вот, – сказала она, указывая на рядом стоящую монахиню. – Сестра-сторожиха с ключом.
И «сестра-сторожиха», маленькая, худенькая, вся сморщенная и бледная монахиня, показала мне ключи, как бы в удостоверение, что она действительно «сестра-сторожиха».
– Зачем же церковь-то заперта? – спросил я. Но все три монахини, молча переглянувшись между собою, пошли по коридору. И я пошел за ними.
Вдруг «мать Агапия» быстро обернулась и спросила меня:
– Вы зачем же вдруг так приехали?..
– Я письмо получил… от сестры.
– Она вас звала?.. Проститься, что ль, хотела?
– Как проститься?.. Разве она уж уехала?
– Уехала! Х-м! – проворчала басом третья сестра, низенькая и толстая – точно черная глыба.
– Она ведь болела… Сильно болела… – начала мать Агапия. – Все ей плоше и плоше было. Целую зиму изнемогала… А тут, значит… к весне-то… Начала в путь собираться… в Польшу…
И она вдруг замолчала.
– Что же?.. – спросил я.
Но тут все три монахини остановились. Мы вышли уже на двор, а «сестра-сторожиха» как-то грустно покачала головой и тихо прошептала:
– Ах ты, болезный, болезный! Ницого-то не знаш, не ведаш. Горе како!
Ужасная догадка вдруг представилась мне так ясно, и сердце мучительно сжалось.
– Что же она?.. Умерла!.. – вскричал я, и голос у меня ослабел и оборвался.
– Вцера… в 10 цасов ноци преставилась… – тихо и внушительно проговорила мать Агапия и быстро зашагала вперед вместе с другими монахинями. Точно все они вдруг обрадовались, что тяжелое слово выговорено.
Я также пошел за ними, но в глазах темнело и голова кружилась. Я спотыкался…
Помню, я старался смотреть равнодушно кругом на тонкие голые рябины монастырского сада; на худую кошку, широко шагавшую по сугробам и лужам и отряхивающую свои лапки; на галок, сидящих целым длинным строем на длинной крыше. Я старался отвлечь мое внимание, рассеяться, но боль сердца не унималась.
Мы подошли к низенькой церкви, и «сестра-сторожиха» начала отпирать двери.
– У нас, знацит, тут другой есть ход-то – крытый, – толковала мне мать Агапия. – Да теперь там неслободно… Пройтить-то нельзя.
Я не понимал, что такое и для чего она мне толковала.
Ключ завизжал в замке, два раза щелкнул, и «сестра-сторожиха», прошептав: «Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» и перекрестясь, тихо отворила дверь.
Мы вошли под своды низенькой темной церкви. Это была та же церковь, в которой постригали мою Лену. Меня обдало морозным, могильным воздухом. Шаги мои глухо отдавались под сводами.
– У нас, знацит, – заговорила опять шепотом мать Агапия, – сестра постоянно цитает… над усопшей-то… да теперь отлуцилась в трапезу… Мы, знацит, церковь-то и заперли.
Я опять не понял ее толкования и смотрел на катафалк, стоявший посреди церкви, и на нем простой, деревянный, такой маленький, казалось мне, гробик.
Мы подошли к нему. На миг легкий туман застлал мне глаза. Я упал на колени и припал к полу. Я не чувствовал холода каменных, промерзлых плит, хотел молиться – и не мог. Я только повторял мысленно в глубине моего сердца, повторял одно и то же.
– Прости, молодая жизнь! Прости, дорогая душа! – А сердце было сдавлено холодными тисками. Я чувствовал, что задыхаюсь, и быстро приподнял голову.
На миг мгновенно мелькнули передо мной серые стены церкви, почернелые образа, огоньки свечей – и туманный свет в маленькие слюдяные окна, на которых еще лежал местами снег. Черная ворона пролетала мимо окон, и вдруг мне вспомнилось, как мы сидели с Леной, зимой, на крепостной стене, кругом лежал снег, и мимо нас пролетали черные вороны… Горло сжали слезы, я зарыдал и начал биться о холодные плиты…
– Не воротишь! Не воротишь! – думал я. – Неизменное, роковое свершилось… «Отовсюду же отбеже печаль и воздыхание».
Я поднялся, встал с колен и взглянул на ее бледное, исхудалое, восковое лицо. Она улыбалась, так тихо, покойно, точно во сне.
Вошла читальщица, подошла к аналою – и начала читать, мерным, гнусливым голосом.
Я нагнулся к телу дорогой моей. Тихо поцеловал ее холодный лобик… Слезы застилали мне глаза. Еще раз поклонился я в землю перед милым прахом, быстро поднялся, перекрестился и не помню как вышел вон из церкви. Слезы душили меня.
На дворе я опомнился, оглянулся. Подле меня шла мать Агапия и что-то говорила мне. Я только мог разобрать, что хоронить будут завтра.
– А сегодня после вечерни отслужат панихидку… а завтра после обедни отпевать будут…
Я ничего не ответил… И вдруг на меня нашло желание взглянуть на ее келейку, проститься и с ней, с этим последним уголком ее земной жизни…
Я спросил мать Агапию. Она замялась.
– Как же? Я не знаю, – сказала она… – Надо, чай, благословиться… Там ведь у нас ничего не прибрано.
– Тем лучше!.. – сказал я… – Пожалуйста. Проводите меня…
И мы снова вернулись в широкий низенький коридор. И снова я очутился перед низенькою дверью с образком наверху и хотел уже отворить эту дверь, как мать Агапия торопливо приперла ее и быстро проговорила:
– Погодите, погодите маленько… Я духом сбегаю… Спрошу… Так-то нельзя…
И она пошла торопливо спрашивать позволения, а я снова остался ждать перед заветною дверью.
Сердце мое как-то тоскливо ныло… И голова кружилась.
Мать Агапия быстро вернулась, подошла, запыхавшись, к двери кельи, распахнула ее и сказала:
– Пожалуйте!
Она вошла вместе со мной и перекрестилась перед иконой.
XVIII
В первой комнате кельи был полный беспорядок. Стулья были сдвинуты, валялось белье, ветошки, мыло – было наплескано. В другой комнате, которая служила спальней и молельней, стояла вместо кровати простая скамейка.
– А кровать уж верно вынесли? – тихо спросил я.
– Нет, – сказала шепотом мать Агапия. – Она ведь в гробу спала… Вот в том гробике, в котором теперь лежит… Это она к схиме изготовлялась… Подвижница ведь была… Великая подвижница… – И мать Агапия перекрестилась большим крестом перед божницей… – По целым ночам, слышь, на коленках простаивала… а в среду и пяток пищи не принимала… Мы так все за святую и полагали ее. Великая подвижница!
Я подошел к киоту. В нем, кроме образов Божьей Матери, Спасителя и св. Ксении, стоял маленький образ Александра Невского и крохотный образок, в серебряной ризе, св. Владимира Равноапостольного.
При взгляде на этот образок у меня сжалось сердце…
«Она любила меня, – подумал я. – Любила до конца подвижнической жизни!..» И я чувствовал, как холодели мои руки и спазмы сдавливали горло…
Я отвернулся и шатаясь вышел в другую комнату. Мне хотелось бежать, но на маленьком столике перед окном лежало какое-то неоконченное письмо.
– Это она начала… какое-то писание, – пояснила мать Агапия, – да так и не кончила… голубушка… свалилась.
Я подошел. Это было письмо ко мне.
«Дорогой мой Володя! Я уже раздумала ехать на служение Господу… Видно, Ему не угодно… Мне все хуже и хуже с каждым днем… И чувствую я, точно какой-то голос внутри меня твердит так упорно одно и то же: конец пришел.
Я, верно, умру. Господь милостивый, авось пошлет мне тихую кончину.
Я с радостью переселюсь в вечный мир – и ничего мне не жаль на земле…
Только хотелось бы проститься с тобой…
Делай добро, Володя…»
Я едва дочитал эти недоконченные строки, написанные, очевидно, через силу, неровным, дрожащим почерком. Я рыдал, и прижав письмо к губам, выбежал вон.
Не помню, как я очутился на улице, как добежал до моей квартиры. Я чувствовал только, что порвалась и улетела последняя привязанность к земле. Мне хотелось умереть, убить себя…
«Мир погибает во зле. Он должен погибнуть во зле!» – твердил мне какой-то смущающий голос, и я чувствовал, как исчезала и последняя надежда, последняя деятельность, которой я теперь посвящал почти все свое время и все свои труды. Голова страшно кружилась и болела.
Я торопил моих добрых хозяев – скорее лошадей. Я укладывал все кое-как дрожавшими руками.
– А разве на похоронах-то не будете? – спросила меня хозяйка. – Ведь завтра хоронить-то будут?
Они уже знали все. Хозяин стоял тут же и печально смотрел на меня.
Я хотел что-то ответить – и не мог. Я бросился на грудь к доброй старушке и зарыдал…
– Болезный ты наш!.. Эко горе како!..
Через час я выбрался из Холмогор. Небо прояснилось, выглянуло солнце. Мне сильно захотелось вернуться… Взглянуть еще раз, в последний раз на прах ее, на ее, теперь святое для меня тело… Но я пересилил этот порыв.
«Предоставим мертвым хоронить мертвых!..» – подумал я. Притом меня страшно тянуло туда… К Павлу Михайлычу… «Делай доброе дело, Володя!» – вспоминалось мне. А разве это было не доброе дело – успокоить, утешить доброго старика и его семью?.. Наконец, мне хотелось быть подле него, чтобы укрепиться, чтобы его вера в наше дело поддержала и меня. У меня не было сил… «Мир погибнет во зле!» – «Он должен погибнуть во зле!» – твердил одно и то же горький, смущающий голос.
На другой день моего пути я почувствовал себя вполне утомленным, разбитым. Я упрекнул себя в том, что я не остался отдохнуть хоть на один день в Холмогорах. Но, несмотря на общую слабость и болезненность, я погонял ямщиков. Мне казалось, что я могу успокоиться только там, в Самбуновке.
«Если я расхвораюсь, – думал я, – то нигде не найду более человечного и радушного приюта, как там».
Самбуновка была в стороне от дороги, но я сделал 30 верст крюку, и на четвертые сутки, больной и разбитый, подъезжал к ее усадьбе.
Разумеется, все мне обрадовались и приняли как родного. Мы вместе оплакали мою потерю, и тотчас же Самбуновы поделились со мной их радостью. Они получили письмо от Жени. Она писала матери из Петербурга. Это письмо представляло дело побега вовсе не с такой резкой, грубой стороны, с которой описывал его Павел Михайлыч. – Очевидно, что Жени написала его не под влиянием ее брата. – Она относилась в письме к матери с нежностью, просила простить ее за побег и писала, что только там, в Петербурге, в центре «великого (!)» современного движения всей России, она может быть спокойна, что там у нее есть дело, которому она с радостью посвятит все свои силы.
Это письмо и Павел Михайлыч, и Анна Николаевна берегли как реликвию. Его знала даже Бетти почти наизусть. Анна Николаевна не могла читать его без слез и каждый раз, когда вынимала его, то тихонько развертывала его и затем снова точно так же бережно завертывала в бумагу и, предварительно поцеловав его, клала в свой портфельчик.
– Это ведь все, что осталось нам от нашей голубушки, – говорила она сквозь слезы и крестилась. – Господи, – говорила она, – спаси ее, помоги ей! Выведи, поставь ее на путь истинный!
Каждый день несколько раз возобновлялись со всяким заехавшим соседом или соседкой разговоры о ней. Строились предположения, как она там и чем занята.
– А если ее, матушка, схватят, да засадят в темную тюрьму? – говорила соседка.
И Анна Николаевна вся бледнела и крестилась.
Павел Михайлыч, очевидно, насильно втягивал себя в хлопоты по хозяйству. Я подмечал, как среди разгара этих хлопот он задумывался, хмурился и махал рукой управляющему Давыдычу или старосте Силантию.
– Ну! Это после, – говорил он, глубоко вздохнув. Очевидно, что горе невольно осиливало его.
Из дома как бы отлетала душа. Это был мертвый дом, мертвая семья. Все ходили грустные, говорили шепотом и не могли войти в прежнюю колею и привыкнуть к новому порядку. – Даже Бетти – всегда резвая, шаловливая, ни о чем не думающая – притихла. Раз я ее нашел наверху в датской. Она сидела на стуле и плакала. Увидав меня, она встрепенулась, вскочила и хотела убежать… Но я схватил ее и уговорил признаться: о чем плакала? Чего недостает?..
– Так!.. Жени нет!.. Скучно одной. – И она спрятала свое лицо на моей груди и разревелась.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































