Текст книги "Тёмный путь"
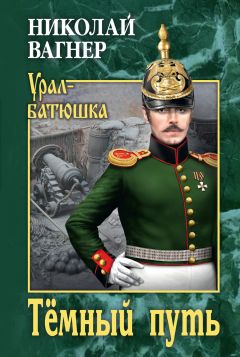
Автор книги: Николай Вагнер
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 48 страниц)
IV
Через несколько дней после этого разговора мне принесли маленькую записку, написанную на обрывке серой бумаги. Принес ее взрослый паренек, и никому не хотел отдать этой записки, кроме меня.
Вот что было написано в этой записке:
«Если ты не забыл случайного товарища петербургской жизни и желаешь его видеть, то доверься подателю этой записки и приходи. Весьма обрадуешь!.. Записку сожги и никому о ней не говори.
Твой
Нерокомский».
Я удивился и обрадовался. Что это за таинственность? – подумал я. И, быстро собравшись, вооружившись галошами и пледом, так как дождь почти не переставал, отправился с моим пареньком в легкой таратайке, сказав Жени, что я еду к одному соседу-помещику. Это было как раз после обеда.
Привелось сделать по невылазной грязи около семи верст в одну бедную деревушку – Неклудьевку, о которой в Самбуновке упоминали иногда как о заблудшем и погибшем гнезде. Я вспомнил, что сам был в этой деревушке, пытался поднять это бедное гнездо людской жизни, но ничего не мог сделать и махнул рукой.
Это было гнездо горьких пьяниц, тащивших в кабак всё, что они заработают, и пропивавших этот заработок целым миром.
Мы подъехали, когда солнце уже совсем село и наступали темные сумерки, к избе старосты, которая была крепче и просторнее других.
Перед избой, на небольшой базарной площади, стояло множество телег. К большинству из них были прилажены рогожные кузова – кибитки.
– Что это? – спросил я у сопровождавшего меня парня.
– А это вишь – собирайся… Завтра, значит, чем свет – в путь…
– Куда?..
– А в Сибирь… Так Петр Степаныч указал…
– И не жаль вам бросать родную землю, матушку-кормилицу?
– Ни! Не жалко… Она нас не кормит.
В это время мы вошли в просторную горницу. В красном углу за столом сидел Нерокомский, староста, несколько дряхлых старцев и урядник.
Как только мы вошли в избу, Нерокомский с радостным восклицанием встал и обнял меня.
Признаюсь, я бы не узнал его – до того он постарел и изменился. Волосы почти совсем седые. Спина согнулась. Лицо в морщинах. Только глаза остались прежние, молодые и светлые.
– Вот где привел Бог увидаться, – сказал он. – Садись! Садись! Гостем будешь…
– А меня, Владимир Павлыч, вы не признаете? И с лавки поднялся какой-то господин, в замасленном полушубке, подтянутом ремнем, с красной, несколько опухшей физиономией, немного полыселый и обрюзглый и порядочно пьяный.
– Нет! Не узнаю, – признался я.
– Не узнаете… Александра Павлова Самбунова…
Я вскрикнул, и в то же мгновение Александр обнял меня, причем я заметил, как сильно от него пахло вином…
V
Нерокомский усадил меня подле себя и с обычным ему добродушием расспрашивал о моем житье-бытье за границей.
Я говорил, все присутствующие слушали и молчали. Одни дремали, другие таращили глаза, и все были очевидно под хмельком, о чем уже свидетельствовали две полуведерные бутыли, почти пустые, стоящие на столе.
Вдруг староста резко приподнялся с лавки и начал истово креститься, а за ним и другие старики тоже.
– Ну, прощай, Петр, – сказал он. – До приятного свиданья!.. Завтра, чем свет… – И он икнул.
Все простились поочередно с Нерокомским и все, пошатываясь, вышли вон.
Урядник подошел ко мне.
– Честь имею представиться, ваше благородие… Урядник… Приземкиной волости. – И вслед за этим протянул мне руку. Я пожал ее. – Командирован Его Превосходительством господином Губернатором сопровождать переселенцев до границы губернии. – И он махнул головой по направлению двери и пошатнулся.
– Больше никаких приказаний, Петр Степаныч, не будет? – спросил он.
И неловко поклонившись нам, пошатываясь, вышел.
– Вот!.. Свиньи дурацкие, – заговорил Александр, когда урядник вышел. – Только бы им палку на палке… и бить палкой.
– Полноте, Александр Павлыч! – махнул на него рукой Нерокомский. – Вот он везде так… ругает по-пустому… Чего же больше, скажите, пожалуйста. Сам Губернатор… Сам вошел в положение…
– Саам!.. – передразнил Александр, который в это время сливал поддонки из бутылей. – Наблюл! Наблюдатель!.. Заслышал, что теперь с переселенцами пошла статья, стала волюшка, так и предписал всех беспокойных, голодных и холодных вытурить из губернии… сам!!! – И он залпом выпил остатки вина.
– Ну!.. Опять пошли с вашим пессимизмом, – сказал Нерокомский. – Что не от нас, то дурно, а что от нас, то хорошо; когда это вы расстанетесь с вашими мрачными мыслями.
– Да, видно, никогда, – сказал он, присев на лавку и стараясь свернуть папиросу, но пальцы его не слушались и он плевал и ругался.
– Что же это, – спросил я, – вы не заехали к сестре, в дом отчий?.. Тайком…
– Чего мне к ней заезжать?.. Старался я ее навести на путь истинный… Да… – И он махнул рукой.
– Слушаю вас, смотрю на вас и глазам не верю, – сказал я. – Вы ли это, Александр Павлыч Самбунов?!! Саша, добрый, ласковый!! Как теперь гляжу на вас, на маленького…
– Ну!.. Вы бы еще вспомнили, какой я был во чреве матернем… Чепухородия!!
Он помолчал немного, покачался и опять начал:
– Жизнь умудряет, милостивый государь… Жизнь анафемская… Чтобы ей ни дна ни покрышки!! Битый горшок… и все черепки проклятые болят и ноют… Под Свенцанами наши мужички-солдатики в бок пулю всадили… В Париже (он говорил с ударением на е) за коммуну приговорили к семи смертям… Едва-едва бежал!.. Даже из благословенной Швейцарии, анафемы, выслали… А по-вашему, благословляй жизнь!.. Да чтобы ей пустая попадья… в… – И он выругался пошло и сквернословно.
– Я думаю так, – вмешался Нерокомский. – Каждый устраивает свою жизнь так, как пожелает. Что посеял, то и пожнешь.
Александр исподлобья, свирепо взглянул на него, и пьяные глаза его резко сверкнули.
VI
– Как же я вот до сих пор?.. Сею, сею, а ничего не могу пожать?
– Оттого, что ты сеешь только плевелы.
– Покорнейше благодарю!.. Ну а ты что же выиграл – пшеничный сеятель?
– Выиграл то, что желал, и радуюсь, и благодарю Господа!
– Юродивый!.. Блаженный простец!! – И он допил остатки вина.
– Ты не поверишь, как сердце радуется, – заговорил оживленно Нерокомский, обращаясь ко мне, – когда видишь, что пропаганда твоя приносит плод; у нас тут есть в Костромской губернии села два-три, такие строгие стоики и аскеты… живущие по правде…
– А ты скажи прежде, у кого это – у нас?.. – перебил его Александр.
– Ну, у нас, у вас, не все ли равно.
– Открыл староверов да штундистов, сектантов разных и радуется… дохлятине заскорузлой… таким же фанатикам, как он сам.
– Александр Павлыч!.. Имей совесть.
– А что это за штука твоя совесть?..
– Представь себе, – обратился опять ко мне Нерокомский, – что в два-три года, как там мы начали пропаганду…
– А кто это мы?.. – перебил опять Александр, но Нерокомский ему не ответил и продолжал свое.
– То село нельзя узнать!.. Завелся порядок, уничтожилось пьянство, и все село резко разделилось на два лагеря.
– Одесную и ошую… – пояснил Александр.
– В одном крепко держится братство о Христе… Любовь… Все это бессребреники, аскеты, добрые, любящие… Ах! Владимир, я не могу тебе описать… Поедем, съездим… и ты сам увидишь…
Александр безнадежно махнул рукой.
– Понес пьяную чушь!.. Мечтатель!.. Нет, ты скажи… лучше… как жмут твоих-то братьев во Христе… с одной стороны урядники, а с другой – свои односельчане… а с третьей – жиды накрывают… Потеха!..
– Нет! – говорил Нерокомский, не слушая его, и глаза его радостно горели. – Верь!.. Верь!.. – И он трепал меня по руке… – Верь крепко двум вещам.
– Каким это? – спросил Александр с пренебрежением, развалившись на лавке и зевая во всю глотку.
– Верь, во-первых (и он загнул палец), что ни одна община без твердой религиозной веры, соединяющей воедино и крепко держащей соединенных, не просуществует… Рассыплется прахом. – И он махнул рукой. – Во вторых… верь, что только в этом трудящемся сословии… хранится и оттуда придет спасение русскому миру… Из среды этих простых умом и сердцем и крепко верующих.
Александр в это время быстро поднялся с лавки.
– А ты теперь выслушай меня, – заговорил он заплетающимся языком. – Выслушай мой символ веры!.. Верь, что гнилое сгниет (и он также загнул палец)… Верь, что становой все возьмет… и верь, что жид и кулак все сотрут и сожрут… О! Это великая, великая сила!! – И он опять опрокинулся на скамейку… но не угомонился и продолжал озлобленно бурчать. – Выдумали… Младенцы!.. Что для нас-де не наступила еще эпоха развития… Что надо, чтобы мы сперва доросли до буржуев, а там и того… Оно, мол, впереди… ждет нас!.. Пожалуйте, честные господа!.. А то еще католичеством вздумали лечить… Заведем, мол, ксендзов и патеров и будет едино стадо и един пастырь, и вся Русь встанет на ноги… Болваны!.. Суконщики!.. Смерды!.. У!..
Он бормотал все бессвязнее, ленивее и наконец испустил такой громкий, аппетитный храп, что мы невольно рассмеялись.
VII
Мы с Нерокомским тихо проговорили вплоть до рассвета. Он с жаром убеждал меня в будущем счастье русских людей. Но в его словах я видел только отголоски старого похороненного прошлого.
Я оправдывал свои убеждения, с которыми я сжился и сроднился в последнее время 12 или 15 лет. Я чувствовал, что там, где-то в самой бездонной глубине сердца, что-то шевелилось щемящим упреком. И с ужасом гнал это что-то. В нем была казнь за все эти 12 или 15 лет жизни жуира, туриста, отступника.
Там говорили тени прошлого, там воскресала моя дорогая Лена, там слышались слова моей Фимы, там слышался голос Миллинова и моего доброго и кроткого Павла Михайловича, Сиятелева.
«Все прожито, прошло, – утешал я себя. – Все, безумное, как безумна молодость, и… живи как живется!»
На дворе стукнула калитка, в двери вошел староста и с ним трое стариков, помолились на образ и поклонились нам.
– Что же, – сказал один старик, – Петр Степаныч… с Богом, что ли?
– С Богом! С Богом, дедушка! – встрепенулся Петр Степаныч.
– У нас уже все налажено… По холодку.
– По холодку, по холодку, Яким Матвеич… Грядем с Богом… Я живо, сию минуту…
И он вышел из избы.
– Никак не ложились? – удивился Яким, показывая на Александра. – Александр-то Павлыч… Младенец Христов!.. Добреющая душа… а какой, поди ты, серчливый, да ворчливый… ругатель!
И он присел подле меня на лавку.
В это время вошел Нерокомский, на ходу торопливо оправляя свой туалет и вытираясь длинным полотенцем с красными каймами, которое висело у него на плече.
На дворе и около избы на площади ясно теперь послышались в раскрытую дверь возня, говор толпы, крики, скрип телег и бряцанье ширкунцов и бубенчиков.
Нерокомский сбросил с плеча полотенце, встал перед образами и начал истово, быстро креститься. Яким лениво тоже поднялся с лавки и встал позади его, а за ним поднялись старики и также начали молиться.
Я тоже встал со скамейки и стоял молча. Александр храпел на всю избу.
Нерокомский поклонился в землю и обернулся к нам. Губы его еще шептали молитву, и на глазах стояли слезы.
– Ну! С Богом! – сказал он и быстро начал собираться.
– Кабы не забыть чего-нибудь, – сказал Яким. – Упаси Господи!.. Ироды-то не отдадут ничего.
– Это он называет иродами будущих хозяев сельца Неклудьевки, – сказал мне Нерокомский – Артамона Сергеича, Терентия Михайлыча и всякую жидвору неподобающую – Шмуля и Гиршку.
– Как?! – удивился я. – Разве земля не остается за крестьянами?
В это время Нерокомский завертывал обрывком веревки свой истасканный дорожный сак.
– Ни! Ни! – махнул он рукой. – Все продали, сдали, закабалили… Сожгли корабли… и яко наг, яко благ… яко нищ есмь…
– Как же, – удивился я, – ты не отговорил их?
Он тихо засмеялся своим добродушным горловым смехом.
– А зачем же отговаривать? – прошептал он. – Люди творят благо, а я буду отговаривать! Ни! ни!.. Ни Боже мой!
«Действительно, это какой-то блаженный, юродивый!» – подумал я, глядя на него.
– Не оживет, аще не умрет, – прошептал он многозначительно, наклонясь ко мне. – Помни это! Всегда помни и нас не забывай в своих молитвах.
И он принялся будить и расталкивать Александра.
VIII
В это время впопыхах вбежал урядник.
– А я уж думал, что уехамши, – вскричал он. – Иду и думаю: как же я его превосходительства… приказание… и тут… Индо вся душа взмокла от страху. Ах ты, Господи! – И он снял форменную шапку и отер мокрый лоб грязным платком.
В это время поднялся Александр и дико смотрел на всех заспанными глазами.
– Едем! – говорил Нерокомский. – На, опохмелись! – И он вынул из кармана дубленки косушку и подал ему.
Александр жадно припал к горлышку косушки и залпом, не отнимая ото рта, осушил ее.
– Уф!.. Благодетель!.. Теперь просветлело и голова ничего… Ведь это нянька моя… Вы не знаете, – обратился он ко мне, – он состоит при мне в качестве сердобольной няньки… А это бука, – указал он на урядника, – так и норовит меня слопать… У-у!.. Язычник!.. Не сглотнешь… шалишь!.. Нет, шалит!.. Никита Семеныч… стена!! Да!!
– А ты собирайся, собирайся скорее. Видишь, все мы ждем одного тебя…
– Ну, поспеете. – И он медленно встал и начал собираться. Нерокомский помогал ему.
– Ну, сказано, все готово… идемте! – сказал он.
– А вот присядем сперва маненько, – сказал Яким, садясь на лавку, и все присели и почти тотчас же поднялись и начали молиться, а затем уже двинулись.
Перед избой на площади дожидались готовые телеги и кибитки. Перед самыми воротами стоял, опершись об их столб, седой старик с большой иконой старого письма, которую он благоговейно держал у своей груди.
– Ну, дедушка, трогай! – сказал ему Нерокомский.
Дедушка медленно перекрестился, и вслед за ним заколыхалась и начала креститься вся толпа. Послышались оханья, стоны, плач, причитанья, детский крик, и дедушка мерными, старческими шагами пошел впереди, за ним двинулись все, заскрипели телеги, зазвенели ширкунцы и бубенчики, сильнее раздались стоны и причитания баб.
Я шел подле Александра и урядника… Нерокомский подходил то к одной, то к другой телеге, суетился, хлопотал и снова возвращался ко мне. В глазах его, на всем лице светилась детская радость.
К нам подошел высокий угрюмый мужичок и снял шапку.
– Петру Степанычу… благополучного пути!..
– Спасибо! Спасибо! Артамон Михеич… Прощайте!.. Лихом не поминайте… Богатейте… владейте чужим добром…
Мужичок подошел к уряднику:
– Препятствий… Никита Васильич, никаких не имеется… Мы, значит, завтра же и начнем…
– Начинайте! Начинайте!..
– То-то чтоб без сумления… Кабы чего не вышло.
И он отошел к сторонке… А там в этой сторонке стояло еще два-три мужичка, и между ними корчились два еврейчика. Они что-то говорили, жестикулировали и махали на обоз переселенцев, а он мерно, тихо, поскрипывая и позвякивая бубенчиками, разливаясь бабьим и детским плачем, шел в темную даль…
– Ну, прощай, Петр Степаныч! – сказал я.
– Прощай, голубчик!.. Вероятно, еще увидимся… Не теряй надежды. Верь! Верь! Верь!.. – И он обнял и перекрестил меня.
Александр спал на одном из возов.
– Я ведь только провожу их до Мышмала, – говорил Нерокомский, – а там уеду в П… губернию… Приезжай к нам!.. Право!.. Безнадежный!..
И он заторопился и заковылял за удалявшимися телегами.
Я отвернулся, на пригорочке стояли все те же мироеды и еврейчики, и так же двигался медленно обоз в темную даль…
Темный путь!.. И ты так же двигаешься в темную даль, родная моя родина!..
Да полно, имею ли я право называть тебя родиной?.. Самовольный изгнанник, ренегат, дезертир, потерявший веру в нашу светлую общественную жизнь… имею ли я право считать себя русским?!
Я взглянул на небо, оно было закрыто тучами! Они спускались, проносились над землей бесконечной вереницей… Ветер гудел уныло и гнал их… По дороге неслись комки посохшей травы и желтые листья…
А обоз тихо, медленно уползал вдаль… Звенели бубенчики, скрипели телеги, плакали дети…
«Не так ли и ты, Россия, да и каждая земля идет, повинуясь какому-то закону, в страшную даль будущего, и совершается темное, неведомое дело».
«Темный путь»! Тяжелый путь! Когда же и как настанет минута просветления?! Или вечно тьма будет окружать несчастного человека?!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































