Текст книги "Владычица морей"
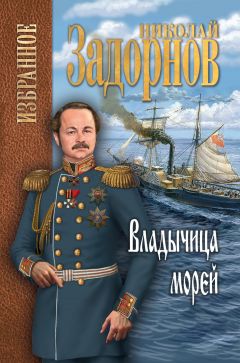
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Глава 21. Австралия
Элгин никогда не был хвастлив и, как ему казалось, не переоценивал значения собственной персоны. Теперь испытывал он почти постоянное чувство угнетения и озлобленной жестокости, не покидавшей его и в успехе. При этом он всегда помнил своих предков, свой знатный и благородный род, положение Элгинов в веках, их рыцарские подвиги и заслуги перед королями и отчизной, и этот тоскливый список герцогских заслуг и оттенков чванства давил его, как тяжкий камень. Он признавал свое несовершенство, как и низость всего окружающего. После сражения в Кантоне, в котором он выказал редкую смелость и самообладание, он не испытал восторга. Все закончилось, и он пал духом, ему не хотелось больше возвращаться домой, стыдно было бы взглянуть в глаза своим детям. Он не хотел идти в церковь, ему стыдно было молиться, хотя звон епископского собора звал его к себе. Он полагал, что ему надо не в храм и не на парад, а в цепи и в каторгу, в Австралию. Но заковать его не посмеют, заковать себя он не дастся, и его цепи невидимы окружающим, и он благодарил судьбу, научившую его владеть собой, соблюдать все правила и скрывать свои чувства от суетливого и болтающего мира.
Как ни тяжко сносить все эксперименты эпохи на самом себе, но так надо. Ему еще предстоит доводить дело до конца и совершать гораздо более ужасные поступки. Смысл операции, в которой ему пришлось стать хирургом, видимо, есть, и сама операция необходима. Это проблема самой главной части современного периода новой истории. Отложить продолжение операции, бросить разрезанного страдальца – означало обречь его на гибель и совершить еще более ужасное злодеяние. «Убить добротой!» На этот раз в самом деле убить. До унижения себя своей собственной добротой он никогда не опускался. А на высокую и чистую доброту он уже не способен, и дипломатическая служба к ней не обязывает, даже запрещает верить в любые добрые порывы. Ему казалось, что у него больше нет семьи и уже нет детей, а у них больше нет отца.
А в парке, в храме при дворце епископа Джонсона, звонил колокол, Элгину, возвратившемуся из Кантона в свою резиденцию и штаб-квартиру на берегу в Гонконге, не хотелось молиться. Он не шел в церковь. Слишком приятные воспоминания о встрече с Энн, о площадке, посыпанной песком и залитой солнцем, между готическими башнями дворца и собора, окруженными черными готическими стрелами японских кипарисников. Их лучше сохранять не портя, оставить эти воспоминания о прошлом, а не прийти и ужаснуться, что все хорошее уже разрушено и больше никогда торжественная одухотворенность не вернется, в церкви не будет спевки при множестве горящих свечей в солнечный день. Все хорошее уже разрушено, хотя это и продолжалось лишь мгновение. А колокол все звонит и звонит, словно изысканный светский джентльмен церкви, напоминая послу, что за ним не только долг совести, но и долг чести, что его ждет утешение и снисходительное сочувствие или прощение за совершенное кровопролитие.
Сэр Джеймс отправился не в церковь, а во дворец к епископу Джонсону.
– Я потрясен ужасами в Кантоне, – сказал он, сидя на высоком кожаном кресле со стрельчатой готической спинкой.
Джонсон выслушал все и осторожно спросил, не чувствует ли его гость, которого сегодня он считает паломником, явившимся с покаянием, потребности в исповеди.
– Где Энн Боуринг? – вместо ответа спросил Элгин.
– Она в Гонконге. Мисс Энн вернулась из плаванья в Сиам и уже после этого побывала в дельте Жемчужной, в деревне, которую уничтожил артиллерийский огонь вместе с жителями; капитан Пим, наша гордость арктических плаваний, ученый, писатель и путешественник, убил несколько детей, бомбардируя…
– Я бы хотел видеть мисс Энн.
– У меня будет бал, и мисс Энн Боуринг на него приглашена, – ответил епископ с видом искушенного ценителя редкостей. – А вы знаете, что ее отец покидает колонию?
«Бал у епископа! После Кантона и резни, которая шла у Джеймса на глазах, и после насилий и ужасов, совершенных самими китайцами… его ничем не удивишь. Здесь все возможно! Но тогда и я буду таким же, как все! Я буду сбрасывать с себя напряжение, я пойду себе наперекор…» Отвратительное самочувствие еще долго не оставляло его во время беседы с епископом, затянувшейся допоздна.
На другой день сэр Джеймс получил приглашение к его преосвященству на бал. Таки написано было: бал! Бал, а не раут.
А еще через день посол был среди гостей во дворце епископа. Танцев не было, как на рауте, но музыка играла, храм молчит в темноте. Двери-ворота дворца открыты на освещенную газовыми фонарями и вымощенную камнем площадку вокруг бассейна с пресной водой и обсаженную вдали кокосовыми пальмами, белые набухшие в темноте стволы их, как сплошная колоннада.
Энн и Джеймс шли вместе на опушке этого леса белых стволов, как у фронтона дворца с крыльями, уходящими в темноту. Энн заметила, что Элгин переменился. На его лице нет выражения вдохновенности оратора, самодовольного лицемерия и высокой одухотворенности.
Джеймс еще при встрече во дворце заметил, что Энн невесела. Сейчас, оставшись с ним наедине, она не оживилась, в ее лице не было былого выражения дерзости и самоуверенной иронии, которую она умела ронять с грацией, как очаровательная ведьма.
Он понял, что и она чем-то подавлена Она оскорблена совершенным им злодейским кровопролитием, и ей не до лукавства. Сам себя он винил беспощадней, чем она. Сейчас, видя, как с трудом она переносит обрушившийся удар, он полагал, что сдерживаться больше нет надобности, и начал рассказывать ей то, чего она не знает, но что ранит и не дает покоя ему и за что он должен бичевать себя без стыда.
Энн стала холодна и, казалось, не слушала его. Энн не вникала в суть его слов, но общий тон раскаяния согревал ее, и она почувствовала, что не может больше держаться, что сейчас произойдет детонация и взрыв. Она уже не могла больше благородно лгать и притворяться. По ее глазам покатились слезы. В ней не было осуждения и ненависти.
– В Макао есть католический монастырь…
Элгин ужаснулся, он испытал прилив жалости. Джеймсу, бессердечному и железному пэру, руке Пальмерстона, душившей Китай, карьеристу и чиновнику, со всей силой, которой он не давал воли, стало жаль Энн.
– Что с вами? – воскликнул он.
– Русские ушли из Макао! – закричала Энн с перекошенным лицом и, бросив его в свои ладони, горько разрыдалась. – Ушли совсем, – продолжала она тоном пьяной простолюдинки из предместьев Лондона.
Какой негодяй Путятин! Мысль Элгина переменила ход и перешла к дипломатическим делам. Через горе Энн он увидел катастрофу, грозившую государству.
– Я лишился своих детей! Они ушли от меня совсем, – в тон ей и с дрожью, боясь, что это опять лицемерие и он становится поэтом своего несчастья перед лицом милой леди, сказал Элгин. – Я не могу писать привычных писем. Мне не с кем больше говорить.
– Я также больше ничего не могу… – всхлипывая, отвечала Энн.
Элгин взял себя в руки. Он попытался утешить Энн и рассказал, как в Кантоне отдал власть обратно в руки китайцев, как ожил город, как на улицах запахло китайскими пирожками, жаренными на бобовом масле. Как запах бобового масла стал для него навеки символом мира… И как ему захотелось этих пирожков. Он не мог написать об этом в Лондон, в родной семье его бы не поняли, решили бы, что это злая антикитайская насмешка или что он не в своем уме.
– Но я подумал, как бы я был рад идти вместе с вами, Энн, по улице в какой-то далекой стране, забыв все мое прошлое. Мы шли бы по улицам с крышами из пальмовых листьев или по китайскому пригороду с навесами на палках у домов бедняков, где-то в Австралийском чайна-тауне. Мы брали бы у разносчиков китайские пирожки и ели бы их с вами на ходу, прямо на улице… Чего мне так хотелось всегда, с самой юности, когда мне все было запрещено, я теперь это вспомнил… Я был бы с вами, шел по Австралии свободен и счастлив.
– Китайские пирожки? – Энн засмеялась сквозь слезы и глядела как из воды на него, как на спасителя. – Я согласна! – вдруг воскликнула она и бросила обе свои руки ему на плечи, как старому товарищу, попавшему в такое же безвыходное положение, как она, еще слабо радуясь, что не все погибло и они оба еще живы вполне.
Джеймс остановился в сильном испуге, ему представилось, что он уже рубил мотыгой тяжелую землю, опускаясь все ниже в колодец, а наверху Энн деревянным воротом качала бадью. Джеймс вылез наверх, он хотел пить и увидел убитого матроса. «Ты осмотрел его карманы?» – спросила Энн. Во сне и наяву Джеймс мерещились погибшие… Напишутся исторические труды. Все тайное станет явным. Даже если никто не переведет китайскую молитву о спасении от чумы, Элгина, мора и голода. Но даже если никто не узнает, Джеймс не может скрыться от себя. «Как я объясню? Привезу дорогие подарки, которые будут доставлять удовольствие по праздникам и воспитывать в спартанском духе». Но никакими подарками не искупишь. Джеймс стоял на виду во время бомбардировки, и в него стреляли. Он не прятался во время боя. Он жив и невредим. Лучше уход из своего гнезда, чем возвращение с такой победой…
– Будьте со мной, Энн…
– Но как это возможно? – спросила мисс Боуринг с деловым видом. – Я должна подумать об этом. Французы говорят, что в каждой женщине живет проститутка, но я верю, и я согласна.
Поместье в Шотландии он оставит без сожаления. Там прекрасно, у нас свои озера, и жена привозит с базаров из Лидса и Глазго огромные синие яйца морских птиц и разводит их в собственном море. Но там мне все будет напоминать заливы на Кантонской реке. Мои воспоминания о родном отце осквернены, об отце – спасителе мраморов античного мира… Из-за моего отказа от титула…
– Я уйду с вами в Австралию. Я оставлю службу короне. Бракоразводным процессом или бегством. Такие процессы теперь не новость. Я начну работать сам, а потом разбогатею и куплю землю, найду людей… Я знаю, видел, как моют золото. Я злодей и убийца, а вы – ведьма.
– Я ведьма!
– Чем же мы не пара?
– Кого вы убили?
– Своих детей. Детей Британии. Они десятками погибали у меня на глазах и корчились от ядовитых газов, которые на них обрушили жители города, обреченные на разграбление и гибель. Я сам сказал нашим мальчикам – грабьте!
– Вы отдали такой приказ. Мне кажется, хотя я ведьма, что вы сумасшедший. Мне так жаль вас, и я готова вас спасти. Скажите, что же делать?
– Я ссылаю себя на каторгу, в рудники, где тяжкие преступники со всей нашей страны. Идемте вместе на свободную каторгу, к которой я приговариваю себя, приковывая вас цепью к своей руке.
– Придите в себя. Вы тоже не все знаете обо мне. Я знаю, вы так честны, что, если я откроюсь вам в ужасном преступлении, вы не выдадите меня?
Вот когда надо было начинать звать ее на каторгу…
«Никогда не думала, что пэр может впасть в такое отчаяние, сознавая недостатки гуманизма…»
– Мой отец убил так же много, как вы, но моя тайна ужасней, и она не имеет ничего общего с чьей-то гибелью.
…Энн возвратилась в Гонконг из Сиама. Она ходила на торговом корабле в эту новую страну с семьей англиканского пастора, желая открыть там школу при церкви, которую начали строить. Старший Вунг, бывший пират и кабатчик, отец Эдуарда Вунга, давал средства и для церкви и для школы Энн. Он всегда покровительствовал дочери Боуринга и ее благочестивым начинаниям.
В Сиаме узнала Энн о приходе в Макао русского парохода. Она стала искусно скрывать пробуждавшуюся тревогу. В Кантоне шла война, и, когда она вернулась, отец возил ее смотреть на взятого в плен Е. Потом в Гонконг пришел из Макао пароход посла Путятина, о деятельности которого она была прекрасно осведомлена по рассказам японцев, когда побывала в их стране, исполняя свою клятву, данную… В Японии про Путятина знали и рассказывали больше, чем сами его офицеры, которые попали в нашу колонию по недоразумению во время войны.
Энн познакомилась с Путятиным и была восхищена его аристократизмом и учтивостью. И с его молодыми дипломатами, и с русским архимандритом – бывшим гвардейцем, сопровождавшим адмирала в качестве переводчика китайского. Как бывший офицер гвардии архимандрит, владевший французским и немецким, беседовал на приеме у губернатора с его дочерью довольно долго. Ей представлен был капитан парохода Николай Чихарев, очень молодой человек, как оказалось; высокий рост, положение и пышные бакенбарды на вид старили его. Остен-Сакен и офицеры – все были на обеде у отца, разговоры тем интересней, чем тщательней желала узнать из них Энн что-то свое, в чем она даже себе не желала бы признаться. Никто ни единым словом не помянул о своих русских товарищах, офицерах, живших тут в колонии и оставивших память у многих. Их как не бывало. Она это понимала по былым объяснениям отца, который когда-то был в молодости первым и самым превосходным переводчиком русских поэтов. Как всегда, уехав к себе в Россию, даже самый прекрасный и свободолюбивый русский, подчиняясь порядкам существующего государственного строя, исчезал навсегда для своих иностранных друзей и забывал данное честное слово.
Путятин прожил в Гонконге два дня. Пароход стоял на рейде. Офицеры и молодые дипломаты играли на площадке в гольф, в шары, танцевали на балу у Джордина и катались на лошадях. Пароход ушел обратно в Макао, и Энн со всем мужеством и энергией молодой женщины, обрекающей себя на благотворительность, возвратилась к занятиям с китайскими детьми, в свою гонконгскую школу. Она не могла бы сказать, что, кроме благотворительности, ей ничего не оставалось. Свою деятельность она любила, была предана ей, остальные интересы законно отступали, она отстраняла и заглушала их без сожаления, с такой энергией, что заглушала себя и отказывала в самых естественных чувствах, если они напоминали… Епископ Высокой Церкви оставался потаенно внимателен к ней.
Русский пароход ушел из Макао совсем, к себе на север. Энн обрекла себя, больше надежды не было, и терпение ее иссякало. Затаив еще глубже тоску, от которой она не могла отказаться, она не смела заглушить в себе лишь самого нежного из чувств женщины… Но для всех она стала крепка, как камень. Она успокоилась, казалось бы, замкнутостью…
И вот, когда она стала так крепка, вдруг сегодня она не сдержалась, и все вырвалось с ужасной горечью и отчаяньем. Сначала вырвалось у него, и ее чувства детонировали от его бомбы, пороховой погреб взорвался, и все взлетело на воздух.
…А принимая Путятина и его свиту, отец восхищал всех, говоря с ними по-русски, со своим почти незаметным английским акцентом, который лишь слегка улавливала Энн, сама овладевавшая этим языком. Отец отделял окончания длинных русских слов, подымая тон при их произношении и тщательно выговаривая. Энн усвоила этот же акцент. Но когда говорили русские, их язык восхищал. Он изобиловал оттенками и был сильней любого из европейских по выразительности. Как глупо, что сами они тянут в него разные «альтернейшен» – противоположенное… и чем больше она вслушивалась, тем все слабей и слабей оставалась ее надежда.
Она сказала, что в Макао есть женский монастырь, что отец покидает колонию, а она хотела бы принять католическую веру. Элгин не ответил. Совесть человека свободна. Можно сделать это и в Австралии. Ход жизни приучил его к одиночеству, размышлениям и воспоминаниям. Он ходил, как одинокий селезень по газону в Сент-Джеймском парке, когда счастливые парочки плавали на прудах. Смысл жизни становился все ужаснее, и казалось – он обречен на одиночество. Впервые за все время знакомства он был перед Энн без притворства, которое его никогда до сих пор не покидало. В эту ночь они впервые стали говорить: он – без лицемерной игры в гуманность, а она – без фальшивой насмешки над его игрой. Он говорил, что хочет быть странником, пилигримом, самим собой.
– Я одинок и никому не в силах признаться, кроме вас. Вы решительно намерены переменить веру?
Слабое оживление проступило на ее милом лице, которое было прекрасным от скорби и от радости в этот вечерний час, в епископском саду, где так часто в эти дни звонили погребальные колокола.
– А вам нельзя уехать в Канаду?
– Нет, там все меня знают. Я был там губернатором. Кто же посмотрит на мое ничтожество иначе, как на прихоть, меня всюду знают и мне некуда деться.
Менять веру Элгин не мог по многим причинам. До разговора с Энн, среди стволов пальм, он готов был наложить на себя руки, если бы этим поступком не наложил пятна на нацию, занятую распространением торговли и цивилизации. Он не желал быть судьей своего народа и его обвинителем и давать повод к новому взрыву нападок на него, которых и так достаточно.
– Если было бы возможно куда-то уехать! Но я не могу уехать от самого себя. Я могу это сделать только с вами. – Пошло было бы добавить «ради вас»!
Как англичанка она готова бороться за его права, отстаивать справедливость, жертвуя собой, и спасать тех, кого обездоливали ее единокровные братья. Она готова спасать и тех, кто обездолил, погубил и обесчестил китаянок.
Джеймс задел в ней живую струну. Он увидел, что не может заглушить в ней боль. При всей ее готовности к подвигу и энтузиазму была какая-то причина, которая угнетала ее. Она чего-то долго и терпеливо решала и не могла решить, и ждала, и теперь боялась потерять надежду.
– Но я вам не все сказала, – призналась она снова. – У меня есть тайна.
– Что может быть ужасней моих собственных тайн! – воскликнул Джеймс. – Не рассказывайте мне, так же как вы вправе рассказать… И поступите как вы найдете нужным. Но я в вашей власти. И как только я доведу до конца начатое мною дело, каким бы ужасным оно ни могло показаться, я уйду…
– У меня есть тайна.
– В любом случае. Если это тревожит вас – сохраните ее. Если эта тайна такова, что ваш уход со мной принесет кому-то несчастье…
– Нет, нет, никому! Совсем не о том.
Он предполагал, что это может быть за тайна. Он помнил записку, которую он нашел у себя в каюте после ночного бала на пароходе.
Как вовремя напомнила она о русском пароходе, стоявшем в Макао. Ведь в то время, когда в Кантоне гибли все, Путятин ожидал весну, безмятежно жил в прекрасном городе, в сокровище мира, которому суждено оставаться вечно гордостью португальцев и китайского португализма. Явилось новое направление мыслям Джеймса. Он и прежде думал, что Энн побудила его понять все заново и действовать. Ради достижения цели он становился жесток. И нежней и человечней ради нее. Желала ли она ему при продолжении кампании действовать не так, как в Кантоне? Русский пароход стоял в Макао. Да, он еще в Кантоне подумал о предстоящей решительной встрече с графом Евфимием Васильевичем. Энн давала ему новые силы для продолжения разговоров с ним, и, может быть, явится новый смысл и не будет нужды снова проклинать себя и ждать, что твое имя упомянут в молитвах об избавлении от несчастий.
Она ни слова не говорила с ним о китайцах, как прежде, какой это могущественный и великий народ.
– Мне с детства казалось, что меня могут сделать каторжником и заставить работать под землей. Теперь я испытаю себя в самый трудный период нашей истории и за это своей волей пойду рубить породу и мыть пески. Я разбогатею своими руками, давая пример, как это делать и как торговать.
Элгин так привык жить воспоминаниями, что повторял и превращал в воспоминания то, что она только что сказала. Так он привык быть одиноким селезнем. «Русские ушли из Макао», и она разрыдалась. «Ушли совсем», а вот она рядом. Это воспоминание по привычке, выработанной от вечного одиночества мыслей. Она в таком же ужасном положении, как и я. «Австралия? Да. Я согласна». Джеймс не верил в такое счастье! Неужели и это лишь воспоминания, и слезы радости и признания? «Но вы не все знаете, у меня есть тайна. Могу ли я открыть ее вам или нет?..» «Неужели Энн полагает, что любая тайна, какой бы ужасной ни была, в силах переменить мое решение смирить отчаяние и разочарование в святости истинного благоразумия». Его ум долго был в каземате. Но не в безделье. Он придумал схему. Он должен подготовить и нанести два сильнейших удара со всей мощью, какую он в себе воспитал. Один – своему противнику и соперникам… Какое значение во всем этом имеет тайна молодой женщины! Как бы ужасна ни казалась ей самой и, может быть, даже была бы такой на самом деле, – она остается единственной надеждой и спасением А ее тайна обрекает ее надеяться лишь на него. Второй удар он готовился нанести по своей собственной жизни.
Когда схлынет страсть, а с ней стихнет гнев и порывы к стремлению на свободу, он еще подумает обо всем серьезно и не будет раскаиваться. В том, что произошло, – его спасение. Это как благословение его святейшества. Все должно было произойти в этом парке кокосовых пальм за дворцом и черных стрельчатых кипарисников у церкви. Так и случилось.
Я стар для нее. Она юна, а я посол и главнокомандующий. Но в современном мире нет старых и молодых, есть люди с деньгами и с умением вырабатывать их, а есть люди без средств и умения или с чем-то одним. Я останусь без титула, без поместий и озер.
Можно тихо гулять под приятную и спокойную музыку в епископском парке, и шаг может волновать и увлекать, как танец. Да и чем это не танец, и никто не осудит и не сделает замечаний, если души страдальцев потянутся на тур среди святынь, требующих смирения. На рауте у человека света и воспитания, такого, как Джонсон, бывают свои парадоксы. Тем более – во время победоносной войны, в колонии. И тут шаг может перейти в танец и можно уйти в стволы кокосовых пальм, как в колоннаду большого зала с лабиринтами.
Элгин шел по площадке около бассейна рядом с Энн и чувствовал, как боль стихает в его душе, как в нем разгорается страсть к наслаждению и свободе. Впервые в жизни чувства велят ему уйти, стать свободным викингом, а не рабом эры и лицемерия, без игры в приличия. А Энн – без насмешки над его игрой в гуманность.
– Я не боюсь труда, – повторял он, как помешанный. – Я буду трудиться и разбогатею, добывая золото. Я умею работать кайлом и лопатой. В Америке на золотых приисках я брал в руки эти инструменты старателей и ради популярности и демократизма, и ради спорта, но я еще тогда, будучи губернатором Канады, подумал, как в детстве, что неужели когда-нибудь попаду на каторгу за свои преступления, и тогда мне пригодятся мои приемы и умение держать тяжести, руки мои загрубеют и станут рабочими. И я подумал, что неужели только тогда я найду породу с необычайно высоким процентом содержания металла Да, я готов… Но до этого я должен быть в Пекине и довести дело до конца. Будь то переговоры, война или переворот. Я могу отказаться от всего. Но я не могу отказаться от самого себя и всегда помню и буду помнить, что я – англичанин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































