Текст книги "Отцовский крест. Острая Лука. 1908–1926"
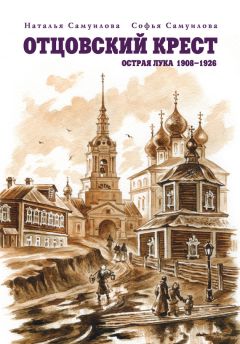
Автор книги: Софья Самуилова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Глава 29
Отец и дети

Чем старше становились дети, тем сдержаннее отец Сергий с ними обращался. Зато как ценили они его скупую ласку – необычную нотку в голосе, как бы мимолетный взгляд, легкое прикосновение руки; впоследствии, в письмах – оборот речи, ничего не говорящий другим, но в котором им чувствовалась тоска по ним, любовь, тревога.
В этот период ласковее всех он был с Наташей, точно старался вознаградить ее за отсутствие материнской любви и ласки, да и вообще за бедность чисто детских радостей, доставшихся ей на долю. У нее почти не было игрушек, кроме оставшихся от старших детей, по большей части поломанных. Она не помнила веселых, нарядных елок, на каких играли старшие. Правда, и те мелкие удовольствия, которые случалось доставить ей, благодаря своей неожиданности, запоминались надолго. На Рождество 1920 года, первое Рождество после смерти Евгении Викторовны, было решено устроить для Наташи елку. Вечерком Миша сходил за село в молодой сосняк, срезал небольшую ветвистую сосенку и, дождавшись, пока почти совсем стемнело, незаметно принес ее через огород и спрятал в сарае. Сделал это так, чтобы кто-нибудь из соседей не заметил и не разболтал прежде времени, испортив этим общую радость. Две коробки елочных игрушек хранились в чулане от прежних лет; их тоже незаметно вынесли и, выбрав более интересные, украсили елку. Нашли несколько нарядных оберток от конфет и, завернув в них аккуратно вырезанные кусочки твердого засахарившегося меда, повесили туда вместе с золоченым орехом, случайно завалявшимся в бабушкиной коробочке для пуговиц. Приготовили даже настоящие подарки – Сонино «Задушевное Слово» за 1910 год и уложенные в пестрый шелковый мешочек обломки цветных карандашей – сокровище, принадлежавшее мальчикам. Кроме того, Миша склеил из картона домик со стеклами из желтой и розовой папиросной бумаги. Если внутрь домика вставить зажженный огарок, окна будут светиться как настоящие. Отец Сергий купил в церкви несколько восковых свечей, их разрезали и укрепили на ветках.
Готовая елка стояла в запертом под каким-то предлогом на замок сарае и ожидала того момента, когда ее внесут в дом и зажгут. Но как нарочно Наташа в этот день читала новую книжку, принесенную от Смирновых, и ни за что не хотела идти гулять. Напрасно все по очереди уговаривали ее пойти хоть на полчаса, хоть на десять минут, она не могла оторваться от интересных сказок. Пришлось Юлии Гурьевне послать ее с поручением в сторожку. Девочка пошла неохотно, чуть не со слезами, и вернулась раньше, чем рассчитывали старшие. Впрочем, заставу на всякий случай они поставили. На песке, прямо около входной двери, сидел отец Сергий и звал Наташу к себе.
– Пойдем сюда, посумерничаем!
Сумерничали недолго. За закрытой дверью передней комнаты раздался кашель, и папа вдруг попросил:
– Наташа, слезь, отрежь мне пирога с вороняжкой!
А потом, не дав ей дойти до стола, на котором лежал вкуснейший пирог, начиненный залитой сметаной сушеной вороняжкой, посоветовал:
– А ну-ка, загляни в щелку в комнату, посмотри, что там делается.
Там сверкала небольшая нарядная елочка. Наташа вошла в комнату и остолбенела от восторга. Рассматривая давно знакомые, но сейчас преобразившиеся игрушки, она стояла до тех пор, пока не стукнула входная дверь. Это пришли соседи, Шурка Бекетов и Катя Морозова, и, взявшись за руки, тоже уставились на елку. В тесной комнате бегать и играть вокруг елки дети не могли, но и так было необыкновенно хорошо.
Отец Сергий много времени уделял младшей дочурке, играл с ней, рассказывал разные истории, с серьезным видом представлял, как говорит испорченный граммофон.
– Пш-ш-ш… др-р-р… попрыгунья стрекоза… пш-ш-ш… лето красное… др-р-р… красное пропела… у-у-у-у… др-р-р…
Он говорил странным, скрипучим голосом, точно вылетавшим из помятой граммофонной трубы, шипел, дребезжал, завывал. Наташа хохотала, забиралась к отцу на колени, трепала и тормошила его, и вдруг начинала целовать без конца.
Отправляясь куда-нибудь в конец села по делу, отец Сергий почти всегда брал с собой Наташу. Так все и привыкли видеть их вдвоем. Отец Сергий, серьезный, задумчивый, широко шагал, опустив голову, занятый своими мыслями, а Наташа, согнув руку крючком, чтобы не отстать, по локоть запустив этот крючок в отцовский карман, семенила рядом и тараторила, рассказывая о всех своих делах, обо всем, что случилось сегодня с ней и ее подругами. Отец Сергий то слушал молча, то вступал в оживленный разговор. Иногда переходили на серьезные «научные» темы.
– Ты знаешь, какие большие города расположены по Волге? – спрашивал отец.
Знаю. Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань.
– А как узнать, на правом или на левом берегу они расположены?
– Не знаю.
– Очень просто. Города с окончаниями мужского рода находятся на правом берегу, а с окончаниями женского рода – на левом. Ну-ка, на каком берегу расположена Казань?
– На левом.
– А Саратов?
– На правом. И правда. Мне тетя Саня говорила, что в Саратов нужно через Волгу переезжать. А Самара на левом. А Хвалынск опять на правом. Я знаю.
Шутя в семье называли Наташу «папиной дочкой», но это никого не обижало и не огорчало, как в некоторых семьях, где дети резко делятся на любимых и нелюбимых. У отца Сергия хватало любви на всех, и у каждого из детей были свои точки близости к отцу. С Соней, как самой старшей, он часто и вполне серьезно, как с равной, советовался и нередко поступал по ее совету. Может быть, в некоторых из этих случаев вопрос ставился так, что на него был возможен только один ответ, но девушка привыкла обдумывать и решать, у нее развивалась самостоятельность и чувство ответственности. Постепенно к этим совещаниям стали привлекать и мальчиков. Были и другие темы разговоров, с каждым о том, что его интересовало.
Но особенно все они: и дети, и отец – ценили задушевные общие разговоры, происходившие чаще всего по вечерам, иногда около кровати, на которой он отдыхал, и завязывавшиеся как бы стихийно, по какому-нибудь незначительному случаю. Начало таким разговорам было положено еще давно, в восемнадцатом году, когда не было керосина и всей семьей подолгу сидели вечером в зале на диване, «сумерничали» – а кто-нибудь из родителей рассказывал о своем детстве или о других интересных моментах жизни. Уже тогда случалось, что рассказ переходил в наказ: как жить, как держаться в разных обстоятельствах. Чем старше делались дети, тем серьезнее становились темы этих разговоров.
– Запомните, детки, – говорил отец Сергий, в то время как Наташа, забравшись за его спину, трудилась над его прической, а остальные трое как попало сидели вокруг и внимательно слушали. – Всякое порученное вам дело нужно выполнять добросовестно, как только можете лучше, а не так, как у некоторых получается, лишь бы скорее, лишь бы сбыть, авось не заметят. Особенно, если обещали людям сделать что-то. Нельзя обманывать доверия людей, нельзя, чтобы потом на вас плакались за недобросовестную работу, – и перед людьми стыдно, и перед Богом грешно. Всегда все нужно делать так, как делали бы для себя, так хорошо, как только позволяют силы и уменье.
Правда, бывают иногда и такие дела, на которые время тратить жалко… например… ну, хоть дорожку в снегу прочистить. Да и то, если это между прочим, для себя, можно быстренько раскидать снег, лишь бы пройти. А если это входит в ваши обязанности, если вы нанялись дорожки чистить, тогда и такие мелочи нужно делать, как следует.
Зато случается, что ради исполнения своей обязанности приходится и жизнью рисковать, как врачи в эпидемию, как солдаты на фронте, как священник, позванный к умирающему, – в любую погоду, не боясь попасть под пулю, не думая, что может заразиться опасной болезнью.
В другое время он говорил об истинной храбрости, об истинном мужестве. Они не в том, чтобы бросаться в опасность ради опасности, – ни с того ни с сего поехать в бурю на лодке, прокатиться на бешеной лошади, пробежать босиком по снегу только ради того, чтобы доказать товарищам, что ничего не боишься. Это не храбрость, это бессмысленное удальство. Мало того, оно иногда приближается к трусости, если подобные вещи проделывают потому, что товарищи поддразнивают: «А вот и не сделаешь! Струсишь!» Некоторые таким образом приучаются курить, пить, связываются с нехорошими компаниями ради того, чтобы про них не говорили: «Девчонка, маленький, отца боится!»
В таких случаях гораздо больше мужества надо, чтобы не обращать внимания на насмешки и твердо заявить: «Я делаю только то, что считаю правильным, и только тогда, когда считаю это нужным». Такой человек, привыкший управлять собой, не отступит и перед самой серьезной опасностью, когда это действительно потребуется, особенно, если нужно будет помочь другим. Вот это и есть настоящее мужество, которое гораздо ценнее простой удали или отваги.
Иногда, как бы между прочим, поднимался и вопрос об излишней самоуверенности, о привычке загадывать вперед, самоуверенно строить планы. «Сделаю то, другое, третье…» – а может быть, ты заболеешь или что-нибудь помешает… Задумав какое-то дело, надо стремиться и выполнить намеченное, но всегда при этом не только говорить, а и чувствовать: «Если Бог даст», «Если живы будем».
– В жизни нужно быть готовым ко всему, – говорил он при следующей беседе, – ко всякой неприятности, ко всякому горю. Если беда настигает человека неожиданно, неподготовленного, переносить ее гораздо тяжелее. Случается, человек не выдерживает, впадает в отчаяние, начинает пить, опускает руки и отказывается от всякой борьбы с жизнью, а то даже и с собой кончает. Все это следствие слабости, несобранности. Вот, например, когда умирала мама, было очень тяжело, но если бы мы не подготовились к мысли о ее смерти заранее, то было бы и еще тяжелее. И о вас я часто думаю, о вашей дальнейшей судьбе. Может быть, кто-нибудь из вас тяжело заболеет, умрет… Самым большим горем для меня было бы, если бы кто-нибудь из вас стал безбожником (при одном таком предположении голос отца Сергия срывался), но я и к этому готовлюсь…
– Ну, папа, не надо, не говори так, – обиженно прерывал Миша, а Костя добавлял:
– Никогда этого не будет.
Подобные беседы глубоко запали в души подростков, потому что они знали, – это не простые рассуждения, а выводы из всей жизни отца, подтвержденные бесчисленными фактами, и мелкими, и более серьезными, и такими, которые могли кончиться трагически.
Много раз слышали дети о первом годе служения отца Сергия в Острой Луке, о зиме 1906–1907 гг. Тогда был недород, люди голодали. По селам организовывали столовые, но средств, отпускавшихся на них из земств, не хватало. Тогда отец Сергий написал воззвания в газеты с просьбой о пожертвованиях; в воззвании он упомянул о случае смерти от недоедания или, может быть, как тогда называли, от «голодного тифа». В этом году духовенство часто помещало подобные воззвания, но, значит, было что-то в письме молодого священника, если оно произвело большее впечатление, чем другие. Сам отец Сергий скромно объяснял это чистой случайностью, тем, что его письмо попало в руки какому-то газетному работнику, который в своей статье «поднял шум на всю Россию, дескать, в Острой Луке голодный тиф! Ну, и посыпались пожертвования!»
Присылали небольшие суммы, хотя по тем годам, может быть, и довольно чувствительные для жертвователей: рубль, пять рублей, редко больше, но таких сумм поступало много. Раз в неделю отец Сергий с одним из своих помощников по кормлению голодающих ехал в Хвалынск на почту. Там ему давали целую пачку переводов, и он усаживался расписываться. Получив деньги, отправлялись закупать продукты: муку, крупу, горох, мясо и вплоть до перца и лаврового листа. В селе распределяли продукты по кухням, которых было несколько, снятых у крестьян в разных концах.
Следили, чтобы поварихи и пекари, выпекавшие хлеб, не воровали, чтобы обеды были вкусные.
В некоторых из присланных переводов жертвователи выражали желание, чтобы присланные деньги отдавались по специальному назначению: «самому нуждающемуся», «самому многосемейному», «самому благочестивому». Определить, кому должна попасть помощь, особенно в последнем случае, было еще труднее, чем составить список питающихся в столовой, тем более что сам отец Сергий еще плохо знал людей. Эти вопросы решались с участием попечителей и других «стариков».
Такое начало служения сразу сблизило молодого батюшку с селом, не только с его прихожанами, но и со старообрядцами.
А в 1909 году вспыхнула эпидемия холеры. Тут обязанности священника яснее – исповедовать и причащать больных, отпевать умерших, – но гораздо опаснее. Евгения Викторовна, дрожавшая и за мужа, и за дочь, строго следила, чтобы, возвращаясь домой, отец Сергий тщательно умывался раствором сулемы, переодевался в сарае и только тогда входил в дом.
Кроме больных, приходилось иметь дело и со слухами, с теми, о которых так метко сказала в свое время писательница, процитированная Лесковым: «Одни представляли ее (холеру, – ред.) себе в виде женщины, отравляющей воду, другие – в виде запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей»[25]25
С. Смирнов («Новое время», 18 ноября 1892 г.) – Н.С. Лесков «Импровизаторы».
[Закрыть].
Спустя семнадцать лет после печальной памяти холерных бунтов, опять ползли те же слухи: кто-то отравляет воду, врачи не лечат, а морят; ради прекращения заразы попавших в больницу хоронят живыми. Иначе для чего же требуют, чтобы умерших хоронили в закрытых гробах и могилы заливали известью? Случалось, что к батюшке специально приходили люди, шепотом рассказывали о новых слухах и спрашивали, правда ли это. Хотя разговоры не принимали тех грозных форм, как во время предыдущей эпидемии, бороться с ними было необходимо.
Многие еще помнили убийство в Хвалынске доктора Молчанова, которого в 1892 году толпа выбросила из окна больницы со второго этажа и растерзала. Настроения, приведшие к зверской расправе, так и не исчезли окончательно. Еще несколько лет спустя, примерно в 1912–1913 гг. отец Сергий встретил на пароходе старика, возвращавшегося с каторги, куда он был отправлен за участие в этом убийстве. Старик продолжал считать себя героем, пострадавшим за правду; он с воодушевлением рассказывал все подробности события; около него собралась толпа, явно ему сочувствовавшая. А что бы могло получиться, если бы такой агитатор появился в разгар эпидемии…
Отец Сергий, кажется, во все время эпидемии не забывал о судьбе доктора Молчанова. Летом 1909 года в Острой Луке, как и в других селах, не имеющих постоянной больницы, жила группа студентов и студенток, возглавляемая врачом; они делали прививки, ухаживали за больными. Народ как будто доверял им, но в «бараки» – специально приспособленные для больных помещения – шли неохотно; а темные слухи все ползли. Все свое влияние, завоеванное в голодный год, молодой священник употреблял на борьбу с этими слухами.
Голод и холера – страшные, но нечастые «гости», а пожары – враг постоянный. На них тоже не обходилось без батюшки. Едва слышался набат, он надевал что похуже и бежал к месту пожара. Скоро он приобрел опыт в организации тушения. Его слушали все. Это было очень важно, потому что часто борьба с огнем шла плохо лишь из-за того, что было слишком много командиров, дававших противоречивые указания.
Но если отец Сергий распоряжался, это не значило, что он стоял в стороне. Нет, он работал наравне с другими, и у насоса, и с багром, и с лопатой. Особенно запомнился один случай: загорелась солома на гумне. Несколько ребятишек устроили шалаш из соломы и надумали печь там яблоки. Шалаш запылал, за ним загорелось все гумно; они убежали и спрятались под амбаром, а не в закоулках гумна, где могли бы сгореть и сами. На сильное пламя, на отчаянный зов в два колокола примчались помощники из соседних сел. Всего собралось четыре насоса.
Борьба с пожаром подходила к концу, но ветер от догоравшего пожара тянул на соседний, его напряженно отстаивали. Отец Сергий стоял на верхушке омета, которому грозила опасность, сбрасывал и тушил попадавшие на него клочки горящей соломы.
– Батюшка, горячо? – кричали ему снизу.
– Хорошо, – отвечал он.
Внизу поняли его слова, как «горячо», и освободившиеся насосы с двух сторон начали поливать его, чуть не сбивая струей с ног. Промочили его до нитки, и так обильно полили всю вершину омета, что там уже не могло загореться. Зато сбоку, там, где нельзя было достать ни сверху, ни снизу, появилось пламя. Недолго думая, отец Сергий скатился туда, и пламя, зашипев, погасло, примятое его мокрой одеждой. Внизу было полно соломы, и он не ушибся, зато домой возвратился черный, закопченный, весь облепленный горелой соломой, и вода стекала с его подрясника.
А Соня вспоминала давнишний случай совершенно иного рода.
В семье строго соблюдался обычай прощения в Прощеное воскресенье. Утром, после обедни, отец Сергий просил прощения у прихожан, потом к нему приходили кое-кто из близких: псаломщик Николай Потапыч, сторожиха, некоторые другие. Перед сном он прощался с женой, дети просили прощенья у родителей и друг у друга. Когда они были маленькими, это получалось легко, само собой, но, подрастая, Соня, а за ней и мальчики, начали стесняться и вечером старались попозднее лечь спать, чтобы пересидеть других, то есть чтобы не они, а у них просили прощенья. А однажды Соня почувствовала, что она не сможет подойти и к родителям. Она ушла в «мамину» спальню, самую отдаленную от столовой, где собиралась по вечерам семья, села на кровать и долго сидела в темноте, стараясь преодолеть себя. Она слышала, как били часы в зале, как в столовой отодвинулись сразу два стула, – по-видимому, мальчиков послали спать. Они помолились, простились с родителями, одновременно попросили прощения друг у друга, одновременно пришли к ней. Уже полгоря должно бы свалиться с плеч, но Соня чувствовала, что ей стало еще труднее.
В столовой молчали или перебрасывались отдельными фразами, которых нельзя было разобрать; иногда отодвигался стул, тогда Соня замирала при мысли, что это папа собирается спать. Она вполне понимала значение прекрасного обычая, боялась, что ей не удастся выполнить его и… не могла побороть себя. «Сейчас, только дождусь, когда пробьют часы, и пойду», – говорила она себе. Но часы били раз, второй, а она все сидела. Вдруг она услышала тихие осторожные шаги, шаги человека, попавшего из яркого света в темноту, и тоже тихий, как будто взволнованный голос отца:
– Соня, где ты?
– Здесь.
Отец Сергий сел на кровать рядом с дочерью и сказал дрогнувшим, проникновенным голосом:
– Соня, прости меня, если я тебя чем-нибудь обидел!
– И ты меня прости.
Соня уткнулась головой куда-то в плечо отца и почувствовала, что на глазах у нее слезы, а с сердца исчезла весь вечер мучившая ее тяжесть. И как она любила сейчас своего папу! И как легко и от души попросила прощения у матери, когда, просидев с ней несколько минут, отец Сергий поднялся и по-прежнему тихо сказал:
– А теперь иди к маме!
В последующие годы Соню никогда не тяготила мысль о прощенье, она даже старалась первой подойти к братьям.
Много, очень много говорил отец Сергий и о том, каким должен быть священник, каким он хотел бы видеть своих сыновей. Тут были и теоретические рассуждения о высоте пастырского служения, и чисто практические советы, касающиеся иногда и мелких случаев жизни.
Такие разговоры Соня слушала с некоторой завистью. – Что же мне делать, ведь я не могу быть батюшкой, – как-то высказалась она.
– Зато можешь быть матушкой, – ответил отец.
Такой ответ не удовлетворил девушку. Куда интереснее было бы стать священником. Тогда она не думала, что не она первая и не она последняя высказывает такое пожелание. Лет десять спустя ей пришлось слышать, как шестилетняя девочка повторила ту же мысль в более категоричной форме:
– Буду или Владыкой, или отцом Константином!
Для Наташи подобные разговоры были еще слишком серьезны, и, присутствуя при них, она чаще всего занималась приведением в порядок (вернее, в беспорядок) отцовских волос и бороды. Ей больше подходили вопросы, поднимавшиеся по утрам в сторожке. В 1920 22 гг. было запрещено преподавание Закона Божия в школах, но о частных занятиях ничего не говорилось, и отец Сергий, за час до начала уроков в школе, занимался с желающими в сторожке. Частенько он брал с собой Наташу, которая и по возрасту, и по развитию была ближе к этим ученикам. Занятия проходили оживленно, отец Сергий больше заботился не о том, чтобы ученики уроки заучивали, а о том, чтобы до них доходила суть его объяснений. И иногда его вопросы проникали в глубину детского сердца.
– Как быть, – спросил он однажды, – если вы еще не помолились утром, а мама уже горячие лепешки подала?
Такой вопрос стоил десятка проповедей. Все, конечно, понимали, как ответить на этот вопрос: невзирая ни на что, следует молиться внимательно и не торопясь. Но горячие лепешки! Только в возрасте 8-12 лет можно ясно представить, какой это соблазн. Впрочем, и у взрослых тоже есть у каждого свои «горячие лепешки».
Пришлось как-то Наташе выдержать искушение и посерьезнее.
Время от времени в школе силами учителей и примыкавшей к ним молодежи ставились спектакли. Пьесы выбирались случайные, по большей части довольно легкомысленные и без особых художественных достоинств. Отец Сергий обычно говорил о них:
– Это все ерунда. Вот если бы поставили Гоголя «Ревизора» или «Женитьбу», тогда можно бы и Наташе пойти.
И Наташа привыкла к мысли, что, когда поставят Гоголя, она пойдет на спектакль.
Как на грех, «Женитьбу» поставили накануне Крещения. На этот раз даже Юлия Гурьевна заколебалась.
– Сергей Евгеньевич, может быть, можно Наташе один-то раз, в виде исключения, сходить? – не то задала вопрос, не то попросила она. – Очень уж она ждала.
– А ты сама как думаешь? – обратился отец Сергий к дочери.
Как думаешь! Ведь так хотелось бы пойти! Если бы папа просто не пустил ее, возможно, Наташа бы и заплакала. Но он спросил: «Как думаешь?» А тут и думать-то особенно нечего. Вполне ясно, что как бы ни хотелось, ответ может быть только один: «Нельзя!» Как-то отец Сергий, выйдя из дома, увидел, что Наташа с подругами занялись важным делом: дразнили соседнего мальчишку, маленького, толстенького Терешку Они с увлечением прыгали вокруг него и напевали:
– Терька дурак! Повадился в кабак!
Отец Сергий нахмурился. Наташа, во-первых, дразнилась, во-вторых, кричала: «Дурак», а это слово он еще несколько лет назад распорядился «вычеркнуть из лексикона». Это был один из немногих случаев, когда улица победила его. Несколько времени дети выполняли распоряжение отца, но вскоре находчивый Костя придумал удобный вариант; дети стали говорить друг другу: «Ты то слово, которое папа велел вычеркнуть из лексикона». Потом, понемногу, с осторожностью, «то слово» опять начало, хоть и редко, появляться в лексиконе, а вот сейчас Наташа кричала его на всю площадь. Да не просто кричала, а дразнила малыша.
Отец Сергий остановился и позвал: «Наташа, поди сюда!» А когда она подошла, сказал тихонько: «Не надо, нехорошо!»
Как это ни странно покажется со стороны, от этих слов Наташа почувствовала даже гордость: папа дал ей прямое распоряжение, сам сказал: «Нехорошо!»
– Пойдемте еще как-нибудь поиграем, – позвала она подруг, – папа не велит дразниться.
Всякие бывают неприятности. Однажды Наташа перешибла дверью ногу цыпленку. Он заболел, и его несколько дней держали в комнате. Этот «больной» захотел выскочить в открытую дверь, в которую вихрем ворвалась Наташа, и, конечно, пострадал. Да еще и Наташе доставил несколько неприятных переживаний.
– Кто-то цыпленку ногу перешиб, – сказала через некоторое время Юлия Гурьевна. – Наташа, ты не знаешь, кто?
– Не знаю.
– А не ты?
– Я нечаянно. Бежала, а он подскочил. Я и не видала. Бабушка внимательно посмотрела на девочку.
– Всегда нужно говорить правду, Наташенька, – сказала она. – Если ты сделала это нечаянно, тебя никто ни бранить, ни наказывать не будет. Но нужно говорить правду.
Эти короткие разговоры надолго запоминались, оставляя след в характерах детей, направляя их воспитание именно потому, что слова эти всегда подтверждались делом. А был один случай, в нескольких словах объяснивший юной воспитательнице Соне (ей тогда было 16 лет) одну основу воспитания, которой придерживались отец Сергий и Юлия Гурьевна.
Раз вечером Наташа что-то раскапризничалась. Соня, из-за требования которой разгорелся сыр-бор, попробовала добиться своего, попробовала успокоить девочку, потом пригрозила:
– Если ты не перестанешь плакать, я с тобой весь вечер не буду разговаривать.
Наташа продолжала плакать. Плач становился все жалобнее.
– Все на меня, все на меня, – всхлипывала она.
Соня, знавшая, что сестренка употребляет эти слова только в моменты крайнего расстройства, не выдержала и обратилась за советом к бабушке.
– Я знаю, ей сейчас кажется, что ее никто не любит. Как же мне быть?
Юлия Гурьевна сама разволновалась.
Нельзя сейчас заговаривать, раз ты обещала молчать, – дрожащим голосом сказала она. – А на будущее помни, как сказал Спаситель, – да не зайдет солнце во гневе вашем. Ты, конечно, на нее не сердишься, а все-таки, когда грозишь чем-нибудь, нужно быть осмотрительнее.
Описанные в этой главе не столько события, сколько чувства и настроения, в основном относятся к периоду 1920–1925 гг. Через полтора-два года после смерти Евгении Викторовны у отца Сергия время от времени начала вырываться фраза:
– Видите, детки, как Господь пожалел нашу маму. Как ей терпеть было бы тяжело. Она не только за себя, а за всех нас страдала бы, а мы за нее.
Шел голодный 1922 год. О нем нельзя говорить мельком, между прочим, нельзя вырвать без связи один-два факта и промолчать об остальных. Если писать обо всем подробно, о фактах и переживаниях, этого хватит на целую большую книгу. Беда в том, что если бы и хватило сил и уменья написать ее, – а чтобы по-настоящему сделать это, нужно иметь недюжинный талант, – все равно у этой книги мало бы оказалось читателей, слишком бы она была тяжела. Да и не хватит ничего: ни уменья, ни сил. Такое два раза нельзя переживать, сердце не выдержит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































