Текст книги "Отцовский крест. Острая Лука. 1908–1926"
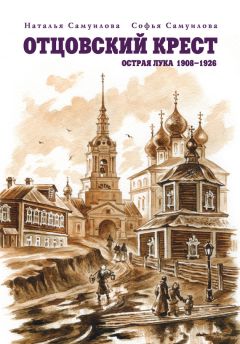
Автор книги: Софья Самуилова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
– Значит – судьба! – торжественно произнес отец Сергий и написал на обороте письма: «Получено 17 августа, накануне дня собрания, когда уже поздно было писать. Вижу в этом Промысел Божий на то, чтобы дело решилось безо всякого моего участия».
Несмотря на то, что один из трех кандидатов присутствовал на собрании, а другой прислал заявление и только от отца Сергия не было ничего, избранным оказался он. Вернувшись в Пугачев, Козлов так расхвалил несговорчивого кандидата, что сразу привлек на его сторону большую часть прихожан. После стало известно, что, не дождавшись его письма, решили отложить собрание и, напрасно прождав еще неделю, все-таки выбрали его. Епископ Павел утвердил постановление собора и прислал указ о переводе.
Отец Сергий не имел привычки скрывать от прихода ни личных, ни церковных дел, особенно последних. О всякой заслуживающей внимания новости он рассказывал, а то и объявлял с амвона. Так было и с переводом. Правда, о первой открытке, которой сам не придал значения, он говорил мало, зато о посещении Козлова, естественно волновавшем его, говорил многим. И еще задолго до получения указа о переводе, в селе начались разговоры об одном. «Правда, что батюшку переводят?» – спрашивал то один, то другой, останавливая самого отца Сергия или кого-нибудь из его семьи. Спрошенный подробно описывал положение дела. Затем начинались предположения: так, почему, будет ли в Пугачеве лучше или хуже?
– Говорят, наш батюшка теперь архиереем стал. Ему уже нельзя в селе жить.
– Не архиереем, а протоиереем, и не сейчас, а в прошлом году, – поправляли более сведующие.
– Ну все равно, значит, поэтому.
Друг отца Сергия, Сергей Евсеевич, узнав о полученном указе, неожиданно заговорил тоже о том, что ставшему протоиереем отцу Сергию «низко» оставаться в небольшом селе, что город больше подходит такому видному человеку, что и дети подросли, учить надо, а в Острой Луке как-нибудь обойдутся, пожили вместе и ладно, не солнышко, всех не обогреешь. Для Острой хватит и Субботкина, недаром тот уже ходит по гумнам и поит народ, подготовляет себе сторонников… Его голос дрожал от волнения и, против обыкновения, в нем чувствовалась язвительность.
Отец Сергий молчал, давая ему высказаться. Он понимал, что предстоящая перемена должна была затронуть и взволновать Сергея Евсеевича больше, чем кого-нибудь. Он страдал вдвойне: как человек, теряющий друга и духовного руководителя, перед которым с юных лет привык раскрывать все изгибы своей души, веря, что всегда получит беспристрастный и бескорыстный совет, и как председатель церковного совета, которому в первую очередь придется вступать в столкновения с новым священником, если тот будет действовать неправильно.
Отец Сергий понимал скорбь друга, а поняв, терпел и то, что его волнение перешло в раздражение, давал ему высказаться, чтобы он, успокоившись, сам понял свою неправоту.
И, прождавши, сколько ему казалось нужным, отец Сергий наконец перешел в наступление: «Ну хорошо, no-твоему мне самому захотелось перейти в город. Пугачевцам тоже хотелось иметь меня у себя, иначе зачем бы они хлопотали. А вы-то что же молчали? Хотели, чтобы архиерей оставил меня здесь, а сами, не то что человека послать, даже и письмом не собрались попросить об этом. А почему он знает, может быть, вы рады от меня избавиться?»
Сергей Евсеевич широко открыл глаза.
– А ведь и правда! Как это мы не догадались? Как же вы не подсказали?
– Разве я могу подсказывать в таком деле? Нужно было самим думать.
– А если мы сейчас напишем?
– Нет, это не в мячик играть, такое дело епископ решает только один раз.
– Он прав в том отношении, – сказал отец Сергий, когда Сергей Евсеич ушел, – что епископ, решая вопрос о моем переводе, не принимал во внимание интересов Острой Луки. Но и здесь никто не додумался просить о моем оставлении. Это я считаю лишним доказательством того, что мой перевод произошел по воле Божией. А о Субботкине нужно подумать. Это серьезная опасность.
Наступило воскресенье, когда отец Сергий должен был служить последнюю литургию. В этот день в маленькую церковку, построенную на месте сгоревшей, набилось столько народу, сколько набивалось только в большие праздники. А как щемило сердце у всех, начиная с самого батюшки и кончая дряхлой полуслепой старушкой, с трудом протиснувшейся в уголок около двери.
Вот уже служба подходит к концу. Вот уже в обычное время отец Сергий, приложившись, как всегда, к правому углу престола, выходит говорить проповедь. Но на этот раз сторож Ларивон не ставит перед ним аналоя и он виден во весь рост: худощавый, стройный, в аккуратно сидящем поношенном облачении, с аскетическим лицом и покрасневшими от бессонницы, а может, и от тайных слез глазами. Он изо всех сил сдерживает себя, но эти люди, изучившие каждый его жест, знавшие, когда и почему пролегла на его лице та или другая морщинка, – видели, как он волнуется, и его волнение передавалось им, и они ждали его слова, как ждут завещания умирающего отца.
– Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, – как и всегда, начал отец Сергий.
Лес рук с чуть слышным шорохом взметнулся следом за его рукой, творя крестное знамение, и опять все затихло.
– Сегодня я служу здесь последнюю службу, – продолжал отец Сергий и остановился, потому что ему неожиданно стало не хватать дыхания. В толпе послышались рыдания, и, как ни странно, это вернуло ему самообладание. Он всегда восставал против рыданий, а тем более причитаний в церкви, хотя бы во время похорон. Он считал, что не всегда можно удержать слезы, но взять себя в руки и не нарушать тишины, благоговейного порядка, не расстраивать других всегда можно и должно. Тем более, что некоторым плачущим и не особенно трудно сдерживаться: они начинают плач ради приличия, ради своеобразного хорошего тона. И поэтому отец Сергий сказал коротко и властно, как говорил обыкновенно на похоронах:
– Прекратите!
Рыдания прекратились.
– Сегодня я служу последнюю службу здесь, где прослужил уже двадцать лет… – снова начал отец Сергий.
Он сказал, что за эти двадцать лет они столько пережили вместе: войну, голод, эпидемии и много другого. На их глазах он схоронил жену и детей, и в жизни каждого из них было много событий, и печальных, и радостных, которые известны ему и в которых он, как священник, даже принимал участие. Многие – состарились, все они ему как родные, больно оставлять их, как своих детей, хотелось бы и самому умереть здесь.
– По вашим лицам я вижу, – продолжал он, – что и вам жалко расставаться со мной, что и вы любите меня. И вот я говорю вам словами, которые сказал Господь наш Иисус Христос Своим ученикам в прощальной беседе: «Если любите Меня, заповеди Мои соблюдайте!» Заповеди эти известны, они не мои, – говорил отец Сергий, – а Спасителя, о них я постоянно повторял вам и в проповедях, и лично, в частной беседе. Но сейчас я особенно имею в виду одно: вы остаетесь без священника, епископ разрешил вам самим подыскать такого, который согласился бы пойти сюда, но это-то и опасно. Нужно действовать так, как предписывают церковные правила, подчиняться которым я всегда учил вас, да, впрочем, вы и сами понимаете их значение.
Нужно найти священника православного, незапрещенного и обратиться к епископу за указом о его переводе, а без этого не допускать до служения даже на один раз. А то сейчас много таких, которых епископ за какую-нибудь вину запретил в священнослужении, или им просто не понравилось на старом приходе, и вот они ездят и ищут себе места. Случается даже, по домам ходят, подпаивают и уговаривают принять их, а когда уговорят, советуют не торопиться ехать к архиерею. «Вот поживем, посмотрим, узнаем друг друга хорошенько, а там, когда будет случай, и съездим, чтобы зря не расходоваться».
А об этом вот что сказано в апостольских правилах. В правиле 39-м говорится: «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают, ибо ему вверены людие Господни и он воздаст ответ о душах их». А в правиле 15-м сказано: «Аще кто пресвитер или диакон… оставив свой предел во иной отыдет, и совсем переместясь, в другом жити будет без воли епископа своего, таковому повелеваем не служити более».
А в Требнике, в сказании, какову подобает быти духовнику, сказано еще строже: «Аще кто без повеления местного епископа дерзнет приимати помышления исповеди, таковый по правилам (слав, правильно) казнь (т. е. наказание) приимет, яко преступник божественных правил. Ибо не точию себе погубил, но и елика у него исповедашеся, не исповедани суть, и елицах связа или разреши, не исправлени суть».
– Вот до чего можно дойти, – заключил отец Сергий, – встав на эту дорожку. А если только допустить такого лжесвященника временно, потом попробуй от него избавиться; на примере некоторых соседних сел известно, как это трудно.
Не рыдания, а тихие слезы, сверкавшие чуть не на всех глазах, когда он вспоминал пережитое вместе, позволили отцу Сергию заговорить о выполнении его заветов, «если любите меня». Все слушали с напряженным вниманием, не отрывая глаз от оратора, не оборачиваясь. Даже сам отец Сергий ни разу не взглянул в дальний правый угол, где среди старух стоял Субботкин, но все чувствовали, что его дело проиграно.
Отец Сергий уже кончал проповедь. Он говорил о взаимных недоразумениях и неприятностях, которые бывали не раз за долгий срок их совместной жизни, о том, что в своих требованиях, какими бы тяжелыми они ни казались, он всегда думал только о пользе людей; если на него обижались, значит, он, может быть, не сумел как следует разъяснить своих требований, не сумел достаточно мягко убедить в их правильности. Может быть, в своих частных отношениях он кого-нибудь обидел, у кого-нибудь осталась против него горечь или скрытое неудовольствие… слова почти стандартные, повторяемые с некоторыми изменениями каждое Прощеное воскресенье, но в них была особенная теплота и искренность. И высохшие было слезы опять потекли по лицам оратора и слушателей, и никто не обращал на это внимания, – это казалось таким естественным…
– Простите меня, как и я вас всех прощаю.
Церковь была набита до отказа, так что почти нельзя было креститься. И трудно понять, как сумели все эти люди рухнуть на колени в ответ на земной поклон священника. Поднимались медленно, с трудом, и, подходя к кресту, вытирали мокрые от слез лица, а иные даже и не вытирали, не замечали, так и шли. Вдоль задней стены образовался узкий промежуток, и по нему из дальнего правого угла пошел к двери человек в черном пиджаке – Субботкин. Ушел совсем!
Недаром Сергей Евсеевич так расстроился, когда перевод состоялся. Как он и думал, именно ему пришлось возглавить борьбу за соблюдение «заповедей» отца Сергия. Но он был в этом не одинок. И замечательно, что теперь, когда отец Сергий был далеко, нашлось много людей, одобрявших самые строгие его требования и в вопросе о присоединении из старообрядчества молодежи, и в вопросе о родителях, разрешивших детям обходиться без венчания. И чем строже были эти требования, чем больше споров вызывали они в прошлом, тем настойчивее их защищали теперь.
Глава 44
Отъезд

Когда отец Сергий получил распоряжение о переводе и разговаривал о нем с Сергеем Евсеевичем, он (т. е. отец Сергий) вполне искренно сказал, что архиерей не в мячики играет и что возврата быть не может. Однако ни ему, при отъезде на новое место служения, ни его близким не верилось, что все изменилось навсегда. Казалось, что-то произойдет, и он опять вернется в Острую Луку. Но время шло, и все постепенно привыкли к мысли, что в жизни нет поворотов назад. Отец Сергий постоянно писал о своих делах. Для него нашли квартиру, хозяйка которой временно согласилась готовить ему обед. Сослуживцы приняли его хорошо. Потом сообщил, что доход оказался меньше, чем он предполагал. Если принять во внимание городские условия – отсутствие своего хозяйства и поступления натурой: маслом, яйцами, хлебом, шерстью, – жить, пожалуй, придется поскуднее, чем в Острой Луке.
«За неделю я получил около семидесяти рублей, – писал он, – но отец настоятель расстраиваться не велит, обещает, что зимой будет больше. Говорит: „Мы живем, и вы проживете“».

Впрочем, сообщение о доходе было сделано вскользь, только для того, чтобы дать правильное представление о будущих материальных условиях. Никто из семьи не интересовался этим вопросом, когда начались переговоры о переводе, а сейчас он и вовсе не мог иметь решающего значения.
«Чем дольше я живу здесь, – писал отец Сергий спустя еще некоторое время, тем яснее понимаю, что все произошло вполне серьезно и нет никакого смысла тянуть с окончательным переездом. Постепенно готовьтесь к нему. Я приеду за вами при первой возможности, может быть, скоро, если будет сухая осень, или по первому санному пути».
В это время мальчиков уже не было дома, они, как и намечалось раньше, учились в Спасском. Женщины перекладывали бельем застекленные иконы, посуду, укладывая в ящики книги и все вещи, без которых кое-как можно было обходиться. В промежутках между сборами ходили прощаться с близкими людьми, а девочки – еще и с любимыми местами. Изо всех сил старалась Соня запомнить облитую вечерней зарей излучину реки, кусты и песчаный противоположный берег, золотые листья, тихо опускающиеся на освещенную осенним солнцем лесную дорогу; пушистый, сверкающий снег, окутывающий молодые сосенки, гладкий, не тронутый между деревцами даже заячьими следами.
«Запишите на скрижалях сердца», – вспоминалась ей любимая фраза отца. Да, только на скрижалях сердца это и останется. Без нее никто не придет сюда вот так, зимой, и она больше не придет. С людьми, может быть, удастся еще встретиться, а этого больше никогда не увидишь. Будет другое, что, может быть, тоже станет родным, но прошлого ничто не заменит. Думать об этом все равно, что сказать дорогим сейчас людям, так ласково разговаривающим с ней при последних встречах: «Для чего вам прощаться с Вами, жалеть о Вас? Скоро у вас будут другие друзья».
Зимний путь рано установился в этом году. Отец Сергий приехал за семьей с расчетом прожить с недельку в Острой Луке и к Николе вернуться в Пугачев. Конечно, за неделю много нужно было сделать: оформить продажу дома, продать коз, разный хозяйственный инвентарь, но в первый день он смог только разговаривать. Услышав о его приезде, заходили Сергей Евсеевич, Николай Потапыч, сторож Ларивон, Маша Садчикова, Иван Ферапоныч и многие другие. Кто только наведывался, чтобы поздороваться и сказать несколько слов, а кто сидел с утра до ночи, слушая рассказы хозяина и сообщая о своих новостях и заботах.
«Собор там – красота, – говорил отец Сергий, – только что отремонтирован, светлый, высокий. Даже слишком высокий, резонанс чересчур силен, слова сливаются, зато служить легко. Вот здесь, в нашей маленькой церковке, очень трудно служить, особенно в большие праздники, когда народ битком набьется. Кричишь, что есть голоса, а толку мало. А там скажешь „и во веки веков…“, а „аминь“ за тебя собор допоет.
Ну, конечно, обстановка совсем не та, что здесь. Там послушание нужно. С настоятелем отцом Александром Моченевым отношения у нас хорошие, а все-таки здесь я был хозяин, а там на втором штате: как скажет, так и делай.
Всего нас там пять человек – два священника, дьякон и два псаломщика; один из них, вдобавок, регент. Он с настоятелем служит. Парень как будто хороший, мягкий, сговорчивый, но как регент неважный. Зовут его Михаил Васильевич. А со мной служит Димитрий Васильич, с ним иногда трудненько приходится. Совсем еще молодой, самолюбивый, ершистый, чуть его против шерсти погладишь, так и вспыхнет, как спичка. А молчать тоже нельзя: если теперь, когда мы только начинаем вместе работать, не поправить, после труднее будет, да и у него дурные привычки укоренятся. Торопится очень за службой. И в конце, еще только „Господи, сохрани!“ поют, – а у них обоих уже шапки в руках, последние слова чуть не на ходу допевают. А скажешь – буря. Я уж немного начал приспосабливаться. Пойдем вместе с Димитрием Васильевичем домой, я и начинаю рассказывать, как у нас, бывало, в семинарии служение шло, при ректоре Боголюбском или при архимандрите Вениамине, как епископ Гурий порядка требовал. Смотришь, кое-что и намотает себе на ус. Бывает, что ненадолго, потом опять по-старому начинает действовать, но после этого уж говорить легче. А вы как, с отцом Тимофеем ладите?»
Вопрос был задан не попусту. Еще в письмах отцу Сергию сообщали, что многие недовольны новым священником, отцом Тимофеем Кургаевым, сыном бывшего миссионера Афиногена Антоныча. И голос не такой, как у батюшки Сергия, и кадилом взмахивает, перекидывает его, по мнению некоторых, неблагоговейно. И со Святыми Дарами не так выходит, а в боковой двери один раз даже ризой зацепился. Конечно, с непривычки тесно здесь очень, а все-таки батюшка Сергий не зацеплялся.
И тон правильно не задает, возмущался Никита Иваныч Амелин, ведущий тенор, еще молодым парнем начавший ходить на спевки к отцу Сергию и на клирос. – Вот, бывало, мы ектению за здравие и за упокой в «до-ми-соль-до» пели, а «помолитеся, оглашении, Господеви», ты, батюшка, на «ре-си-соль» переходил, и мы за тобой. А он все в одном тоне дует. И тяжело, и красоты такой нет.
– Он не переходит – вы бы перешли, а он бы подхватил за вами. Слух у него есть. Не всегда священники тон задают, чаще наоборот бывает.
Отцу Сергию пришлось проводить целую беседу на тему о том, что у каждого священника своя манера служения и обижаться на то, что отец Тимофей не похож на отца Сергия, так же нелепо, как на то, что Николай Потапыч ниже ростом, чем Трофим Поликарпыч, поет басом, а не тенором, как Никита Иваныч. Они двадцать лет вместе прожили, привыкли, поэтому им и нравится больше служение отца Сергия, а пройдет несколько времени, и отец Тимофей понравится. А если уж очень хочется что-нибудь наладить или по-старому оставить, пошли бы к отцу Тимофею да поговорили. Конечно, no-хорошему без обиды, а в виде просьбы. Отец Тимофей человек разумный, может навстречу пойти, если с ним мирно потолковать, а то ведь, как говорится, и у воробья самолюбие есть. Тем более, что он больной, нужно стараться его по пустякам не расстраивать.[37]37
Отец Тимофей умер от туберкулеза, прослужив в Острой Луке два года с половиной. Потом туда попал отец Владимир Беляев, с которым у воспитанников отца Сергия выходило много неудовольствий.
[Закрыть]
– Так-то оно так, а нам такого соловья, как ты, больше не видать, – вздохнула какая-то из женщин.
– Послушали бы вы, как в Пугачеве смеялись, когда я сказал, что меня здесь соловьем считают, – усмехнулся отец Сергий. – Вы помните, какой у меня был голос, когда я сюда приехал, и не заметили, что за двадцать лет от него почти ничего не осталось… Да что это я? – вдруг спохватился он. – Самое-то интересное не рассказал. Ведь я, когда в Пугачев ехал, с Вариным и Апексимовым разговаривал.
– Как так?
– А вот так. В Селезнихе на постоялом дворе встретился. Они из Пугачева ехали. Сначала кое о чем, о пустяках разговаривали, а потом Варин не выдержал, говорит: «Так, так… Значит в пугачевском Воскресенском соборе собирается штаб контрреволюционных элементов… Ну, что же. Сейчас ты протоиерей; будешь архиерей – за решеткой».
Ну?
– А я отвечаю: посмотрим, может быть, у власти на виду лучше будет, они сами увидят, что я за человек. А то издали какой-нибудь прохвост наплетет в три короба, а они верят, или хоть проверять должны.
– А они что?
– Ничего, скушали. Не выдавать же себя. А ведь это и на самом деле так, – добавил отец Сергий. – Вот в прошлый раз, на Пасху… Случилось такое дело в городе, вызвали бы и поговорили, всего часа два семья бы волновалась. А отсюда чуть не на неделю нервы мотали. А пока… – отец Сергий встал, – вы здесь посидите, а я на часок к отцу Тимофею схожу.
У отца Тимофея, со своей стороны, оказались претензии к новым прихожанам.
Идя навстречу еще не высказанному желанию гостя, он сам предложил отцу Сергию послужить в будущее воскресенье. Народу в церкви собралось, как в большой праздник, и отец Сергий, воспользовавшись этим, сказал примирительную проповедь для предотвращения возможных недоразумений. За проповедь отец Тимофей поблагодарил, хотя и расстроился немного – не ожидал, что могут быть недовольные.
На следующий день после приезда отец Сергий побежал в Березовую Луку к куму, а еще через несколько дней отец Григорий с матушкой явились в последний раз повидать отъезжающих.
Двадцать лет прожили рядом эти два так непохожие один на другого батюшки. Даже друзьями они не назывались, а только год за годом все вновь кумились между собой, год за годом устраивали в складчину елки для детей, да по делу и без дела, вовремя или не вовремя ходили и ездили друг к другу не только сами, а и их матушки и дети.
– Что это ты ушла? – шутливо ворчал отец Григорий на жену которой не оказалось дома, когда отец Сергий однажды явился к ним. – Разве не видишь, какой буран, значит, кум приедет.
Отец Григорий был лет на десять старше отца Сергия, гораздо спокойнее его и не отличался крепкой памятью. В горячую пору обновленчества он не брал на себя ответственных поручений – поездок, боялся забыть что-нибудь важное, но так, без поручений, не раз ездил и в Самару, и к брату своей жены, епископу Павлу. Возвращался он, как и другие, начиненный новостями, но рассказывал их no-своему не торопясь, припоминая то одну, то другую подробность. После нескольких часов рассказов еще раз перебирал все в памяти – не забыл ли чего? Разговор переходил на другие темы, не имеющие ничего общего с предыдущими, и вдруг отец Григорий вспоминал еще что-нибудь интересное.
У отца Сергия выработалась особая манера извлекать из друга все, что тот мог дать. Просидев чуть не целый день в Березовой, он назавтра снова собирался туда.
– Пойду опять кума подою, – объяснял он, – может быть, еще что-нибудь скажет.
И почти всегда возвращался с новостями, которые отец Григорий за это время успевал припомнить.
Знали батюшки друг друга чуть ли не лучше, чем самих себя, со всеми достоинствами и недостатками; гораздо лучше, чем знали родных братьев. Но даже теперь, в последнее свидание перед разлукой, которая легко могла оказаться вечной, не было сказано ни одного громкого слова о любви, о дружбе, о том, как каждому будет не хватать кума. Только, как в день похорон Евгении Викторовны, хотелось, насколько возможно, оттянуть минуту расставания.
Наконец гости поднялись. Как будто не они уезжали домой за три версты, а вот сейчас провожали хозяев в дальнюю дорогу, на новую, неизвестную жизнь; все истово помолились перед иконами. Отец Григорий простился с отцом Сергием и подошел к Юлии Гурьевне.
– Давайте и с Вами поцелуемся! Мы старики, нам можно, – сказал он и трижды, со щеки на щеку, расцеловался со смущенной и тронутой старушкой.[38]38
Года через три отца Григория перевели в село Толстовку, километрах в двенадцати от Пугачева, так что на этот раз разлука не оказалась вечной. Когда же им пришлось прощаться навсегда, они об этом не догадывались.
[Закрыть]
Живя в Острой Луке, отец Сергий послал подводу за мальчиками. Зимние каникулы еще не наступили, но ему хотелось, чтобы вся семья в полном составе простилась со старой родиной и познакомилась с новой.
Выезд был назначен на крайний срок, ранним утром 4/17 декабря. Подводы с мебелью, домашними вещами и коровой двинулись накануне, а утром оставалось только погрузить и хорошенько укутать ульи с пчелами, – которые отец Сергий на всякий случай хотел сопровождать сам, – и выехать налегке.
Утром, еще затемно, изба наполнилась народом. В пустой комнате, где оставался только кухонный стол (по положению проданный вместе с домом), было неуютно и холодно. Утром, когда выносили из подвала пчел, жарко натопленную с вечера комнату выстудили, а подтопить было нечем: все дрова и пригодные на дрова деревяшки были запроданы, и отец Сергий не считал себя вправе пользоваться ими. Но собравшиеся женщины рассудили по-своему.
– Мало, что ли, на дворе всяких палок валяется! – заявила Маша Садчикова. «Бабы, кто помоложе, подите, наберите да растопите подтопок; разве можно из холодного помещения уезжать? Сейчас задрогли, а дорогой что будет! Вы хоть поели?» – спросила она, когда в печке затрещали сухие прутья и комната стала быстро нагреваться.
– В такую-то рань? Не хочется.
– А на голодный желудок выезжать нельзя, сразу закоченеете… что закоченеете… – по перенятой от матери привычке повторила она. – Да уж я так и знала, раньше печку истопила, горяченькой картошки принесла.
Она развернула закутанный в чистое тряпье чугунок, и с горячим паром распространился аппетитный запах тушеной с луком картошки.
– Садитесь, из одного блюда поедите, я и блюдо захватила, и ложки, вы уж свои, наверное, все попрятали, – распоряжалась она в то время, как соседки расставляли около стола принесенные от себя табуретки. – Да батюшку крикните, бабы, пусть поест горяченького, без него там увяжут. А я вам еще мешулечку тыквенных семечек захватила на дорогу. Мороз-то сейчас не сильный, днем и вовсе разогреет, все погрызете от скуки…
Так, согретые горячей Машиной картошкой, с мешочком тыквенных семечек и оставили отъезжающие свою дорогую родину. Попрощались с плачущими женщинами и нахмурившимися мужчинами, поднялись на увал[39]39
Народное название одной из форм степного рельефа – пологий склон. (Ред.).
[Закрыть], в последний раз оглянулись на занесенные снегом избы и сады; поискали глазами скрытые за этими избами дорогие могилки, место которых теперь можно было определить только по церковному кресту. Промелькнули последние знакомые овражки, кустики, повороты. Слез нет, да и не хочется плакать, а сердце болит, словно оно разодрано надвое…
– Ну-ка, достаньте Машиных семечек, – говорит отец Сергий. Как живые, представляются мне удивленные лица некоторых из тех, кому приходилось говорить, как тяжело было расставаться с родным селом.
– Что же тут жалеть? Деревня, глушь, никаких культурных развлечений…
На других лицах выражается самое искреннее сочувствие.
– И вообще-то, какая тяжелая жизнь! Горе за горем! Унылая, беспросветная… А в молодости ведь хочется повеселиться!..
Целая серия обвинений. Тяжелая, унылая жизнь, без культурных развлечений, без проблеска веселья… Это целый обвинительный акт против бедной Острой Луки, так обездолившей своих питомцев. Но, может быть, свидетель сказал не все, или судьи неправильно его поняли?
Тяжелая жизнь. Горе, утраты, всевозможные испытания размечают ее, как вехи. Но не нужно их забывать, вехи потому и заметны, что резко отличаются от окружающей их ровной поверхности, и тем заметнее, чем ровнее эта поверхность. И не обойтись здесь без фразы, ставшей банальной как раз благодаря своей бесспорности, что счастье, как и здоровье, не замечается, пока оно есть. Зато, чем полнее было счастье, тем тяжелее терять его.
В последний год своей жизни Евгения Викторовна, может быть уже бессознательно подводя итоги этой жизни, сказала бабушке Наталье Александровне:
– Шестнадцать лет прожили мы с Сережей, и он ни разу меня даже дурой не назвал.
Разве это не значит, что, несмотря на множество острых, тяжелых испытаний, которыми была наполнена их жизнь, супруги прожили шестнадцать лет большого, чистого счастья? Такого счастья, которому могли бы только позавидовать другие, те, чья жизнь внешне сложилась гораздо более удачно.
И разве не счастливы дети, прожившие сколько-то лет в атмосфере любви и согласия? Ведь даже ссоры в период ломки характеров так болезненно действовали на них именно потому, что были необычны, что нормальным состоянием всей семьи были мир, единодушие и непринужденное веселье. Вот именно веселье, а не уныние и скука. Даже в этот, внутренне самый тяжелый, период их жизни бурные вспышки так и оставались вспышками на фоне спокойных, дружелюбных отношений, оживленных разговоров, шуток и смеха. Тем более так было в другое время.
Недаром сам отец Сергий никогда не мог долго пассивно подчиняться горю, не мог видеть около себя угнетенных, опустивших руки людей. Всегда он старался подбодрить их, оживить, найти какой-нибудь выход, средства для борьбы, вызвать хоть печальную, но улыбку. Потому и о безвозвратно потерянном счастье он вспоминал не с тоской, а с благодарностью, и в самых тяжелых условиях находил возможность увидеть малейший проблеск радости, воспользоваться им независимо от того, что будет дальше. Это не легкомыслие, не себялюбивая теория: «Хоть день, да мой!» Это нормальная потребность здорового человеческого духа, для которого нет ничего противоестественнее уныния, отчаяния, недаром признаваемого христианством за один из тяжелейших грехов.
Даже постоянное беспокойство за отца в период борьбы с обновленчеством и другие подобные моменты доставляли детям счастье, доступное немногим, счастье уважать в отце стойкого, убежденного и неподкупного борца.
Конечно, эти свойства характера могли бы проявляться не только в Острой Луке, но, возможно, ее роль была тут гораздо серьезнее, чем могло показаться с первого взгляда. Едва ли будет ошибкой признать, что причиной этой стойкой жизнерадостности в семье С-вых в значительной степени было и общение с природой.
Острая Лука располагалась в одном из прелестных уголков среднего Поволжья, и дети с самого рождения привыкали видеть вокруг себя красоту – красоту тихую и скромную, не бьющую в глаза, но проникающую в душу, очищающую, укрепляющую. Беспрестанно меняющаяся водная ширь весной; летом и осенью цветущие луга, озера, перелески, где за каждым поворотом открывались картины, одна другой чудеснее; сверкающие белоснежные просторы зимой – сделались для всех членов семьи необходимыми. Там рассеивалось горе, там обдумывались серьезные жизненные вопросы, там складывались и крепли убеждения. Недаром, уезжая, дети прощались с любимыми местами как с лучшими друзьями; недаром впоследствии эти места являлись мерилом красоты. Слова: «похоже на Острую Луку» являлись величайшей похвалой.
Теперь о культурных развлечениях. Главным из них, безусловно, было чтение. Правда, выбор книг в двух-трех личных библиотеках, своей и знакомых, был невелик, зато подбирались они внимательно и, за немногим исключением, имели действительную литературную ценность. Не следует забывать, что в это время и в помине не было не только телевизоров, даже и радиоприемников. Значит, и в городах из «культурных развлечений» оставались только малодоступные театры да кино. Вдобавок, кино заполнялось боевиками с хлесткими названиями «Женщина с миллиардами» в восьми сериях, «Вулкан любви» и т. п. И уж, конечно, более полезно в культурном отношении, более интересно и даже более человечно было вместо ознакомления с авантюрами «женщины с миллиардами» посвятить эти восемь вечеров знакомству с Достоевским и Тургеневым, Диккенсом и Бичер-Стоу Гоголем и Лермонтовым, даже с Майн Ридом и Дюма. Небольшие размеры библиотек были полезны еще и тем, что, перечитав всю художественную литературу, молодежь волей-неволей бралась за научно-популярную и специальную. А, начав по необходимости, постепенно входила во вкус серьезного чтения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































