Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
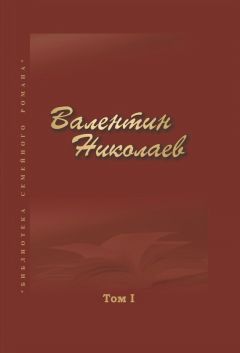
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
– Ду-усту кому-у!..
Хорошо и далеко слышно по вечерней воде. Каждый звук плывет как бы отдельно, чисто. Слышно Саньке, как там ответно смеются на палубах, кашляют. Спугнутые криком, взлетают утки с озерца, что спряталось в лугах возле реки. Они летят низко, на зарю, прямо над Санькиным катером. Санька хватает палку и демонстративно целится в них. Потом, кинув палку за борт, кричит снова: «Трап-пов-на-а! Приготовить трап, иду на швартовку!..» Озорует, выступает на рейде, будто на сцене…
Надурачившись, он делает на реке широкий круг и с ходу врезается в песчаный берег между брандвахтами. Но врезается не как-нибудь, а в притирку к стоящим тут лодкам, чтобы все видели его лихую точность. К самой: брандвахте подходить все-таки не решился. Мало ли что: рассвирепевшая Строповна сбросит ночью чалку с кнехта, утром проснешься – и берегов не узнаешь.
Представление на реке окончено, все отправляются в кино. Проверив последние записи в своем журнале, спешит и Строповна. Клуб рядом – вышел на самый берег из лугов, будто посмотреть захотел на реку. Да это и не клуб вовсе, а широкое гулкое помещение из бревен, наподобие сарая. Печи и потолка там нет, драночная крыша кое-где прохудилась, и приглушенный ночной свет просачивается в эти дыры, похожие изнутри на запотевшие осколки зеркала.
Хлопотливо трещит на чердаке кинопередвижка, дымным лучом прорезая сумеречное пространство сарая. Капитаны и матросы сидят под этим лучом на деревянных скамейках, не снимая форменных фуражек. Разговаривают вполголоса, курят, в одном месте собрались кружком и закусывают потихоньку. Дверь в клуб полуоткрыта – заходи и выходи любой. Когда сменяют часть киноленты и аппарат стихает, слышно, как за белым полотнищем экрана, там, в лугах, покрякивает на полном приволье коростель. Его спокойный размеренный голос можно бы слушать и без кино. Но и смотреть картину он не мешает никому.
Скоро веселая, в тельняшке, укротительница тигров благополучно завершает на экране свое ловко-счастливое дело, и в «зале» вспыхивает свет – единственная лампочка, свисающая со стропил. Все расходятся, тянутся в сумерках снова на свои палубы. Опять скрипят двери рубок, гулко отзывается железо палуб, слышен неясный говор… Но постепенно все стихает, один за другим гаснут желтые кружки иллюминаторов на катерах – будто смежают они от усталости глаза – и воцаряется на реке покой.
Тепла парная летняя ночь. Все уснуло: вода и берег. Одна Строповна не спит, скользит она бесшумной тенью по обносу брандвахты, глядит не наглядится вокруг. Слушает сонные всхлипы реки, долго следит, как помигивает в ночи огонек на воде – это плотовщики ждут на плоту своего буксира. Мрачно-синее небо над брандвахтой велико, беспредельно. Густая синева эта, опускаясь к горизонту, становится бледно-зеленой, будто стекло, подкрашенное снизу лимонной желтизной… А еще ниже, на мрачных зубцах ельника, тяжелым пластом лежит напряженная краснота. Она будто остывает в прохладе ночи. Зоревое полукольцо не гаснет всю ночь, отражаясь в ласковой, как густое сусло, реке. Долго, степенно переправляется заря с правого берега на левый, все ближе и ближе к востоку. Пройдет час, полтора, и вновь она будет ярчеть и шириться, будто наливаться изнутри малиновым светом. Но пока нет никаких признаков утра, хотя и на ночь не похоже. На оранжевом будто атласном занавесе зари четко вышиты ажурные решетки крановых стрел, а рядом, как черные заплаты, мрачные квадраты их противовесов. От розовой воды, в которую впаяны понтоны кранов, исходит желто-розовый пар. Молчаливо, величественно все. Но не греет эта ночная заря, все больше стынет воздух, все крупнее зерна росы на поручнях и кругах брандвахты. Всю ночь тускло горит одно-единственное окно в тесовой будочке на берегу. Так и не дождавшись, когда там лягут спать, поеживаясь, спускается Строповна в свою каюту и вместо туфель надевает просторные мягкие валенки.
Проводив самый глухой час полночи, она переходит вместе с зарей на другой борт, к лугам. Два борта – как две стороны ее жизни. На реке ее сегодняшняя жизнь, а в лугах будто бы еще плавает в тумане далекое прошлое. Нежно-матовым налетом приглушил этот туман кусты, озеринки в низинах. Течет оттуда неспугнутый запах луговой свежести, озерного ила. Глядит в луга, думает, что подошло уже время сенокосу. Вспоминает свою деревню, те давние годы, когда не одна кожа за лето сгорала на плечах и руках. Все в ее жизни было: жатва с утра до ночи с серпом в наклонку, снопы, суслоны, молотилка на току… В войну мужа и двух сыновей проводила на фронт. Сколько слез пролила, наклоняясь над котлами с пойлом. Всю войну так проработала скотницей на колхозной ферме. Не только сена, соломы не хватало, новорожденных телят носила в большой корзине-плетюхе в свою баню, от бесконечного таскания ведер пальцы не разгибались на руках. Ни от какой работы не отказывалась. После войны долго в пастухах была. Муж, вернувшись с фронта, вскоре умер, а оставшиеся в живых дети к тому времени уж разъехались по городам. Чего ей было сидеть одной дома – пошла пасти. И семь лет подряд, в дождь, в жару, в ветер – все одна – в поле, в лесу, в пустошах… Говорить разучишься. И так до «белых мух». Может, с тех пор и стала ей жизнь на людях казаться праздником. Многие, ее сверстницы, прижатые в войну непосильной тяжестью бед, одна за другой угасли, покинули этот мир так же терпеливо, как и жили.
А ее ничто не брало. Она и сама удивлялась своей крепости. Легко, будто в молодости, бегала она по кустам и оврагам, загоняя коз и овец в стадо. Прокалит ее за лето солнце, обдуют все ветра – и зимой ни одна болезнь не пристает. В колхозах тогда жизнь не больно богата была. Но в пастухах – жить можно было. Когда стали давать пенсии колхозникам, дали и ей. Из пастухов к тому времени она ушла, однако на двенадцать рублей в месяц жить ей показалось скучно. «Это и буду я сидеть, ждать этой дармовщины! – возмущались она перед подругами. – Да я вон в затон уйду!..»
И ушла. В затоне тогда брали всех: приходили новые суда, сплав увеличивался, поселок строился… Люди нужны были позарез. Поэтому те, кто не решился бежать далеко, в город, повалили сюда. По ядреному апрельскому насту прикатила и она.
– Сколь годов-то? – спросил начальник.
– Да… 59… всего, – робея, соврала она на добрый десяток.
– А не 95? – усмехнулся начальник. – Может, ты цифры перепутала? – а сам уж подписывал ее листок. – В кадры! И с богом, работай.
Ей даже и не верилось, что так шутя устроилась. Стала переживать за возраст свой, за дом, который пришлось оставить теперь без пригляда, за огород… Но все обошлось. Сначала работала разнорабочей на берегу: прибирала территорию, укладывала дрова, промасленную ветошь выносила из мастерских. Потом дежурила в караванке. А под конец и вовсе повезло – определили ее матросом на брандвахту. Попала она к самому молчаливому шкиперу в затоне Буль-Буле, из которого никакого сведения под пыткой не вытянешь: он будто окаменел от времени и однообразия в работе, Но все равно за возраст свой переживает она и по сей день, хотя вроде и прижилась уже среди этих речных горлопанов.
«О-хо-хо… – вздыхает она, прохаживаясь по остывающей брандвахте, – ушли мои годы, пролетело времечко золотое… А ничего страшного! – тут же спохватывается, испугавшись. – Подумаешь – 75! Я еще лучше Матрены-то шкиперовой, недаром, что ей только 63! А мне и 60-то не все дают! Хоть и соврала Василию-то Степанычу, как примал… А и хорошо, что соврала: ложь-то во спасение бывает, видно… А ну-ко бы без работы-то! Да что это за жизнь! А тут – и каютка своя, и жалованье дают, и на народе все время – живешь, как на празднике. И в почете вся! Да разве сравнишь с пастушеством! А какой труд-то: вота гуляй! Ночь-то, господи! Хоросьво-то какое – не наживешься!»
Нет, не верит она в свой возраст, не понимает болезней. Будто одной ей из одногодков досталась эта новая жизнь как бы в придачу неизвестно за что. Бывает, соберутся затонские бабы в караванку посудачить по флотскому обычаю (хотя обычай этот древнее флотского), и Строповна тут. И вот начинают – у кого что и где болит, да как болит, да чем лечить… Слушает она их, слушает, со скукой поглядывая в окно, да и взорвется:
– А ну-ко вас к еретику! Да что это за «болит»… Притворяетесь вы! У меня вот ничего не болит! Делать вам нечего, вот и сидите да слушаете, не ноет ли где!.. – и пойдет из караванки на берег.
Сейчас, на брандвахте у Були, ей и охранять-то бы нечего: капитаны почти все ночуют на своих катерах, редко какой неуемный убредет в поселок к знакомой бабенке. Но она охраняет – служба есть служба! «И вовсе это не шутейное дело, – считает она. – Не всякому доверят!»
Так за думами незаметно проходят ее ночи. Спохватится, оглядится – батюшки, день уж! Все отчетливо вокруг, видно: краны, баржи, сплоточные машины на рейде, маленькая тесовая будочка на берегу, в которой так и не погасили свет. «И чего делает, всю ночь не спит?» – думает Строповна и только тут догадывается, что в будочке никого нет, просто два окна в ней друг против друга и заря сквозит через них всю ночь.
Почти каждое лето к ней приезжают внучата, и она не нарадуется, что есть у нее своя каютка, в которой она всегда может их приветить. По простоте своей душевной она всем рассказывает о своих гостях, гордится, и опять кто-нибудь найдется, подденет ее за живое:
– А внуки ли, Строповна?.. Ты что, до 60 лет рожала? Спуталась ты, правнуки это!..
– Полно, лешой! Не плети-ко не дело-то… Или я хуже тебя знаю! Мне всего-то 67!
Совсем истончился туман в лугах, стихли ночные птицы, сквозит через ельник вылезающее солнце. Пора… Строповна идет на другой борт, поближе к катерам. Сейчас начнут просыпаться, загрохают трапами, застучат дверьми, завоют как оглашенные на всю реку сиренами, будто глухая она, Строповна. Нет чтобы самим снять конец, да отойти потихоньку – где там! Каждый норовит во всю силу, выхваляется будто:
– Вахтенный, чалку!..
– Евсхрап-повна!.. От-давай!
– Стратостатовна!..
– Сатраповна!
– Сустатовна!..
«Вот бахвалы-то! – думает она, летя во весь дух по палубе. – Чего не напридумывают!» Сквозь гул прогреваемых дизелей она не все и понимает, что они там кричат из своих железных рубок, едва сдерживая улыбку. А узнать охота, любопытство берет, но боязно: пристанут, как с дустом, – не отвяжутся!
– Эй!.. Лямошница! Лямку скинь!
Вот уж этого терпеть никак нельзя! Ведь и выдумают враги! И боится она, не выдержит, понесет когда-нибудь бахвала на всю реку. «А они все этого только и ждут, и ждут… Но нет, не дождутся! – крепится она, по очереди сбрасывая чалки. – Боже упаси – до смерти не отступятся! Только покажи…»
Каждый день ее отчество меняется, каждый день они зачем-то испытывают ее… Нет, не легко на реке стать своим человеком. Поняла уже это она, чутьем учуяла и ждет с нетерпением, когда они скажут наконец о ней так же, как о диспетчере Полине Михайловне: «Это наша баба, флотская…»
Ну вот, и все разбежались… Сейчас объявится ее сменщик, сдаст она недельную вахту и пойдет на пристань. Сегодня домой поедет. Раз, а то и два в месяц она всегда потихоньку ездит в свою деревню: в огороде надо прополоть, за домом приглянуть. Разные поедут люди на этом крылатом чуде – «Ракете»: городские и деревенские, молодые туристы и старые полковники, приезжавшие порыбачить на Унжу. Усядется она среди них скромненько у иллюминатора, по-старушечьи поджав ноги, и будет глядеть на проплывающие мимо катера, баржи, плоты… Знакомо ей все не по одной уж навигации. И никому из пассажиров (да и из команды «Ракеты» тоже) и в голову не придет, что работает она на этой же реке и судовая роль ее – матрос.
Тришка-рвиТак и вижу – бежит он по затону, легкий, полурасстегнутый, небритый и, кажется, слегка хмельной. Разбитная прыть то и дело сшибает его с дощатого настила, брошенного на сыпучий песок. А он и по песку бежит так же прытко. Взмок, тяжело дышит, на самом куполе загорелой лысины ветреет паутинка из нескольких бесцветных волосков. Но глаза глядят весело, приветливо.
– Трифон Северьяныч! Погоди!.. – махнешь ему от моторного цеха.
– Аю-ю!.. Что, милой? – живо откликается он. – Сейчас подбегу!.. – И подбежит, не поленится, позови его хоть ребенок. А он, Трифон, старик. Все у него старое: на кистях загорелых рук выпирают суставы, коричневая шея изрезана морщинами, лицо в складках, плечи обвисли, кустистые брови поседели, а глаза – молодые! Подлетит он, еще издали протягивая навстречу руку; глянет на тебя своими светлыми, голубыми глазами – и будто обдаст всего мягким голубым светом. Постоит с тобой минуты две-три, все время улыбаясь и как бы растворяя этим всю твою боль-печаль, а под конец порывисто обнимет да прижмет к себе как ребенка: «Полно, милой! Пойдем-ко со мной…» И пойдешь, куда бы он ни позвал, забыв все свои дела и заботы… И только потом, не сразу, будто очнешься от его странного гипноза.
Светло и чисто глядит он на мир. Живет как-то до зависти откровенно, с той неподдельной легкостью и простотой, какие даются как бы в награду людям только очень чистой души.
Вспоминаю весну. Долгие апрельские дни начала навигации были и нашей радостью и новыми заботами. Отремонтированный за зиму флот наконец разбегался из затона, и забота о нем как бы сваливалась с наших плеч. Но в то же время, затерявшись по всей реке (а точнее – по многим рекам), суда дробили нашу общую заботу о них на множество мелких, далеких, а иногда и труднодоступных дел. Обычно к этому времени флот в затоне уже отремонтирован, ждет только несамоходный – баржи, брандвахты, понтоны… Оставшись на свободе, шкипера неспешно довершают свой ремонт, готовятся тоже к выходу.
В один из таких дней иду я берегом – а навстречу мне Тришка. Против обыкновения пасмурный, вялый. Время было часов около десяти… В затасканной шубе, без шапки Трифон правился куда-то за ворота. Несмотря на вялость, выглядел Трифон все же здоровым, уже хорошо загорел на апрельском солнце. Поравнялись, спросил я его, куда он путь держит.
– Да куда, куда… У тебя погреться-то нет? Не сразу, но я понял его, напомнил:
– Время-то вроде рабочее?
– Да ведь как, Ваня… Вчера… Ой, дак чудак!.. Василий Павлыч был. От так клюкнули! Вот это человеек!.. Пить-то молодец, как воду цедит!.. А, может возьмешь тушканчика, а?
Такой откровенностью я был сбит с толку; обычно плавсостав побаивается нас, механиков, и особенно в навигацию: за один раз можешь потерять судно – окажешься списанным на берег. А тут – весной, в самом начале… И ни тени сомнения! «Сам на рожон лезет!» – подумал я. Было у меня срочное дело на плавкране, но я остановился.
Надо сказать, что Трифона я как следует еще не знал, и вот случай – самый неожиданный.
– Ты что, в отпуске? – приглядываясь к нему, спросил я выжидательно.
– Не-ет… На работе. А может, возьмешь маленькую, хоть себе-то?
– А ты?.. «Дам ему волю в словах и чувствах», – решил я.
– Да у меня есть остаточек, да одному-то скушно, – погладил он твердой рукой свою беззащитную лысину и вдруг улыбнулся совсем по-детски и так светло, что мне даже стыдно сделалось за свою попытку «заманить его в сети и накрыть». Он так мило и доверчиво продолжал глядеть на меня, что я как-то разом потерялся, забыл о своем служебном положении и даже стал думать, что шкипер этот ничего предосудительного не замышляет. Уж слишком открыто шел он к своей цели, свято как-то! – Вали беги – лещика достану.
– У тебя на барже-то что? Много еще всякой работы?
– Ой, что ты, Ваня!.. Вот трап сделают, да покрашу еще кое-где – и все, поплыву – не удержишь! Погода-то глянь-ко: нёбушко голубо-о, тё-опло так… – опять он из взрослого превратился в ребенка.
Убежал я от него, замотал меня день делами, закружил. Но весь день нет-нет да и вспомню, как он глядит вверх веселыми, голубыми глазами, тянет с непорочной любовью «нёбушко голубо-о…» Вспомню – и будто солнечный зайчик коснется меня. Наваждение какое-то.
С тех пор совсем неосознанно, но искал я в суете рабочих будней хотя бы мимолетной встречи с ним. Тянуло почему-то, как безотчетно тянет в лесу хоть не надолго, хоть оглядеться только, но выйти из сумеречной чащи на светлую полянку.
Весь затон от мала до велика зовет его Тришка-рви. И он охотно откликается. Тут нет насмешки или пренебрежения, а наоборот – какая-то особая любовь, которую и стараются прикрыть этим отчаянным прозвищем.
Прозвище принес Трифон в затон по простоте своей душевной сам. Однажды загорелась у них в селе церковь. Трифон, тогда совсем молодой парень, первым прибежал тушить. С большим трудом храм отстояли, но тут другая беда – вспыхнуло одеяние на попадье. Заметалась она среди обезумевших людей, подлетела к Трифону, крикнула «Тришка, рви! Нет на тебе греха!..» И Тришка, отбросив смущение, впервые раздел женщину, и не простую, а попадью, да еще и принародно! Батюшка за его благодетель отпустил ему все грехи, а по секрету якобы сказал: «Всю жизнь тебя женщины, любить будут, как и меня. А проживешь долго – истинно говорю».
Тришка, не раз вспоминая об этом в караванке, смеялся и приговаривал: «Водку пить – так Тришку бить, а божий храм горит – так, Трифон Северьяныч, по-моги-и…»
Прост он, Трифон. Всю жизнь не хитрит, не гребет к себе руками и ногами, как иные, а делит все по друзьям-товарищам. И сам идет со своей нуждой ко всякому так же наивно и открыто. Бывает, рань-разрань, спят еще на судах все, а Тришка уже спускается по трапу, идет куда-то берегом. Окликнешь его спросонья, высунувшись в иллюминатор:
– Куда правишься, Трифон Северьяныч?
– Да вот похлебочку поставил… Заходи.
– А куда идешь-то?
– Гы-гы… Луковичку бы надо… К Матвею пошел вот, чай, даст, не жаль… Сам-то поподбился. Иди, иди на баржу-то, я сейчас вернусь.
Пожалуй, одному ему в затоне никто и не отказывает ни в чем. Уж на что кладовщик Чугунов – жох несусветный, у которого ржавого болта в горячую пору навигации не выпросишь (подай ему тут же бумажку за печатью) – и тот Тришку встречает как родного. Увидит его, подобреет и, отложив всё дела, поговорить сядет. Откроется перед Тришкой душевно, как на исповеди, всю жизнь свою расскажет и даже пожалкует в прохладе склада.
– У меня ведь бумажки-то нет, – скажет Тришка, собираясь уходить.
– Ладно, ладно, потом принесешь. Чай, не чужие, – так Чугунов говорит лишь одному Трифону.
Своего у Трифона – только баржа да река. Остальное – так, легче облаков – плыви по ветру, куда несет. Он не следит особо ни за одеждой своей, ни за едой, ни за временем. Будто освободил его господь-бог от всех вериг житейских. На барже всегда один, у него даже матроса нет, потому что баржонка маленькая деревянная – на слом скоро. Но ему хватит. Он никогда никому не рассказывает о своих печалях и бедах, будто ничего этого у него не было и нет… Да никто об этом его и не спрашивает.
А чего спрашивать; что надо, он сам все расскажет, первый, едва встретится – выложит новости и радости, куда бежит и зачем, и хочется ли ему бежать. Нынче редко кто говорит так прямо о себе и думах своих. А Тришка, как нравственный мамонт, чистый образец непосредственности, прошел мимо всех искушений века, дожил до наших дней в первозданной своей душевной свежести. Весь он какой-то голый, открытый – на виду. Иной человек берет властью своей, нравом нахрапистым, а Тришка, как ангел, – своей беззащитностью. Работа на реке, особенно в разгар навигации, – не рай, а ад, где ангелу задохнуться впору, но на Тришкиной душе не остается никакого осадка – ни горечи, ни копоти.
Хоть в начале навигации, хоть в конце ее – он всегда одинаков: прост, прямодушен с чужим и со своим.
Бывает, встретит его высокий трестовский начальник – а он и с ним такой. Чиновник, окинув Тришку свысока взглядом, усмехнётся снисходительно, а Тришка тут же одарит его своей улыбкой и добавит простодушно:
– Иди-ко покури давай, отдохни. Жарко, чай, тебе в галстуке-то, задавил он тебя.
И чиновник, оберегая субординацию, расщеперится, панибратство почует, колючки свои служебные, как ерш, выпустит, пойдет к начальнику, того начнет шпынять, указуя на Тришку… Но Василий Степанович, выслушав жалобщика до конца, только вздохнет устало, как бы жалея кого-то, и не поймет чиновник, кого он пожалел: себя, Тришку или его, чиновника. Кто-кто, а уж он-то своих людей знает. Знает и то, что к таким людям, как Тришка-рви, нельзя подходить с обычным аршином, нельзя их «стричь под общую гребенку»… Можно, конечно, но либо оскорбишь человека до глубины души, либо надолго собьешь его с правильного пути. Или же сам останешься посмешищем…
Был такой случай. На День Победы вернулся Тришка-рви из рейса. Весна тогда началась рано, в апреле уже стояла душная жара, а в начале мая пошли дожди. Привез Тришка на Унжу паклю, нужна она была строителям Загривья, потому как строили они детские ясли для сплавщицкого поселка. Кран, который разгружал Трифонову баржу, перед самым праздником сломался. Баржу кое-как он все же доразгрузил, а уводить его обратно к лесозаводу не было смысла: требовался срочный ремонт. Вместе с электриком приехали мы на кран рано утром, Тришкина баржа стояла рядом, он, видимо, еще спал, а крановщик с механиком, наверное, с ночи копались в электрощите. Не успели мы ступить на железную палубу крана, как рядом с нашим катером ошвартовался другой. Приехали начальник затона Василий Степанович и затонский милиционер Паня. Мы поздоровались, поговорили немного и пошли все к Трифону. Каким-то образом учуяв появление начальства, Тришка-рви не допустил нас до своей каюты, а вышел навстречу, и мы невольно остановились. Он шел по борту мелкими шажками, будто ребенок, перебираясь руками по леерам. Осторожненько шагал босыми ногами по палубе, наступая на тесемки кальсон, клетчатая рубаха была нараспашку, голова повязана серым застиранным полотенцем, из середины которого, будто трава из прошлогоднего птичьего гнезда, выглядывали хилыми побегами несколько слипшихся волосков. Во всяком наряде можно встретить шкипера, но такого «вицмундира» мы не ожидали никак.

Увидев нас, Тришка вымученно улыбнулся и с готовностью протянул руку милиционеру.
– О, Паня, заходи, погрейся давай, – голос у него был слабый, тихий.
– Ты, ладно!.. – твердо обрезал его Паня. – Давай о деле. Кому паклю продал?
– Сергею Стеблеву.
– Так, – достав блокнот, стал записывать Паня. – Сколько?
– А сколь просил, столь и дал. Один тючок.
– Тючок… Вот будет тебе тючок! Остальное где? Какое ты имел право?
– Так она моя.
– Кто?
– А пакля-то.
– Лысый, а без ума! Ты ж украл ее! Она кому предназначалась? – И он начал распекать Тришку…
Эх, Паня, Паня… Если б не знали в затоне, каков ты есть «гусь»!
В затонском поселке милиционер Паня был человеком пришлым, но женился тут и привык. Держался, как и положено, независимо, за порядком догляд вел строгий, но имел одну слабость – любил рыбу. Каждой весной рыбу затонские люди, понятно, ловили. Особо не злоупотребляли, но кое-кто ночкой и хорошо урывал. Паня в это дело открыто не вмешивался (рыбинспектор для этого есть), но тайно «работу» вел. С озера, где обычно ловили рыбу, лежала к поселку одна дорога – Лесом. Вот ее-то и взял себе под прицел Паня. Поужинав, он забирал с собой сигареты, в порожний мешок клал свернутую газету, а то и две, пистолет не забывал, и выходил в дозор.
Зачем ему было идти на озеро, это слишком далеко. Едва углубившись в лес, он вставал за широкий ствол сосны и, вслушиваясь в блаженную весеннюю ночь, ждал. Когда на дороге раздавались осторожно-приглушенные шаги, Паня делал из-за сосны шаг и окрик:
– Стой! Участковый Медоткин! Корзину поставь! Тут же, на дороге, Паня расстилал газеты и командовал дальше:
– Высыпай!
«Так-так… – совестил он пойманного, посвечивал на рыбу карманным фонариком, а сам уж расправлял порожний мешок. Тыча пальцем в лещей и язей, которые покрупнее, приговаривал: «Эту клади, эту клади… и э-эту суй… Вот та-ак… А теперь с газеты забирай! И чтоб духу твоего здесь не было! Марш!»
Спрятав рыбу за сосной Паня отдыхал, ждал еще. Короче говоря, хоть и без снастей, а «ловил» он не хуже других. Об этом знали все, но вслух не говорили. Продолжалось так до прошлой весны.
В ночь перед пасхой шел Паня из соседнего поселка. Был он у родственников своей жены (он вообще любил ходить в гости), выпил там маленько, ночевать не остался, а пошел домой к жене – идти-то рядом, а в лесу уже сухо, да и не так темно. И вот, как зайти ему на мосток, который был перекинут через весеннюю речушку, повстречались ему две старушонки, сгорбленные, в платочках. Передняя ощупывала дорогу батожком, а задняя, сильно горбясь, держала руки на пояснице. Пане было весело от выпитого, и он, стараясь навести страх но старушонок, пошутил грубовато:
– Куда, это вы пошли за полночь? В церковь, что ли, богомолки чертовы!
Старушки ничего не ответили, но едва разминулись, как одна из них, откинув посох, вмиг нахлобучила на Панину голову (забрав и плечи) широкий мешок, а вторая крепко саданула его стягом. Стяг был прочный, тяжелый – это Паня почувствовал сразу, а разглядел его как следует уже утром, после дождичка, когда очухался. «Вот так помолились, мать т-твою…» – сказал Паня, разглядывая слегка свилеватый березовый стяг. Встать бы да идти, если пойдется, но уж очень знаком был стяг. Так ничего и не вспомнив, бросил Паня мешок в реку, а стяг предусмотрительно принес домой, надеясь на дальнейшее просветление памяти. Меняя примочки на голове, он все пытался докопаться, где же этот стяг видел. Пытался вспомнить и «старушек», особенно то, в рукавицах они были или нет. Была у Пани тайная мысль: доставить стяг криминалистам. Но как? В автобусе ехать со стягом неудобно. Тогда он решил отпилить верхнюю часть его… Но сначала все же надо было узнать, где он его видел, когда…
Недели через две, немного поправившись, был Паня вечером у своей тещи. Когда поужинали, он вышел на крыльцо отдохнуть и увидел, что собирается гроза. У раскрытого дровяника моталась из стороны в сторону дверь на ветру, нехорошо так моталась, скрипела. «Непорядок, – подумал Паня, – дрова может вымочить. Он пошел, закрыл дощатую дверь и стал искать, чем бы припереть ее, но ничего под рукой не было. Вот тут-то его и осенило: раньше у стены стоял березовый стяг, им и припирали всю зиму дверь. Он был стяг, тот самый… «О-о… – подумал Паня, – неужели она?.. – и он попытался представить свою тешу на мостике. – Да не-ет, не может быть. Вот это работают… Всю операцию продумали». Постепенно Паня понял все и на задумку с криминалистами плюнул: «Не хватало еще того, чтобы тешу таскали… Да ведь и дождь был, смыло, поди, все отпечатки». Так, перебирая свою жизнь, вспомнил он и лещей своих, которых «ловил» на лесной дороге, и мешок… И решил не предавать дело гласности. Но и совсем не оставлять.
Ни с кем не заговаривая об этом, Паня как-то особенно пристально стал глядеть в глаза своим знакомым затонским рыбакам. И еще – стал частенько заходить в караванку. «Где, где, а уж тут все узнаешь… Просочится как-нибудь», – думал Паня. Заходил он всяко: и утром, и вечером, и в обед. Старался, когда побольше народу. Кое-кто из плавсостава заприметил эту особенность Паниного поведения. А вот Тришка-рви даже и не подозревал. Сказать правду, он ничего не знал и о самом покушении на Паню.
В понедельник утром, когда Трифон только что хорошо похлебал ухи у Боцмана вместе с рыжим капитаном Санькой, зашли они все трое в караванку в самом блаженном расположении духа. Передохнуть надо было, береговые новости узнать. В караванке хоть и было человек пять, но царило полное молчание. За столом сидел милиционер Паня, отвернувшись ото всех, глядел в окно и икал. Не часто икал, но настойчиво. Капитаны и механики сидели молча, будто и не слышали. Побыв чуток в тишине, Тришка вдруг улыбнулся, поглядел на Паню и спросил с полным участием:
– Что, Паня, икаешь, или ухой отрыгается?
Не зря говорят – простота хуже воровства. Наивная душа, он, верно, думал, что если уж сам ухи поел, так всему миру отрыгается. Так и не погасив свою чарующую улыбку, Тришка глядел на Паню и ждал. А Паня… Паня вдруг перестал икать. Нехорошо глянув на Тришку, он встал и тут же вышел. И только захлопнулась дверь, как в караванке прорвался смех.
Так Тришка стал для Пани объектом номер один. Паня счел, что нашел спасительную ниточку: «У этого простофили только и выпытывать».
Держась за эту слабую, но все-таки обещающую ниточку, он и сейчас приехал к Трифону, конечно, не столько из-за пакли, сколько из-за своей истории. Но тут, прямо надо сказать, не ту он ухватил ниточку.
– Ну так что? – с напором спросил Паня. – Акт будем составлять? Кому предназначалась пакля, я спрашиваю?
– Ясно кому, яслям.
– Не яслям, а строителям! Яслям ничего не надо. Люди строят-то, понял? Вот ты их и обманул, людей. Давай показывай, сколько всего зажулил?
– Ой, Паня, нехорошо. Я чужого не беру. Ты ко мне не причаливайся.
– Что?! Я тебе не Паня!
– Ладно, подождите, – вмешался начальник. Весь груз ты должен был сдать потребителю.
– А я все сдал. Грамм в грамм. Хоть документы покажу.
– А говоришь, себе оставил.
– Да четыре тючка за обшивку сунул. Ведь она наводопела, пока в рейсе был… Погода-то – дождь – стояла. Я по осадке и то вижу, что она напилась. Ну, правда, и лючата открывал маленько.
– Жулик старый! – сказал Паня. – Вот теперь все ясно.
– Ты меня не клейми.
– Так зачем еще открывал-то, ведь и так лило!
– А надо чтоб немного сыренька была. Она спиртовая, пакля-то, значит, чтобы продух был. А то загорается бывает. Баржа у меня деревянная, сгоришь свистнуть не успеешь. И у них на складе тоже пыхнуть может. Лето… Сколь раз бывало. А так, если по весу, то я им еще лишнего дал. А как же! Им тоже надо: у всех лодки, рыбаки ведь, конопатить будут.
– А куда тебе столько-то, четыре тюка?
– О-ой! Вот так чудишь, Василий Степаныч! А ремонтироваться-то зимой, судно-то конопатить чем? А ведь она спиртовая. Да и ребята попросят, дак дать надо. Чай у нас флот! Нам в первую очередь.
– Это-то да, верно ты говоришь, – переступил с ноги на ногу начальник. – Только это не способ… Ну, как живешь-то?
– А хорошо. Похворал маленько. Вот только сегодня сбрел. Три дня не ел, не примает. Да нечего и есть-то было.
– Домой бы съездил.
– Ой, нельзя! Разве можно судно оставлять! Все, растащат, а тут ясли строят. Ника-ак…
– Чего никак. Закрыл бы на замок, да и ехал. Вон кран рядом, матрос поглядел бы. Все равно ведь не работали в праздник.
– А мало ли что. Я не надеюсь. Еды вот никакой не было, это верно. А потом как захватило вот тут, – Тришка покрутил под «ложечкой», – о-ой, дак!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































