Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
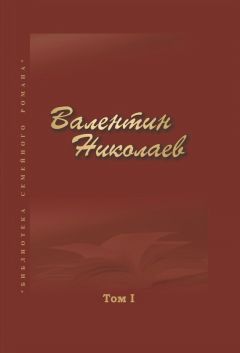
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
В затон Кашкин добирался берегом. Рекой не решился: начнутся расспросы, выпытывания… Где пешком, где на попутной машине, в чужом берете и старых брезентовых штанах, жалованных бригадой, вез он Василию Степановичу ошеломительную весть. Единственное, что он мог сообщить о катере, – глубину, где тот затонул. Надоумил на это Мишка Соловьев, да сам же и измерил: три метра семьдесят сантиметров – выдал он средний показатель своих измерений двумя связанными баграми. Кашкин запомнил.
В затоне он застал еще весну – бойкую, преднавигационную, готовились к выходу уже суда несамоходные, и шкипера, матросы ждали своего отплытия будто праздника. Им тоже не терпелось скорее уйти куда-нибудь подальше, где жизнь, как и весна, казались другими, новыми и чистыми. А Кашкин уже из этой жизни возвратился, и ему, помимо своей личной беды, было еще и неудобно, неловко перед затоном за то, что оказался он здесь не вовремя.
Начальник уже знал о его горе и, как понял Кашкин, ждал его со дня на день Похудевший, осунувшийся, однако выбритый и подтянутый, пришел Кашкин в контору рано утром, и Василий Степанович вроде бы даже и не удивился, увидев его.
– Ну, ну… Расскажи давай, как это ты ухитрился, – первым начал он разговор.
Кашкин угрюмо молчал и вопросов начальника вроде бы не слышал: он не о катере думал сейчас, а о том слове, которое дал начальнику, и потому отвечал невпопад: «Трезвый был. Не пил…» Но как было доказать, чем?… Вот это-то и мучало его больше всего. Еще по дороге в затон он хотел напиться с горя, обдумывал это, пока вышагивал голыми холодными полями от сельмага до сельмага, и по-разному прикидывал свою жизнь и что скажет начальнику. «Если не поверит, то все, – решил он. – Тогда и напьюсь, а пока не буду…» Так и шел до самого затона. Разговор у них не клеился долго, потому что один хотел узнать все о катере, а другой упрямо рассказывал все о себе. Поверил Василий Степанович ему или нет, Кашкин так и не понял. Ругать он его почему-то особо не ругал, но вывод сделал такой:
– Вот что, подводник, иди к караванному Евсеичу, и пусть он поставит тебя к Ивану Мохову – кран ремонтировать. Заканчивайте побыстрее да отправляйтесь вместе в верха – будешь ловить там свою «подлодку». Когда выудишь и приведешь в затон, то снова отремонтируешь, может быть, даже за свой счет. – А там посмотрим, что с тобой делать. Капитанить в этом году больше не рассчитывай. Хватит, показал класс.
Выслушав все это и выйдя из конторы, Кашкин почувствовал такое облегчение, будто устроился на новую работу. С новым интересом оглядывал он затон, здоровался с матросами и шкиперами и уже не чувствовал за собой того стыда и унижения, что висели на нем все эти дни. Он будто оставил все это у начальника в кабинете, сложил там со своих плеч. Весть о предстоящем ремонте чужого крана воспринял как радость, как главное дело своей жизни. Сейчас он мог согласиться на что угодно, лишь бы поднять катер, привести его и, сдать затону.
Через полторы недели, когда сильно пошла на убыль вода, кран был готов к отходу. Река мелела с каждым часом, надо было торопиться. Уже кое-кто закончил свою весновку, возвращался на радостях в затон. А Кашкин из затона опять уходил. Второй раз за эту весну. Сильный озерный катер взял кран на буксир, второй катер пристроился толкачом. На солнечной палубе крана сидел вместе с Кашкиным технорук Рукавицын из затона и то смеялся, подшучивая над собой и над Кашкиным, что поехали они за «добычей», то сомневался, хватит ли глубины крану, не поздно ли вышли.
Кашкин переживал молча. Бродил по палубе, не находил себе места. Переживал он не только за катер. Еще в затоне, не раз вспоминая ту несчастную ночь, все думал он тайно, что бутылка не могла разбиться. Пусть спросонья, но он вроде бы ясно слышал, как упала она на стол, покатилась по нему и стукнулась потом об пол. И нет, не разбилась, а покатилась дальше. Да и как ей было разбиться: стол низкий, всего полметра, и палуба в каюте не железная… Разве треснула только, и водка из нее выбежала. Но ведь пробка-то с горлышка не содрана!.. – Все увидят. Конечно, никуда бутылка не делась из каюты, найдет он ее там и покажет техноруку, чтоб не думал Василий Степанович, что случилось все из-за вина. Так всю дорогу он и думал больше не о катере, а о бутылке. Хоть и понимал, что катер главнее и дороже, и о нем надо бы думать, а думал о своем.
Долго они плыли до нужного плотбища, кран не больно споро подавался против течения. Но пришли к месту как раз вовремя: Мишка Соловьев с бригадой уже оканчивали плотить последний плот и готовились разбирать запань.
Технорук велел оставить от формировочной сетки два корня, не уводить их пока, на тот случай, если катер нельзя будет вести в затон на плаву.
Переживали напрасно, все было как нельзя лучше: вода опускалась, и из воды показалась уже труба. Мачта была сломана, наверное, льдом или бревнами. Когда подошли вплотную, то увидели неглубоко под водой и крышу рубки. На нее можно было встать в сапогах с длинными голенищами и не зачерпнуть воды. Кашкин, увидя все это, так повеселел, что, казалось, большего счастья у него в жизни и не бывало. Он бегом бегал по палубе, приготовлял, распутывал стропы, измерял шестом глубину, прыгал к Мишке на катер, спрашивал, опять лез на кран…
По команде технорука под нос и под корму катера подвели баграми два стропа, крановщик включил лебедку, и катер, светлыми полотнищами сливая с бортов воду, медленно стал выявляться.
Когда вся рубка оказалась на поверхности, технорук остановил кран: дальше поднимать было опасно – корпус катера под грузом воды в нем мог переломиться. Да и кран мог оказаться перегруженным. Наконец вода, которой можно было сбежать, сбежала, катер развернули баграми, на кране включили поворот, и посудина Кашкина, будто большая рыба, была вытащена на сырую луговину. Кашкину даже не верилось, что катер целехонек – вот он лежит на берегу. Правда, был он уже не тот: палубу заметало песком, илом, всюду набило древесной коры, мусору, навешало прошлогодней травы… И Кашкин ходил вокруг корпуса, стаскивал эту траву и не замечал воды, бьющей из борта прямо ему на штаны. Ему не терпелось забраться скорее в кубрик и убедиться, цела ли бутылка. Но технорук еще не пускал его туда. Он велел зацепить катер за один борт, махнул крановщику рукавицей, троса натянулись, и вода полилась из катера, как из корыта, наклоненного на один бок. Она кинулась изо всех люков, из рубки и долго стекала на луговину. Потом ее еще вычерпывали и ведрами. Но сначала Кашкин забрался в кубрик и увидел все там до неузнаваемости жалкое, заилевшее, сбившееся к одному борту, однако все в сохранности, только обезображенное. Бутылки же не было, не было и склянок.
«Что ж, унесло течением, – уныло подумал Кашкин, – значит, не разбилась». Он стал разбирать мебель, сдвинутую к одному борту, и, когда отодвинул диван, увидел под ним бутылку. Она была цела, без единой трещины, наклейка только отмокла. Он вымыл посудину остатками воды, отер ее рукавом и с радостью побежал наверх.
– Вот она! Цела! – закричал он с палубы, показывая бутылку всем как главного свидетеля своей невиновности.
Все по очереди оглядели таинственную посудину. Мишка Соловьев бездумно хотел уж открыть ее, но технорук тут же вырвал бутылку из рук и велел отнести на кран.
– Куда его теперь? – нетерпеливо крикнул крановщик из кабины, разумея катер.
– Давай снова на воду, – и технорук распорядился подвести опять под катер стропы. Отошли все подальше, катер легко оторвался от гривы и плавно опустился на воду. Мокрый, как бы основательно утасканный и вконец измученный, катер плавал на тихой солнечной воде и ничуть не кренился ни на какой борт. Кашкин глядел на него с таким облегчением, что не мог уже думать ни о прошлом, ни о будущем. Он чувствовал такую усталость, спокойную, расслабляющую, что хотелось скорее зачалиться, отвалить от этого берега, а самому уйти на кране в трюм и лечь, там спать.
Когда убедились, что катер не тонет, его причалили к корме крана, и три катера быстро поволокли все хозяйство вниз. Все, кроме, капитанов катеров, сидели на палубе крана и радовались весеннему солнечному дню и быстрому ходу.
Кашкин еще несколько раз спускался с крана на катер, проверял там все, смотрел, нет ли где течи, и, удовлетворенный, возвращался.
– Ну давай твою бутылку, – сказал ему технорук. – Теперь можно, с удачным всплытием. За так, думаешь, тебя поднимали.
Все засмеялись, а Кашкин засмущался, отдал бутылку и ушел в трюм. К нему дважды спускались, звали наверх посидеть вместе со всеми, но он отказывался. И обидно было ему и боязно за себя, и выпить хотелось нестерпимо, но не так, а как следует бы, по-настоящему, чтобы забыться… Но мог ли он на это сейчас решиться? Нет, не то время было в его жизни: нельзя было так легкомысленно нарушить все, ради чего так много он перенес за эту весну. Потом, понимал он, дело его еще не закончилось, еще предстоит новый разговор с начальником. И он, не знал, что его в этом разговоре ожидает, куда теперь будет повернута его жизнь… Он лежал и завидовал им, кто был сейчас наверху и мог с удовольствием выпить, и жить и работать дальше, не чувствуя за собой никакой вины. Ни перед собой, ни перед начальством. Они и весной, конечно, выпивали, когда можно, и ничего у них не случилось, никто из них не был на особой примете, как он. А ему вино было наказано и начальником и самим собой. И он не мог обмануть ни начальника, ни себя. Нет, Василий-то Степанович ему простил бы эти сто граммов, и технорук вон не осуждает, напротив; приглашает даже. Значит, верят они в него, надеются. А может, как раз, наоборот – испытывают напоследок?..
Но больше всего Кашкин боялся самого себя. Себе изменить, обмануть себя – это было тяжелее всего. И нельзя теперь сделать это тайно, наукрадку, как бывало раньше, нельзя скрыть от себя ни на воде, ни на берегу – нигде. Надо было терпеть.
Вернувшись в затон, Кашкин снова приступил к ремонту. Но не катера, катер отдали в другие руки, а Кашкина определили шкипером на самую старую брандвахту.
Это была посудина, которую пора было списывать, нужды в ней особой не было. Она могла потребоваться только в середине лета, как общежитие, если нагрянет на запань много сезонников.
Кашкин принял шкиперство безропотно, тут же приступил к новому – третьему в эту весну – ремонту. Правда, тщательно ремонтировать эту брандвахту и не собирались. Ей надо было хоть как-то продержаться на воде до осени, а там ее судьба была предрешена: от дров деревянное судно никогда не уходит.
С прибытием в затон Кашкин вместе с техноруком и Мишкой Соловьевым заходили, сидели у начальника в кабинете.
Василий Степанович был неожиданно весел, шутил, в который уж раз спрашивал Кашкина:
– Так в одних кальсонах на острове и ночевал? Зайцев-то рассмешил, наверно. Видел ли хоть одного?
И Кашкин смеялся, и все смеялись.
– В другой раз бутылку-то в карман клади, – не унимался начальник, – погреешься хоть… Ладно, пиши объяснительную. Причину какую-нибудь указывай. Не знаю, как директору и докладывать буду. Раз пять уж о твоем катере звонил. Ведь не поверят: на стоянке, у берега – и утонул.
На начальника Кашкин не обижался: понимал, что оправдать его в эту весну никто не мог. В затоне катер обследовали и нашли в кормовой его части выше ватерлинии небольшую трещину. Она-то и подвела Кашкина.
Теперь можно было обвинить сварщиков, мастера по судоремонту, приемную комиссию… Но никто не смог бы оправдать и капитана.
Шкиперил Кашкин прилежно. Он так и не запил, чего хотел и боялся. Иногда спрашивал об этом других шкиперов, советовался. Отвечали по-разному, но Кашкина убедили только слова караванного Евсеича. Философски задумавшись, Евсеич погладил лысину и изрек, как заклинание:
– Тут так: либо пей, либо не пей! А на прибойном месте болтаться нечего: погибнешь!
И Кашкин решил не болтаться. Он понимал, что шкиперит первую и последнюю навигацию: брандвахту в зиму спишут, и он уйдет опять в капитаны.
В навигацию я не раз к нему заходил на брандвахту, и он всегда как-то смущался, спрашивал, так ли ведет свое шкиперское хозяйство.
А вел его неплохо и всегда старался подчеркнуть, что больше он не пьет.
Но судьба любит испытывать своих избранников до конца. Осенью той навигации, когда все суда были уже в затоне и экипажи на берегу отмечали праздник Октябрьской революции, Кашкин – один, наверное, из всего затона – ночевал на своей посудине. Брандвахта его стояла в самой дали, в глубине затона, возле дубовой гривы.
В ту праздничную ночь Кашкин не видел, как разъезжал на мотоцикле вдоль берега дежурный Максим Снопихин, как палил он из ракетницы в черное небо. Кашкин лежал уже в своей каюте, отдыхал после работы, потому что весь день чистил судно, готовил его к сдаче. После праздника намеревался он ехать домой в отпуск. С женой у них отношения за лето как будто наладились, она изменилась, узнав, что он больше не пьет, не ругала его за весеннюю оплошность и за шкиперство, ждала к зиме в деревню. Думая об этом, Кашкин и уснул.
Проснулся он со знакомым чувством: «Тону!» Не сразу поверил, думал, что приснилось. Но все равно знал уже, что надо делать. Быстро, наошупь (брандвахта не освещалась) оделся, забрал спички и – наверх. Брандвахта как-то спокойно, отдирая от бортов лед, оседала вниз. Кашкин кинулся к шлюпке, она наполовину уже затонула. Однако он отвязал ее, прыгнул на банку и, ломая веслом лед, стал пробиваться. Подмок, но выбрался, правда, уже по льду, покинув и лодку. В слабом свете, идущем от караванки, он долго наблюдал, как оседала брандвахта все ниже и ниже. Наконец, остановилась, успокоилась, над водой виднелась только крыша.
Быстро по-деловому разжег Кашкин костер и стал сушиться. Он знал, отчего затонула брандвахта. В середине ночи схваченные морозом льдины стали давить на старый корпус, ветхие борта не выдержали, и тяжелая осенняя вода устремилась в корпус…
До утра он так и сидел у костра, даже кричать не решался. Его удивляла упрямая непокорность судьбы, наперекор которой он шел. Однако теперь он был уже спокойнее, не как весной, привыкал, что ли.
Он не боялся нового обвинения, не боялся того, что про него скажут в затоне и сам начальник… Но понимал, что просто так все это теперь уж действительно не пройдет.
Разговоров о Кашкине было много. Смеялись, жалели, удивлялись… Незамедлительно пристало к нему и прозвище – «капитан подводного плавания». Прочно пристало, надолго.
Но кто в затоне без прозвища? Многие и умирают с ним, как со вторым именем.
Больше всего Кашкин был удивлен, что уже через неделю после случившегося начальник, не ругаясь, отпустил его на всю зиму в отпуск.
Новой весной, когда он жил еще у себя дома с женой и дочерью, начальник Василий Степанович, распределяя в кабинете капитанов по судам, дошел до фамилии – Кашкин.
– Куда его? – спросил он технорука.
– Матросом куда-нибудь.
– Нет, – сказал начальник, – давай поставим капитаном.
– На ПС? – с готовностью взглянул на него Рукавицын.
– Зачем на ПС, на настоящий большой катер.
– Как? – удивился Рукавицын. – Он же…
– Вот именно – «подводник», – опередил его начальник. – Значит, топить его еще глубже?.. Это еще не капитан, если не тонул и не горел. Пиши – на 49-й!
МартышкинЗолотоё время накатило – леса по реке дружно пожелтели и враз стали недвижные, будто боялись тряхнуть своим багряно-жарким нарядом. Изменилась и река – на ней высветилась вода, белее стали пески, просторнее и чище дали.
Все реже меня будили по ночам. Сломали хребет плану, и люди стали ласковее глядеть друг на друга. Начальство, встречаясь со мной на панелях запани, приветливо улыбалось, не прочь было пошутить, рассказать свежий анекдотец. Совсем другое дело пошло. Теперь вроде бы уж и не работали, так, дорабатывали. Любую аварию я мог обследовать при дневном свете, не спеша, и ремонт вести обстоятельно, с соблюдением всех технических норм, а не «на опакушу», как говаривал шкипер брандвахты Евсеич. «На опакушу» – значит, грубо, на глазок, по интуиции, без технических расчетов и эстетики, но по-русски, с десятикратным запасом прочности – чтобы уж наверняка! В горячую пору навигации так именно и приходилось сваривать, соединять болтами, хомутами, скобами… Иногда, усиливая один узел, я заведомо надсаживал соседний в расчете на последующую переделку. Скрепя сердце, задавая самому себе лишнюю работу в зиму, я все-таки делал так: не должны были стоять машины и сотни людей – нужен был план. И вот план уломали. Как после сражения, подсчитывали теперь удачи, промахи. А тут и в природе, как бы заодно с людьми, наступило это благодатное светло-желтое время. Теперь с запани я все чаще возвращался пешком. Окончил работу – и гуляй себе один среди деревьев.
Потом за одну ночь листьев много на землю опало, и ходить лесом стало еще лучше. Идешь мягкими золотистыми колеями, а по всему лесу будто спокойный желтый свет разлит. Шуршит под ногой легкий благородный лист, и легко тебе, раздольно. Покой, отдохновение… Только сорока режет тишину отрывистым стрекотом. Подпустит поближе, затрещит на весь лес, и, уронив два-три легких листочка с липы, полетит, бестолковая, в редеющем просторном лесу. Стоишь и смотришь, как падают эти листочки с покачивающейся верхушки.
Затем откуда-то объявились снегири. Нахохлившись и зябко попискивая, они сидели на ветвях среди последних желтых листьев, краснозобые, круглые, будто вызревшие забытые яблоки.
На запани вместо пяти работали теперь только две сплоточные машины. Машинисты на них были хорошие, и душа моя не болела. Но беда всегда подстерегает там, где ее не ждешь. В тот памятный день сломались машины обе враз, и запань затихла. Хорошо, что на рейде мы держали одну машину в запасе, на такой вот роковой случай. Тут же и ввели ее в дело. А другую заменять было нечем. У нее прохудился и затонул поплавок. Железо на поплавке было старое, изношенное, поэтому ремонтировать сваркой я не решился, да и железа подходящего у меня не было. Я снял с работы ближний кран, погрузили этим краном поплавок на понтон и отправили в затонские мастерские. А оттуда по моему звонку буксировали уже новый поплавок. Когда его привели, крана рядом уже не было. Я разделся и стал толкать поплавок вплавь: катер к машине подойти не мог. Машинист Пашка, молодой, но сметливый и решительный малый, кинулся мне помогать. Надо сказать, что поплавок этот был далеко не игрушкой, железная коробка его была величиной с кузов грузовой автомашины и могла выталкивать из воды пучок бревен в 10–15 кубометров. Навозились мы с ним досыта, но, слава богу, помогли рабочие. Когда я закрепил в воде последний шплинт, Пашка, стоя на поплавке в шапке, фуфайке, но без штанов, налил мне в кружку водки, посыпал перцем и приказал: «Пей!» Я выпил, задохнулся, скорее прыгнул на катер и стал одеваться. Машина вновь заработала, а я отвалил на свою брандвахту спать.
Проспал до утра. Проснувшись, прислушался: обе машины глухо пошумливали. «Работают! – радостью отозвался во мне этот привычный звук. – Обе работают!» Я лежал и чувствовал себя именинником, хвалил свою находчивость и расторопность. Хотя это пришло ко мне еще во сне, потому что всю ночь меня не будили, не спрашивали.
В этот же день после обеда, я получил именной пакет. Вскрыл его у себя в каюте и прочитал приказ по конторе, в котором линейному механику, то есть мне, объявлялся выговор за остановку машин на ремонт в рабочую смену. Я положил бумагу на стол и стал думать, где же я свернул с верной дороги. Но что теперь было думать. «Все равно выговор на благодарность не сменят», – пришел я к выводу и искоса поглядел на бумагу. Мешала она мне как-то, эта бумага, портила заработанное доброе настроение. Подумав, я смял ее и засунул в ствол ружья. Потом достал из шкафа патроны и отправился в луга.
Есть особая, успокаивающая прелесть в этих голых осенних лугах. Они безмолвно-покорны и будто ждут чего в своей привычной безропотной доле. Стога, уже осевшие, ставшие плотнее и глаже, стоят одиноко и просто, будто древние памятники. Почему-то вид этих осенних стогов мне всегда напоминает о вечности, о спокойной силе природы, мудрую простоту которой не удалось еще никому перехитрить.
Я шел и думал, что у природы на всякий год есть тоже свои «планы», и она их всегда выполняет без суеты и спешки в срок. Вот октябрь: уже опали в лесу и на лугах ягоды и семена, на них навалились листья, трава – скрыли от внимательного птичьего глаза да заодно и утеплили перед зимой. Хотя еще не скоро наступит холод, еще постоит это благодатное сухое время. Пусть все барсуки, кроты, мыши, белки – всякая лесная тварь – запасутся на зиму пропитанием, пусть все утеплят сухим мхом и листьями свои норы и гнезда…
Затем, когда все управятся, плотно прибьет листву дождь. А еще позднее прокалит землю морозцем, как бы дезинфицируя, повысушит влагу. И только после всего этого спокойно и уверенно ляжет первый снег. И чем холоднее будет в лесу, тем больше, надежнее будет укрывать землю снегом. И никого не застанет зима врасплох.
«Вот бы и у нас так, – думал я. – Без суеты, без взрывов. Что нас заставляет спешить, подгонять друг друга? Откуда пришла эта погоня, эта вечная боязнь опоздать?» Обходя кусты шиповника и порой останавливаясь в раздумье среди сухих стеблей конского щавеля; я думал об этом так и этак и пришел к одному выводу: страх перед новой войной. Вот откуда спешка, постоянная забота о своей силе. Перерывы между войнами, кажется, лишь для того и существовали, чтобы учесть ошибки, омолодить армию, залечить раны… Вся история только и говорит об этом. Ни одно существо на земле не живет так безрассудно и безоглядно, как человек.
Медленно шагая лугами, я думал, сколько же уничтожено людей, богатств. Мне представилось на миг: а вдруг кто-то наблюдает за нами из космоса… Тогда как же дивится он про себя: «Что за безумцы! Строят, накапливают, растят, а потом взрывают, жгут, стирают с лица земли. Очистились – и снова за прежнее…» Будет ли предел этому? Как жаль, что мертвые лишены голоса. Сколько их, убитых на всех войнах!
Два заросших осокой озерца, куда я пришел, были безжизненны, ни одной утки тут не плавало. Я присел возле стога, надеясь, что на вечерней заре утки сюда полетят на ночную жировку.
Медленно угасал день. В безветрии и безмолвии. Слышалось только дальнее урчание катера на реке. Было тепло и тихо. Всю землю обволакивала эта спокойная тишина предвечерья.
За озерами, на другой стороне протоки, послышались женские голоса. Женщины куда-то шли лугами, может быть, на лесозавод, громко разговаривали, смеялись. Они спугнули в лугах большую стаю уток, которая долго кружила над гривами и опять нырнула в кусты. Голоса удалялись, и было слышно, как утки возбужденно крякают, переговариваются. Я напрягал слух и ждал, что, может быть, они взлетят снова… Но покрякивания становились все умиротвореннее, реже и наконец стихли совсем. «Надо ехать, – подумал я. – Еще не темнеет, успею».
Я обогнул ближнее озерцо и пошел берегом протоки в надежде увидеть где-нибудь лодку. Но берег был пуст. Из гладкой воды выглядывали топляки. В протоке, ближе к моему берегу, стояла наливная баржа БН. И на ней было мертво. Правда, уже горел слабенько топовый огонь на мачте, но на палубе никто не шевелился. Не было и катеров рядом. Это была наша заправочная баржа с топливом, а шкипером на ней работал Мартышкин.
Выйдя на самый берег, я стал кричать. Однако на палубе не было заметно никаких признаков жизни. Тогда я стал искать в траве палки и кидать их, стараясь попасть в железный борт баржи. Наконец дверь открылась, и появился Мартышкин. Он был самым неприметным шкипером во всем затоне. Никогда не возмущался, ничего не «выбивал» для своей баржи, жил и работал так смиренно, безлико, будто и не жил вовсе, а просто наблюдал за течением жизни и старался ничем этому течению не мешать. Не припомню случая, чтобы он повысил когда-то голос, был чем-то недоволен. Но и доволен вроде бы никогда не был. Одет был всегда в какую-то серую курточку-спецовку и такие же помятые брюки. Лет ему было за пятьдесят, но казалось, что он никогда не был моложе да не будет и старше. Весь он был какой-то застывший, без движения. Когда я бывал у него на барже, то всегда чувствовал себя угнетенно, меня одолевала какая-то странная тягостная скука. И я не понимал, отчего это. Все у него было вроде бы сделано, будто ждал он моего прихода, но сделано так, что и похвалить не за что и ругать нельзя.
Все лето он стоял здесь, и все лето флот, работавший на запани, заправлялся у него топливом… И он ко мне никогда не обращался, и я заходил к нему редко, подвернешь на катере, как говорят, для очистки совести, спросишь и повалил дальше.
Выйдя из своей каюты, он огляделся и, увидев меня на берегу, спросил:
– На охоту? – видимо, он прежде всего заметил мое ружьё.
– Перевези давай, – крикнул я.
– А… Сейчас, – только тут он узнал мой голос и заторопился.
Сколько ни ходил я по гривам, а уток тех не нашел, но возле самой реки, в густых зарослях тальника, неожиданно наткнулся на такое укромное озерцо со множеством ряски, утиных следов по илистым берегам и свежего пуха, что сердце во мне забилось, как в отрочестве. «Вот они где собираются», – поспешно устраивался я в кустах, чувствуя близкую удачу. Я спрятался в густых, еще не облетевших тальниках как раз там, где надо: в самом тупичке озерца, лицом на запад – так что все заалевшее от вечерней зари зеркало воды было передо мной. Становилось уже сумрачно, но на этом зеркале я мог еще долго различать не то что утку, а даже обыкновенного жука.
Есть в охоте вот этот момент уверенного ожидания, когда живешь будто бы в ином измерении. Все в тебе замирает, усиливая во много крат слух и зрение, и как-то по-иному уже ощущаешь весь мир, может быть, близко к тому, как чувствуют его звери и птицы. Этот тайный миг проникновения в вечный мир природы, оказывается, сложный и согласный, дает охотнику ни с чем несравнимое ощущение, пробуждает в нем какую-то особую силу и уверенность в себе, всегда непонятную неохотникам.
Было тихо, тепло и очень влажно. Мелкая изморось обильно опускалась вместе с темнотой на землю. Над дальним носком озерца возник слабый и нежный дымок тумана. Я видел, как он зачался, ширился и густел на глазах. Возле моего куста ничего этого не было, но когда я огляделся, то увидел, что уже весь мир погрузился в голубую влажную ночь. С тихим шорохом, будто спросонья, изредка упадал у меня за спиной оторвавшийся лист, потом, как бы подытоживая его жизнь, ставил кто-то отчетливую точку – это отяжелевшая капля бухалась на лиственную подстилку – и опять сладко-томительное ожидание. С запани прошел рекой ночной катер. Когда рокот его двигателя удалился, на берег пришла волна, плеснула и с ровным шорохом покатилась приплеском дальше.
Никаких уток не было, и до меня наконец дошло, что их и не будет: они отсиживались здесь днем, и никто их не согнал ввечеру, а они сами снялись и улетели ночевать на большие безопасные озера.
Я пошевелил затекшую ногу, хотел уже вставать, но в это время на каком-то теплоходе, ожидавшем плот, включили проигрыватель, и над притихшей рекой медленно поплыл «Осенний сон». Музыка не ворвалась, не оглушила, а вплыла осторожно, ничуть не потеснив тишину. Вальс растекался по всему рейду, медленно пробирался через притихшие отуманенные леса и будто бы замирал где-то у далекого ночного горизонта.
Когда музыка стихла, я сидел как оглохший, ждал еще и вдруг напугался: «Сейчас поставят какой-нибудь джаз и все изгадят, спугнут с души весь покой и благость ночи». Представил, как на всех катерах, баржах, брандвахтах ждут, затихнув, что же выберет там еще рулевой или штурман при свете зеленого огонька у себя в рубке. И вот послышался осторожный шороху и опять те же (те же самые!) плавные волны, будто обогнув земной шар, выявились у нас в ночи и снова начали растекаться по туманным лугам, кустам, перелескам… Не знаю, наверное, есть музыка, которая и больше подошла бы к этой ночи, но мне другой было не надо. Словно глухая стена отомкнулась в моей душе и впустила туда свежий живительный воздух, исцеляющий боль и обиду. Плавная неторопливость вальса будто бы говорила о конце навигации, о покое осени, о единстве и согласии всего, что делается у людей и в природе. Лишь иногда будто слабый шаловливый ветерок озорно играл последними листьями в вершинах старых мудрых деревьев… Это было так просто, естественно, что не вызывало никакой тревоги, никакого предчувствия бед или неудач, жизнь впереди простиралась спокойна и величава, как сама эта музыка и ночь…
В тумане я не сразу нашел свою лодку, не спеша пересек протоку на слабо светившееся окошечко на барже. Причалил и пошел сказаться хозяину. Но перед дверью остановился: какой-то странный, непонятный звук доносился из каюты. Я постоял, прислушиваясь, но, так ничего и не поняв, толкнул дверь. Мартышкин сидел возле занавешенного окна и строчил на швейной машине. Круглые очки его без правой заушины держались на седой голове при помощи резинки. Увидев меня, он сказал буднично, спокойно:
– А… сейчас. Садитесь, кончаю, – поправил очки и продолжал строчить.
– Давно шьете? – спросил я безо всякого интереса, лишь бы не молчать.
– Хы, давно… Всю жизнь. Я в ателье работал.
– А как же сюда, в шкипера?
– Надо где-то, скоро на пенсию. А это, – он ткнул в шитье, – приработок, для души. Чего так сидеть. Вам ничего не надо? А то устрою.
– Нет, не надо. Зимой разве, посмотрим…
Он перевез меня, и я опять окунулся в ночь. Туман, наверное, поредел, но светлее не стало, только глуше и сырее. Пахло илом, палой листвой, тянуло от ближних штабелей гниющей осиной. Суда на рейде уже спали, только тускло светились в тумане огни клотиков. Дальним, глухим отголоском еще звучала во мне музыка, но уже не было того безоглядного счастья, душевной легкости и свободы, которые я ощущал, пока не ступил в каюту Мартышкина. Он будто перестрочил, перерезал пополам этот вечер.
Я постоял в ложбинке, чтобы попривыкли глаза, послушал и направился берегом к брандвахте.
Было так непроглядно, что я нес перед собой, будто миноискатель, палку, чтобы не напороться на кусты или проволоку, которой много валялось на берегу.
– Га-ка… Га-к! Га-к… – летели высоко гуси, и вожак предостерегающе, а может, успокаивающе по-отцовски извещал стаю. «Гусь летит – жди дождя», – вспомнил я народную примету. – Ну теперь не страшно, план у нас почти выполнен, доделаем». И тут я опять вспомнил о приказе и о том, что лежит он у меня за спиной смятый в стволе. «Зачем я несу его опять в каюту? Зачем?» Я снял ружье, поднял повыше и выстрелил в сторону лугов. И стало легче.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































