Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
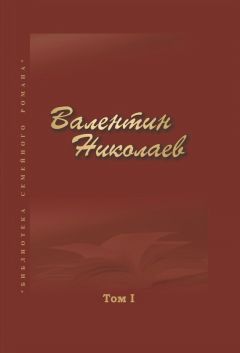
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
Среди моря, среди сопок
На неводах«Когда снежные вершины сопок прячутся в туман и мглу, у подножия их бурлят обжигающе кедровые ключи.
Когда у тихих озер дремотно шепчутся невиданной высоты травы, по другую сторону сопок неприкаянно ревет океан…» – так записал я себе на маленьком прибрежном аэродроме Камчатки. В полуверсте бушевало страшное почерневшее море. Всю ночь выла, шарила по стенам пурга. Самолеты не летали вторую неделю. Камчатка притерпевалась уже к новой зиме. Я не ждал от этой зимы никакой радости и хотел только одного – скорее выбраться на материк.
Но полгода назад, когда я сидел на теплом московском аэродроме, мне казалось, что я нахожусь в преддверии неожиданно подкатившего счастья. Тогда, первого июня, я улетал на Камчатку.
«Возможно, в этом действительно есть немалый смысл – забраться в молодости подальше и испытать себя в работе и жизни нелегкой…», – думал я. Хотя легкой жизни нигде нет. Это я знал и до отлета. Там, на Камчатке, ждал меня друг и какой-то сейнер, на котором мы собирались вместе рыбачить.
И вот после долгих часов утомительной воздушной дороги за сопками распахнулся океан, а может, просто Авачинская бухта, и в салоне все облегченно вздохнули, будто земля, которая была под нами почти сутки, всем до смерти надоела. Кое-где у берегов были видны белые полосы, и я понял, что это лед. Смело снизившись над морем, самолет так стремительно кинулся к подножию сопки, что у меня защемило внутри, но неожиданно среди корявых голых березок и каких-то кустарников появилась бетонная плоскость аэродрома. Это было Елизово – воздушные ворота Камчатки.
Сырой прохладный воздух, люди в плащах и куртках – московский апрель. До Петропавловска надо было добираться автобусом. Я вышел сразу, как только за стеклами показалось море. От гладкой поверхности бухты улицы и дома уступами взбирались вверх по склону сопки.
Больше недели жил я в Петропавловской гостинице, глядел на бухту и ждал погоды, чтобы улететь на север Камчатки в поселок Ивашка, где уже, наверное, началась путина. Я совсем было пал духом, но вот поселился в моем номере молчаливый, все время читающий книги человек и, когда мы разговорились, сказал мне спокойно, совсем буднично:
– Неделю?.. Милый мой, это Камчатка! И месяц просидишь – ничего не скажешь.
Его спокойное деловое рассуждение было мне первым напоминанием, что Камчатка не любит суеты, нервозности, что жизнь здесь идет обстоятельнее и проще.
До самой Ивашки самолет шел вдоль восточного побережья полуострова, и внизу были то море, то сопки. Ивашка – рыбацкий поселок на плоском берегу, на полуострове между речным лиманом и речкой Ивашка. Колхоз богатый, имеет свой аэродром, но это не роскошь, а первая необходимость, так как железных дорог и сельских автобусов Камчатка не знает. В поселке было много собак, чайки, будто вороны, вились над огородами, возле заборов лежали еще кое-где темные остатки снега, дыры в изгородях были заделаны кусками неводов. Было здесь еще холоднее, чем в Петропавловске, неуютно, праздного народа на улицах не болталось, все были на пирсе, возле рыбацких складов и диспетчерской. Даже ребятишки суетились тут, ловили с лодок гольцов.
Оказалось, пока я сидел в Петропавловске, друг мой ушел на сейнере в море, уже ловил там рыбу, и я остался не при деле. В семь часов вечера по местному времени, когда был капитанский час, я пошел в диспетчерскую, вызвал по рации его сейнер, и друг прокричал откуда-то с моря: «Иди на невод! В бригаду на невод иди!..» Я что-то объяснял ему, спрашивал о сейнере, но он будто не слышал, а все твердил свое «иди на невод». Я отдал наушники диспетчеру и пошел берегом прочь. Вдали синели вечерние сопки, рядом, возле моих ног, было холодное, еще со льдинами, море. И тишина. Долгая, ледяная, будто космическая. Такая, что сжималась душа.
* * *
Бригадир Гнездов, тощий, невзрачный, шил в пошивочном цехе невод. Взяв из моих рук заявление, подписанное председателем, вдруг закричал:
– Куда он, черт, посылает! И так хоть отбавляй!..
Некоторое время я стоял, не зная, в какую сторону качнулась моя судьба, рыбаки молча шили, а я ждал.
– Ладно, – сдался наконец бригадир, – нож, сапоги, портянки есть?
– Ничего нет…
– Делай, ищи или покупай! – опять закричал Гнездов, еще раз оглядел меня и сказал уже тише: – Ладно, на портянки вон мешок распорем. Завтра к семи приходи на берег.
Два дня мы готовили на берегу невод. Отмеряли, подшивали, подвязывали… Много набиралось этого рыбацкого хозяйства: бухты тросов, оттяжек, веревок; буи, бочки – все тяжелое, грубое, прочное – все для моря. По одному только этому и то можно было догадываться, какая нас ожидала работа. Мы скручивали вручную целые тысячи вязок из тралпряди, потом покупали крупу, соль, макароны, консервы… И все мешками, ящиками. Каким-то чудом разместили все это по двум лодкам-жилонкам, сами разделились на два звена, и каждое звено стало устраиваться на своем кунгасе, уже как бы самой судьбой обреченное жить одной братской семьей.
Разные были в нашем звене рыбаки: самому старшему под шестьдесят, самому младшему восемнадцать, а остальным в среднем по тридцать. Девять человек, до сих пор где-то жившие на земле и занимавшиеся всяк своим делом, теперь должны были выполнять одну общую согласную работу. А в море из девятерых бывали на путине только четверо. Особенно выделялся среди них сухощавый подвижный Егорушка. Невысокий, легкий, он обо всем имел мнение решительное, спорил с любым, тут же доказывал свою правоту делом, брался за десятки разных работ, но ни одну не доводил до конца, а заставлял доделывать кого-нибудь из нас. Сначала он мне понравился, но, увидев его в деле, я разочаровался. Мне предстояло в нем разочароваться и еще раз, уже там, в море.
Ближе к полудню, когда начался прилив, налетел сверху реки катер, взял на буксир оба плашкоута с неводами, затем два наших кунгаса и поволок все это из устья реки в море.
– Быстро всем в трюм! – скомандовал Егорушка, хозяйственным глазом окинув палубу.
Была в этом отходе особая торжественная минута, как бы роковая черта, отделявшая нас от привычной земной жизни. Как я убедился потом, выходят моряки в море всегда тихо-сосредоточенно, каждый как бы сам по себе – будто еще раз мысленно проверяет себя перед ожидаемой стихией.
Все глуше были накатистые вздохи прибоя, все тише нервные подрагивания кунгаса, и вот начало протяжно-плавно вздымать и опускать – мы были в море!
Катер теперь был далеко (он выпустил длинный буксир), и весь наш караван вольготно растянулся по морю. Теперь надо было ожидать всего.
Мимо нас проплывали иногда кочующие льдины, глубоко сидящие в воде. От них веяло устойчивым холодом, океанской пустыней. «Поймаем ли что? Где она сейчас в этом безбрежном океане, наша рыба? Как пойдет?» – глядя на проплывающие льдины, гадал я. Размеренная, спокойная волна убаюкивала, и вскоре все разлеглись по нарам. Один Вася Кириченко не спал, сидя у руля, он курил и смеялся: к ногам его, на палубу, выпрыгнула из воды какая-то рыбина.
– Давай уху сварим? – сказал я.
– Подожди, может, еще какая чумная запрыгнет… Первая рыба, – улыбался он, дотрагиваясь до нее, – к удаче, наверно…
В устье речки Уки, куда к вечеру притащил нас катер, другие рыбаки сидели уже у костра, пили чай, курили. Разговоры только и были о рыбе, о постановке неводов, о течениях, о температуре воды… Все были полны решимости, великодушия, были доброжелательны перед большим общим делом. Кунгасы наши были пришвартованы в один ряд с другими, и началась у нас последняя береговая жизнь: здесь на чистом песке прибрежья мы должны были разобрать свои невода, проверить все, ушить, – подготовиться окончательно к морю.
Место было тут дикое, голая тундра, а вдали высились все те же призрачные вершины сопок. Было не то что тихо, а пустынно. Поужинав у костра, мы уснули на своих жилонках, а едва начало брезжить, я проснулся от такого холода, что не верилось в лето. Рядом со мной, на верхних нарах лежал незнакомый человек в шапке, резиновых сапогах, во всей грубой рыбацкой одежде, с ножом и патронташем на поясе. Широко раскинув тяжелые руки, он храпел, будто у себя дома. Но вдруг проснулся, словно почуял, что я на него смотрю, и сразу запел:
Как мой дядька был барон,
На лету ловил ворон…
А родная тетушка…
Он не закончил, дверь в жилонку распахнулась, и кто-то оглушил нас: «Подъем!»
Зашевелились, засопели вокруг, а сосед мой так и лежал навзничь, спокойно приговаривая в низкий потолок:
– Суто такое?.. Фставать путем, маленько рапотать путем? Чай пить путем?..
Внизу еще кряхтели, обувались, а он спрыгнул почти на головы, встряхнулся, повел лопатками и полез наружу. Это был Николай Попов. Уроженец Воронежской области, он приехал на Камчатку с отцом еще мальчишкой тридцать пять лет назад. В наш лиман он прикатил ночью, один на своей моторной лодочке, привез какие-то недостающие документы и свое ружье.
Солнце и ветер. Мы в лимане на песчаной косе. Насыпаем песком две тысячи мешков. Все до пояса голые, но в сапогах и шапках, почти все уже обросли бородами, у каждого сбоку нож.
Жарко от солнца и от работы. В короткие перекуры мы видим, как у нас над головами с моря в лиман и обратно тянут через косу кайры, утки, гагары… Готовые мешки мы перевязываем крест-накрест трал-прядью, ставим рядами. От смоленых вязок ладони горят, тралпрядь врезается в пальцы, а конца работы не видно.
Стоит самая середина лета – двадцатые числа июня. Даже здесь, на севере Камчатки, теплое, ласковое время.
Каждый вечер, оставив на берегу свои невода, мы лежим вокруг костра, ужинаем, прислушиваемся к глухим ударам волн о галечный берег косы.
Подкатываясь к берегу, волны обволакиваются белой кипящей гривой и с такой настойчивостью ухают в нашу узкую полоску земли, «то мы их слышим даже ночью, во сне.
Неожиданно все изменилось. Перед самым выходом в море у нас назначается звеньевым Девяткин. Приезжал инженер лова Кожин, беседовал с бригадиром Гнездовым, и звеньевой наш Егорушка был от своей должности отстранен. Точных причин этому мы не знали, однако догадывались. Не любил Егорушку сам Гнездов за его суетливость, но еще больше он не нравился, говорили, Кожину. Мы были этим возмущены, особенно приезжие, так как Егорушка нам нравился своей легкостью в деле и в обращении. Но другие рыбаки, коренные жители Ивашки, загадочно молчали.
От всего этого тяжело стало в нашем звене, да и не только в звене, а и во всей бригаде. Выходить в море с таким настроением не годилось. Все видели, что оба звеньевых (Егорушка и Девяткин) теперь враждебно относятся друг к другу. Егорушка в работе забывался и по привычке командовал всеми, а Девяткин, будучи лет на двенадцать моложе Егорушки, переживал это болезненно.
Один Николай Попов будто не замечал ничего. Шил, вязал, размечал дель[14]14
Дель – сетематериал, собственно невод.
[Закрыть] – все это с шуткой, частушкой, прибауткой…
Однажды, когда мы подвязывали грузила, раздался возмущенный голос Девяткина:
– Это кто тут так наплел?.. Кто, я спрашиваю?
Все молчали. Наконец малорослый украинец Коля Ставинский, на которого почему-то смотрел Девяткин, сказал:
– Попов там привязывал…
– Это разве узел? В море его в два счета размочалит! Ты, что ли, Попов?.. Перевязывай иди!
– Суто такое? – насмешливо переспросил Попов. У него была такая манера – подражать корякам в разговоре. – Тавай путем посмотреть. – И он подошел к нижней подборе невода.
– Это узел? – сунул ему Девяткин зажатую в руке подбору.
– Да! А может, развяжешь? – в свою очередь спросил Попов.
Девяткин не ответил, а Николай спокойно продолжал:
– Вот и плохо, что нынче не делают экзамена рыбакам. Раньше как… Не умеешь узлы вязать – в бригаду не пустят. Тогда порядок был! Если хочешь знать, так это самый прочный узел – японский! Сгниет, а не развяжется! Если «самурая» затянул – больше не заглядывай. – И он с достоинством вернулся на свое место.
Потом он нам показывал много узлов, и всякий перекур мы учились на каболке[15]15
Каболка – прядь каната, троса.
[Закрыть] вязать их. Каких только узлов не было! Прямой узел, простой крюк и двойной, удавка и щегол, калмыцкий, боцманский, японский… Был даже «бабий задумчивый».
Выходили в море ночью, по приливу. Мешки и невода были погружены заранее, поэтому мы только попрыгали с пирса на плашкоут и разбрелись кто куда, чтобы добрать прерванный сон.
Светало. Серо, мглисто было вокруг – и на море, и на ближнем очень низком плоском берегу. Вот тут, возле этого продуваемого берега, и суждено было нам обосноваться на жизнь и работу. Но сначала надо было поставить невода, потому что и жить мы должны были в буквальном смысле на неводах.
Я до сих пор удивляюсь, как никого из нас не покалечило, не утащило вместе с неводом на морское дно. Выставить невод в открытом море – большое искусство. Особенно это искусство требуется от капитана катера: ведь это он должен по мысленным линиям выставить в море костяк невода из тросов, державшихся на якорях и поплавках.
А потом уж на эти тросы будет навешиваться сама дель невода. Наш капитан Джибов командовал лихо. Весь день он стоял на мостике с трубкой, и весь день она у него гасла, потому что он непрестанно кричал.
Матросы у него бегали бегом: и молодой сильный Коля, и пожилой уже, с морщинистым лицом Ряховский. Они исполняли и свои матросские дела по катеру, и нам помогали. Весь день качало, весь день, с трудом удерживаясь на ногах, мы кидали мешки с песком с плашкоута на катер, по восемь штук в ряд привязывали их к двум тросам, лежащим на досках. Катер летел полным ходом, со свистом мелькали с палубы кольца тросов, бригадир рубил рукой воздух: «Пошел!» И мы, дико враз рявкнув, сбрасывали шестнадцать мешков за борт. Брызги взлетали у нас над головами, катер, вздрогнув, стремился дальше, а мы как бы шутя подкидывали и привязывали новую партию мешков. Почему-то мешки эти, которые с трудом мы перетаскивали на берегу в паре, теперь не казались тяжелыми, мы их кидали даже в одиночку. Уставали так, что валились прямо на палубе.
На пяти бочках покоился в море прямоугольник нашего невода. От середины прямоугольника тянулось до самого берега крыло, в которое должна была упереться идущая на нерест рыба.
Стараясь обойти крыло морем, рыба обязательно должна была прийти в ловушку невода. Километры тросов, тонны грузил, поле неводной дели – все это, согласно связанное и расправленное, скрылось в море. Наверху были только пять поплавков-бочек да мелкие наплава – балберы, над которыми весь день кружились чайки.
Собираясь в море, никто не думал, что самым тягостным окажется это ожидание рыбы. Боялись работы, штормов, собственного неумения, но только не безделья.
– Завтра пойдет! Куда она денется…
– Течение нехорошее, вот сменится – тогда, может, тронется.
– Штормик бы покрепче, чтобы вода прогрелась. После шторма рыба всегда идет.
– Чего тут говорить, японцы перегородили! Они сетей знаешь сколько выставляют? По десять тысяч километров! Пройди тут… Вон вчера сколько рыбин было в «хомутах», вся ячеёная…
Так мы лежим, переговариваемся часов до семи. На море давно светло, небольшая волна слегка баюкает кунгас. Звеньевой наш Девяткин уже хорошо вошел в свою роль, командует, с Егорушкой они больше не ругаются. Мы лежим, потому что Девяткин с рассветом выходил и смотрел с палубы в невод. Попавшаяся рыба будет ходить по неводу кругами, и если сидеть тихо, то видно, как она проплывает мимо жилонки, описывая круг за кругом. Мы уже изучили повадки каждой рыбы: камбала и крабы лежат на дне невода почти мертвым грузом, селедка гуляет вольно вразброд, безо всяких правил, а вот кета и горбуша, собравшись стайкой, ходят кругами. Мы эту рыбу знали даже «в лицо», потому как всякий новый косячок, появившийся в неводе, становился для нас событием. Но мало было этого пополнения.
И все же, пока кок дядя Саша готовит завтрак, мы каждое утро перебираем невод: надо его промыть, выбрать мусор, коряги, водоросли, выбросить морские звезды и бычков; камбалу и крабов «сдать» дяде Саше, зашить дыры… Дело находится каждый день…
После завтрака я прыгаю к Попову в шлюпку, и мы плывем вдоль крыла к берегу. За ночь дель крыла всегда перекручивает, сшивает корягами, и мы долго возимся, выпутывая их. Особенно много хлопот у самого берега. Здесь, на полосе прибоя, даже в тихое время валы, или, по-местному, бары, ставят шлюпку на попа, стараясь выкинуть на берег. Вместо крыла тут всегда тугой путаный жгут, распутать его без ножа невозможно. Со шлюпки, с берега, а то и вплавь немало мы тут положили труда и сил.
Зато потом, управившись, какой наградой было бродить по теплым отшлифованным камням берега. По тундре уже пошли красными и голубыми полосами цветы, покачивались высокие травы, и жаркое солнце все больше отогревало эту бесприютную далекую землю.
* * *
В море под однообразное покачивание волн хорошо думать. После переборки невода я уходил в нос кунгаса и ложился на капроновую дель. Я вспоминал своего друга, с которым мы были сейчас в одном море, знали это оба, но пока так и не виделись. Возможно, стоя за штурвалом сейнера, в тихие утренние часы думал и он обо мне, о нашем улове… «Неужели не пойдет?» – все время гадал я. Рыбачить, что охотиться: то густо, то пусто. Что же, зря разматывали мы километры тросов, зря насыпали и выбрасывали тонны мешков с песком? А ведь все это неводное хозяйство надо будет выбирать, сматывать, связывать снова, укладывать в издавна заведенном порядке. Ждали этой рыбы не только мы, на неводах. Ее ждали рыбообрабатывающие комбинаты, ждал дрейфующий к северу от нас плавзавод «Константин Суханов», ждали в правлении колхоза. В каких местах обходит она сейчас японские сети? Дойдет ли до наших берегов? Или уж и вправду оскудели земли и воды? Может, настало уже время разводить эту рыбу, а не ловить? Вот, значит, какие времена приходят. Но мы-то изготовились на другое, ловить приехали. Нам нужны тонны, план… Это нас и объединяет, наполняет терпением, упорством. А вот не будет рыбы, и разлетится все наше братство в прах, кончатся рыбаки, останутся просто люди, и каждый будет заботиться только о себе…
Я не знаю, думал ли кто еще так, но предчувствие мое как-то неприятно давило меня, хотелось сказать об этом в открытую, особенно когда кто-нибудь уж очень напирал на свою рыбацкую удаль и независимость. Другие ждали терпеливо, молча. Смирился со своим положением Егорушка, переносил даже унижения от Девяткина, работал спустя рукава, будто приберегал свое умение к тому моменту, когда пойдет рыба. Не скрывал своего пренебрежения к нашему пустому промыслу и магаданец Митя. Он открыто отлынивал от работы, хотя был сильнее многих из нас. С кормы кунгаса постоянно доносилось азартное прихлопывание плитками домино о фанеру стола. Иногда к нам наведывался на своем катере капитан Джибов.
– Не пошла еще? – кричал он, держа на отлете трубку.
– Нет!
И катер его, будто осердившись, начинал жестко выстукивать двигателем, убегая к другому неводу.
* * *
Напрасно вглядывался Егорушка с крыши жилонки в море. Первые два косячка, зашедшие в наш невод, были случайными одиночками. Шла третья неделя нашей неводной жизни. Восьмого июля с утра на море стоял плотный туман. Вшестером сели мы в шлюпку и погребли вдоль крыла (чтобы не заблудиться в тумане) к берегу. Как-то грустно нам было, стыдно самих себя, что сидим без рыбы. На берегу мы разожгли костер из плавника и ходили вокруг, разминая ноги. Море будто отдыхало под молочным покровом тумана. Было очень тихо. Плеснулась вода, и кто-то вынырнул возле самого крыла, шумно дохнул. Мы замерли. И вот показалась недалеко в тумане небольшая черная голова, поплыла к нам вдоль крыла.
– Сивуч… – шепнул Попов. – Наверно, рыба появилась.
– Все крыло перепутает, прорвет.
– Тише ты, сюда плывет.
Сивуч фыркнул, показался из воды весь, долго, медленно переваливал свое жирное черное тело через трос крыла. Он был так тяжел и, видимо, стар, что показался мне величиной с быка. Еще раз вынырнул, уже вдали от крыла, оглянулся на нас и пропал.
Мы еще сидели некоторое время, не двигаясь, потом разбрелись по тундре, намекали дров и вернулись на жилонку как домой.
Затишье, пришедшее с туманом, оказалось прочным. Но не знали мы, что вместе с этой благостной тишиной обретаем мученье: рыбы все не было, а на море объявились комары! Я и раньше слыхал, что, гонимые гнусом, уходят из тундры к морю олени, видел ездовых собак, у которых разъеденные мошкой глазницы сочились сукровицей… Теперь комары каким-то чудом разыскали в море нас. Осаждали они нас долго и яростно. Камчатский комар особенный – крупный, жестокий, смелый. В отличие от среднеевропейского, у него длинный хобот, которым он прожигает даже через поношенный ватник. Возможно, он ухитряется совать этот хобот в швы стеганки, не знаю…
Мы начисто лишились сна. Матерясь, ходили по кунгасу, как тени, и день и ночь. Жарило солнце, а мы, будто узбеки, не снимали ватников и сапог. Ночами комаров становилось еще больше. Перед сном мы гнали их всей командой из жилонки, закрывали наглухо дверь, занавешивали одеялом, затыкали все щели и дыры… После этого ложились. Блажен оказывался тот, кто засыпал сразу: часов до трех он мучился, но все же во сне…
В полночь я вылезал на палубу и один ходил по кунгасу, курил, чтобы хоть как-то отогнать комаров. Лунно и тихо было на море. Даже красота эта ночная казалась теперь ехидной, зловещей. Пока я мотался так, вылезал еще кто-нибудь, глядел на луну, за ним появлялся следующий… Мы садились поближе, чадили сообща, приходил еще кто-нибудь, и таким образом к рассвету почти все оказывались на палубе, а говорили по-прежнему тихо, хотя будить было уже некого.
Так продолжалось до тех пор, пока не приехал к нам бригадир Гнездов.
– Замучили? – спросил он.
– Спасу нет, заедают!
– Когда тяму в голове нет, пропадайте. Может, кто и пожалеет.
– А у вас нет?
– Комара?.. У нас кадило на корме не затухает… Пока живем. А у вас что, ведра худого нет? А рыба пойдет, что делать будете? Лодыри вы царя небесного!
Почти всем звеном мы плавали в шлюпке на берег, натаскали там целую корму гнилых чурбаков, коряг, разломали, подожгли все это в ведре и вздохнули в сладковатом дыму свободно.
Снова зажили: застучал «козел», смех на корме ожил… Сутками метался над палубой густой влажный дым, тесня обнаглевшее комариное племя. Теперь кто-нибудь из нас постоянно уплывал на берег, подолгу бродил там в пустынной тундре, выискивая гнилушки, сухие водоросли, кору… Всякий раз отъезжающему на берег кричали с кунгаса: «Смотри комаров не привози!»
Так тянулись дни за днями, мы обживались и постепенно как бы забывали уже, зачем мы тут. Бессмысленно тянулось это «мертвое время», и нелегко было держать себя в руках теперь. Егорушка, миновав всякие сомнения, с новой решимостью заявил «не пойдет!» и жил спустя рукава. Куда девалось его рвение к работе! После всякой безрыбной переборки он незаметно уходил в жилонку и ложился на нары. Находил в это время какое-нибудь пустячное дело и магаданец Митя. А жилонку надо было перетягивать обратно в другой конец невода, и, как на грех, почти всегда против волны, ветра. Встав по два-три человека на конец, мы измучивались на этой работе и, когда закрепляли кунгас за поплавки-бочки, начинали упрекать нерадивых. Так возникала пустяшная ссора, обиды, от которых некуда было спрятаться. Девяткин, зорко следя за нашей жизнью, спокойно говорил лодырю: «Поезжай-ка проверь крыло» или «Вот вы двое идите воду из трюма вычерпайте». И все понимали, откуда это исходит, и мысленно уважали Девяткина. Один Николай Попов был вечно занят: сращивал концы, напевая, чистил и смазывал свое ружье или точил нож и разделывал на балык рыбу. В отличие от Попова, Вася Кириченко труженик был молчаливый, но такой же обстоятельный и честный. Сплавав за дровами или вычистив крыло, он тут же переодевался, будто дома, во все чистое, ложился на нары и надолго погружался в чтение. Однажды он вернулся с берега чистым, выбритым, в свежем белье.
– Ты что, в бане был? – спросили его.
– Ага… Идите, воды осталось…
И мы поехали. В пресном озере, затерявшемся среди кедрового стланика тундры, мы терли друг другу спины кусками невода (вместо мочалок), брились, ныряли, потом перестирали все свое одеяние, а когда оно высохло под яростным солнцем, разбрелись все по тундре. Девяткин нам разрешил гулять до вечерней переборки, и у нас получилось что-то вроде всеобщего увольнения на берег.
Мы уже так надоели друг другу, что, накупавшись, пошли по одному в разные стороны, и уходили все дальше и дальше, лишь бы не слышать, как шумят на прибое бары. Море приелось, угнетало. Надо было хоть на время не видеть и не слышать его. Впереди простиралась плоская тундра, упиралась вдали в синеватые конусы сопок. Сколько было до этих сопок, десять или сто километров, сказать точно невозможно. Они стояли призрачно, как будто были невесомы, воздушны.
Я вышел к широкому мелкому заливу в лимане, надрал густой прошлогодней травы, поджег ее. Искупавшись, лег в дым на горячий песок и уснул. Когда проснулся, рядом со мной плавала уточка из породы морской чернети с выводком утят. Утята ныряли, что-то добывали себе в илистом дне, а их мать поглядывала на меня, не выказывая страха.
Больше меня уже не томили одиночество, эта жаркая пустынность и далекие снежные вершины сопок. Я даже удивился, что теперь как-то по-новому воспринимал все вокруг и на душе так же покойно, как в природе. Ко мне будто вернулось далекое детское состояние, когда я словно бы и не отделял себя от самой природы. Казалось, ничего в мире не существует: ни войн, ни кризисов, ни болезней, никаких трагедий… Есть солнце, покой, вечность, которая не вызывает ни грусти, ни радости. Будто и сам ты вечен так же, как все вокруг.
– Шторм будет, – сказал утром Николай Попов.
– Откуда ты знаешь? – усмехнулся Девяткин.
– Вон колдун в шапке, – и он указал на вершину сопки Начики. – Старики погоду всегда по ней угадывали. Как облака на нее сядут – сматывай удочки, засвистит скоро. Вот увидишь…
На этот раз мрак начал надвигаться с моря, будто ранние сумерки. Не прошло и десяти минут, как нас уже крепко швыряло. Джибов подлетел вовремя, подал конец и поволок нас к другому неводу, чтобы забрать там вторую жилонку. На жилонке долго не могли поймать конец, и катер вместе с жилонками беспорядочно кидало на черных валах. Мы проваливались между гребней, как в пропасть.
Наконец кое-как учалились, катер развернулся навстречу валам и началось…
Когда валы пошли выше бортов, когда всем существом стали чувствовать мы, как тяжело, еле-еле, взбирается кунгас на новый гребень, и когда дрожь от буксирного конца стала передаваться всему старому телу кунгаса и всем нам – тут стало не до шуток: мы были далеко от берега, и вокруг, на сколько хватало глаз, металось рассвирепевшее море.
Чаек гоняло высоко над водой. Откуда-то появились новые черные стремительные чайки – буревестники. До изнеможения преследовали они белых своим разбойным полетом. Налетали с моря странные темноватые птицы – морские голуби; тенями скользили они плавно, без взмаха крыльев над самыми гребнями волн, шли против ветра, будто жестяные и будто тащил их кто на невидимой струне. Когда неожиданно волна вскидывалась, они прошивали ее насквозь, помогая крыльями и всем телом, и видно было, будто в стекле, как прорезали они воду.
Я вспомнил, что оба наши кунгаса старые, гнилые, их даже не удосужились как следует проконопатить… Тут только до меня по-настоящему дошло, что и наша жилонка так же «ломается» с каждой волной, как передняя, и что все это уже не шутки…
* * *
Мокрые и измученные, входили мы на закате солнца в свой родной лиман – в устье речки Уки. Показались склады на берегу, бревна, другие кунгасы… Мы вышли на палубу, увидели все это, и каждый облегченно вздохнул: «Дома!»
Темнело, накрапывал дождь, трое рыбаков с соседней жилонки прыгнули в шлюпку и зачем-то погребли на ту сторону лимана. Там зеленели заросли кустарника, два потемневших домика мирно прятались среди этих кустов.
– Кто в баню поедет? Собирайтесь… – крикнул Гнездов на нашу жилонку.
Мы не стали переодеваться в сухое, а забрали белье, мыло, отрезали по куску невода на мочалки и отчалили.
Как я завидовал человеку, который жил в одном из этих деревянных домиков на берегу лимана. У него была семья, свое хозяйство, он охотился, рыбачил тут, был вроде коменданта или сторожа – следил за другим домом, где жили летом вулканологи. Теперь ехали еще мы, и он ни о чем не спросил нас, а махнул на баню рукой, и мы пошли, разгребая перед собой высокие травы. Две ездовые собаки, визжа и ласкаясь, бегали вокруг нас: они так соскучились по людям, что встретили нас еще у самой воды. Раньше тут был поселок, но дома перевезли морем в другое место, и теперь повсюду валялись дверные и оконные косяки, какие-то ящики, выглядывали из травы столбы детских качелей…
Я бродил среди этих покинутых мест, выискивая в высокой траве доски, старые лестницы, рамы и косяки, тащил все это к бане, где сразу пилили мою «добычу» на дрова. Из бани уже шел дым, кто-то сидел там в дыму и жаре, другие носили воду… Потом мы с Егорушкой лазили по кустам, ломали ивняк и ольху на веники, вязали их крепко, по-рыбацки, тралпрядью. В одном месте наткнулся я среди зарослей на белый обелиск со звездой и вздрогнул от неожиданности: никак не ожидал его тут. Этот белый столбик высился среди трав на могиле первого председателя Укинского сельсовета Левченко, расстрелянного белогвардейцами в 1919 году, как говорила эпитафия. Я вспомнил свое ощущение одиночества, когда случалось сидеть где-нибудь в тундре одному, глядя на далекие сопки, и теперь подумал, что за землю эту пустынную, молчаливую люди вон еще когда отдавали свои жизни и, значит, благодаря им мы и рыбачим теперь тут, топим вот баню – живем на своей земле. Наша это была земля, кровная, хоть и на краю света.
Никто ждать не хотел, и в бане было тесно, как в вагонном купе. Сидели и внизу и вверху на полке. В двух шагах ничего не было видно, яростно терли друг друга делью, били вениками, ахала каменка, и тихо кругом шла голова – точно так, как в море, в качку, хотя баня стояла на твердой земле.
После бани все вместе пошли мы к вулканологам. Высокие, рослые, все, как один, с бородами, с ножами у поясов, они приняли нас словно своих, угощали чаем, расспрашивали о нашей жизни. И рассказывали о себе.
Потом хозяева решили показать нам кино. Зарядили какую-то ленту, аппарат затрещал… Не помню названия картины, не помню, о чем она, никто, наверное, не помнит… Нам сказывали потом, что все мы сразу уснули, и вулканологи, накрыв нас, кого одеялом, кого фуфайкой, выключили аппарат на середине картины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































