Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
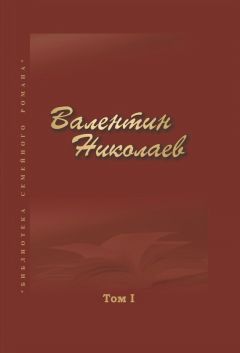
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
– Сюда, товарищи, отворотка вправо, ясно-понятно! Дальше засядем, не проехать! Снимай такелаж…
Мишка прыгнул в оттаявший рыхлый снег и понял, что теперь уже недалеко.
Слезая с машины, все смеялись, подшучивали, но Мишка уловил в этой веселости уже и некоторую сдержанность, серьезность.
– Такелаж придется пока здесь оставить, на дороге, – сказал Чекушин, – привезем на тракторе, или сами наутре сходите, ясно-понятно… Недалеко тут.
И снова бригада растянулась цепочкой по лесной дороге. Хотя никакой дороги не было, а были просто два санных следа от полозьев вагончиков.
Солнечный день устало завершал свое сияние. Лес стоял смешанный, древний, и по низу его было уже как бы сумеречно. Каждое дерево высилось настолько могуче и самостоятельно, что одна человеческая жизнь перед ним вроде бы ничего и не значила. Мишка подумал, что это и есть те самые леса, в которых работали его отец, дед, прадед… И он благоговейно притих и усмирел душой перед этим древним родовым пристанищем. Одновременно поглядывал и на других: «Как они?»…
Княжев невозмутимо шел впереди рядом с Чекушиным – каждому по следу от санного полоза за ними Луков, Сорокин…
Уходили все глубже в лес. И лес, в душу которого уже вселялся покой апрельского вечера, принимал их безропотно. Но и выжидательно, будто изучая. Он не шевелил ни единой лапой, не качал ни единой верхушкой. Мощные стволы стояли вечно и как бы окаменело. Только иногда, будто спросонья, падала в рыхлый снег сухая прошлогодняя шишка. Они не оборачивались и не разговаривали, а шли и шли дальше. Дятел где-то выстукивал буднично и деловито, будто дорабатывал дневную смену. Иногда кто-нибудь проваливался до паха в снег, тихо ругался и бригада ждала, пока он утвердится на скользком санном следу.
Уставшие, добрели они наконец до поляны. Комендант Сергей встретил их на крыльце барака. Он давно заправил кровати, ждал их прихода. Сергей работал в лесхозе лесником, в марте заготовлял здесь шесты для сплавщиков, собирал сосновые шишки на семена, насобирал четыре мешка. Шишки надо было отвезти на тракторе в поселок, но Сергей проспал в то утро, когда приезжал Пашка, и теперь думал, что сплавщиков привезут опять на санях. Но увидел пеших и понял, что ошибся.
Следом за мастером все вошли в барак, и Мишка поразился крепости и черноте его стен, гулкости огромного помещения, множеству широких окон.
Барак стоял в этом лесу давно, ему было чуть ли не сто лет, но широкие окна взамен маленьких прорубили здесь недавно. Мишка этого не знал. И опять подумал, что вот в этом бараке и жили, весновали его дед и отец. Теперь и он наконец пришел и поймет их загадочную жизнь на весновке.
– Вот, товарищи, занимайте койки, ясно-понятно, кому где нравится, бросай вещи и выходи на улицу.
«Зачем? – подумалось Мишке. – Наверное, поведет в столовую ужинать».
Мишка бросил свой рюкзак на вторую койку от печки и успел заметить, что Княжев определился в самом дальнем углу, где не было окон. Обрадовался, что не рядом.
Весновщики галдели, на улицу выходить не собирались, все шутили. Слышалось из разных мест большого барака:
– Домой пришли…
– За что боролись, на то и напоролись! Сымай мешки.
– Слезай-ко с меня, милая, хватит, накаталась, – говорил Шмель, снимая гармонь.
– А что, едрена корень, жило прочное, – задорно высказался востроносый в зеленом шарфе Чирок.
– Хватит нам на две-то недели, – отозвался ему молодой краснорожий Вотяков и небрежно бросил свой мешок под кровать.
– Отдыхай, сапоги!.. – завалился кто-то на койку.
– Выходи всё! – послышался голос Княжева. Через минуту барак опустел.
* * *
Удивленный и обрадованный великим разгулом весны, несокрушимой мощью лесов, Мишка на время как бы забыл, зачем пришел сюда. Сейчас, когда все вышли на улицу, он увидел два зеленых вагончика, слабый дымок над одним из них, учуял среди лесной свежести запах теплого варева и сразу расслабился в предвкушении ужина, а потом долгого сна. Он еще не знал, что, ступив на поляну, бригада враз утеряла дорожную вольность и беспечность – она подчинялась теперь только неукоснительному обычаю весновки, который никогда еще сплавщиками из Веселого Мыса не нарушался.
И вот после короткого перекура Княжев удивил Мишку:
– Передохнули? А теперь на реку! Поглядим, чего она там натворила.
– Спускайтесь до Луха, – сказал Чекушин. – Я вас там на мосту буду ждать. Пару багров прихватите на всякий случай, нет ли затора где.
Кряжистый Вотяков, не дожидаясь особого указания, наскоро посбивал сучки, с неошкуренного шеста и, насадил на этот шест свой багор. Багор Сорокина к делу готов был давно.
Едва заметная тропинка повела их с поляны сквозь низкий березняк, потом начался высокий сосновый бор. Мишка шел следом за Шаровым и думал: «Зачем Князев потащил на реку всех? Конечно, посмотреть ее надо, но что толку от этого?»
Сквозь редкие стволы сосен показались спело-желтые штабеля леса, приготовленные для сплава. Забравшись на один из штабелей, все молча глядели на черную воду, на желтые бревна по берегам. Штабелей было так много по обе стороны Шилекши вверх и вниз, что Мишке показалось какой-то шуткой, что их можно сплавить вот этой речкой.
Удивительна была и река – текла она в глубоком лесном провале: так далеко, за вершинами было над ней небо. И все-таки вода в ней, цвета густого чая, была высока, она стремительно неслась на уровне берегов мимо мощных древесных стволов. Закручиваясь в воронки, убегала под штабель, на котором они стояли, изредка проносила мимо белые шапки пены или одинокое бревно. Слышно было, как внизу течение мощно бурлило.
Мишка еще не видел таких рек, безудержно бегущих сквозь дремучий и старый лес. В тихих заливинах плавала и кружилась старая мертвая хвоя, легкие, будто от лука, кожурки с сосен… Вода бежала среди снежных берегов, уходила под сугробы, переливалась через луговины, напролом перла сквозь кусты.
Луков, Сорокин, Княжев, Вася Чирок и Шмель – все, кто стоял на штабеле, как бы решали всяк про себя: что же теперь делать с этой рекой и с этим несметным нагромождением штабелей.
Для начала Княжев, как и советовал мастер Чекушин, решил пройти руслом до Луха и отметить повороты, места разливов, оглядеть все штабеля.
Надо было торопиться: хотя солнце еще не зашло, но в самой чаще уже наметились легкие сумерки.
Проваливаясь по пояс в снег, они побрели еловой чащей, с трудом вытаскивая сапоги из провалов. Следы их тотчас наливались холодной темно-синей водой. Но в некоторых местах плотно осевший снег еще хорошо держал. Изредка выходили на открытые Палестины, где уже вытаяла луговина, и тогда всем не хотелось уходить с земли.
Княжев попутно что-то говорил, в основном Лукову или Сорокину, как заметил Мишка.
Брести чащобой по глубокому снегу было чистым наказаньем, но отдыхали плечи, не давило их больше мешками. Километра два или немногим более было до устья Шилекши, но все взмокли, тяжело дышали и не о реке уж думали, не о деле, а о том, как бы скорее выбраться к дороге. Но Княжев по-прежнему напролом вел их через глубокие сугробы, усеянные старой рыжей хвоей, или опять через густой частый ельник, сыпавший за шиворот сухую мелко-колючую иглу.
Обходя заливину, они согнали прилетевшую одноглазую утку, которая за кочкой под своей можжевелиной собиралась ночевать. Взлетев над вершинами, она закричала на весь лес и полетела на закат.
– Ах, ах, ах! – передразнивая ее, закричал вдогонку Сорокин. – Ах, как напугала!
Пока утка тянула над вершинами куда-то в верховья Шилекши, Мишка, задрав голову, радостным взглядом провожал ее.
Когда выбрались наконец к мосту, в лесу уже наступила пора вечерней зари. Она тихо зардела над соснами, растекаясь все шире в неподвижном холодеющем воздухе.
Здесь, на мосту, Мишка как-то по-новому увидел и бригаду и себя. Он неожиданно стал глядеть на все уже не через пугающую неизвестность весновки, а как бы из самой весновки, в которой теперь был наравне со всеми. Видимо, по мере того как исчезала непривычность дороги, барака, штабелей, он постепенно стал ощущать себя не отдельно ото всех, одиноким в этом мире, а уже частью бригады, которой никогда не может быть плохо всей сразу. В ней всегда есть и доброе, и радостное, а значит это принадлежит и ему, если он этого хочет. Сейчас его жизнь состояла как бы из двух – личной и бригадной, умом он этого не понимал, а душой уже чувствовал.
* * *
Мост был старый, деревянный, с перилами, обмытый и обдутый непогодами, выгоревший на солнце до сизоты.
Положив на колени полевую сумку, Чекушин сидел посреди него и что-то подсчитывал в своей тетради, когда бригада наконец вышла из леса. Княжев устало подсел к мастеру, а люди повалились на мост как на пол. Лежали, раскинув руки и ноги, многие разулись. После дневного солнышка дерево отдавало сухим легким теплом, и было так хорошо лежать на нем, глядя поверх вершин в небо.
Княжев с Чекушиным обсуждали, где ставить цепочки в разливах, на каких кривулях – дежурных, а бригада курила, даже разговоров не было слышно. Солнце уже едва сквозило через лес, ожили, начали высвистывать вечерние птицы, дятел опять принялся постукивать в вершине сухары. Все слушали и молчали.
Уставший день медленно отступал, уходил вместе с солнцем куда-то за леса, и обе реки постепенно темнели, потому что все длиннее и гуще становились отражения сосен в них.
Лух по сравнению с Шилекшей был уже величавой рекой. Он катился не так бурно и суетно, как Шилекша, и нем отражалось пламенеющее над лесами небо, и птицы, сидя на вершинах елей, не пугались человека, появившегося на другом берегу. Редкие небольшие льдины плавно несло сейчас его серединой, темными черточками на светлых разводьях вырисовывались бревна.
Никто ничего не говорил, только голубой дым от цигарок медленно плыл над головами и таял в неподвижном воздухе. Усталость морила всех, истома. Все бы так и уснули тут на теплых сухих досках, если бы Княжев не ударил обухом топора по гулкому горбу моста: «Пошли!»
Вернулись на поляну уже ночью. Барак чернел древне, невозмутимо. Далеко за вершинами проклюнулись звезды.
Девчонки накормили мужиков при лампе пшенной кашей, напоили чаем, другого они пока не готовили. «Ну, теперь только спать, – облегчающе мечтал Мишка, едва сидя за столом. – Спать, спать…»
Но когда вышел из вагончика, то увидел, что люди не расходятся, чего-то ждут. «Неужели работать?» – с ужасом подумал он.
– Разбирай шесты! – скомандовал Княжев. И Мишка понял, что он не выдержит, что это что-то невероятное… Но зря напугался: на шесты надо, было только насадить багры, приготовиться к утру.
К углу барака с северной стороны шестов было прислонено много, любой толщины и длины – выбирай по вкусу. И все выбирали себе, прикидывали по руке. А топоров было всего три, и поэтому ждали. Мишка занял очередь за Шаровым. Зазвенела тонко сталь топоров, сшибая сучки, забелели шесты. Мужики ругались, потому что шесты были сырые, тяжелые: «Такими все руки вымотаешь». Это была недоработка мастера, коменданта. Если б ошкурить шесты недели за две да поставить их на солнышко – они б легче стали вполовину, а сейчас – будто свинцовые.
Мишка выбрал шест прямой, не велик, но и не мал, как раз по росту. Можно было найти и потоньше, но Мишка боялся: легкий маленький шест на сплаве всегда считался приметой лодыря. Ожидая топор, он сходил в барак, вытащил из рюкзака тряпицу, в которой вместе с железкой багра было еще с пяток гвоздей.
Народ на улице постепенно редел, а шестов возле крыльца белело все больше. Две лампы, горевшие в бараке, не гасили: свет, падающий из окон, был единственным освещением и на улице. Мишка зорко наблюдал, как насаживают багры, Он не однажды видел, как это делается, но сам никогда не пробовал и поэтому боялся, что не сумеет, особенно при чужих. Поэтому даже перепустил Васю Чирка вперед себя, чтобы остаться на поляне одному.
Когда топор с нагретым топорищем оказался наконец у него в руках, он не спеша принялся тщательно ошкуривать свой шест, любовно, внимательно – ждал, когда уйдут последние. Самое главное – надо было правильно заточить конец шеста: немного набок, чтобы пика торчала прямо. Попробовал – и получилась! Тогда он уже уверенной рукой забил и гвозди, дважды нагнул их концы и вогнал в глубь шеста. «Вот и все!» – ликуя, сказал вслух и решил: «Значит, и во всем остальном буду не хуже людей. Значит, сумею…»
На поляне был он теперь один. Переполненный радостью, сидел на чурбаке, где затачивал только что шест и ножичком вчистую обрабатывал багрище. На самом конце шеста сделал свою метку – вырезал ножичком букву «X». И в это время свет в бараке погас. Необъятная чернота разом накрыла все эти леса заодно с бараком, с вагончиками. Уже не было звезд и никакого просвета вверху, была только большая тишина, погруженная в большую ночь. И Мишка враз ощутил себя маленьким.
Когда вошел в барак, там уже густо храпели, отовсюду слышалось ровное глубокое дыхание. Было тепло, жарко даже. Пахло мокрым вымытым полом, портянками, развешенными вокруг печи на веревках, и среди всего этого тонко, скипидарно тянуло свежей елкой: кто-то догадливый прислонил к печи свой новый шест.
Раздевшись и ощупью пристроив сапоги и портянки у печи, Мишка по влажному холодному полу прокрался к своей койке.
За всю свою жизнь он не испытывал такой усталости, нытья во всем теле. Эти два дня, как вышли из Веселого Мыса, казались длиной в полжизни. Даже с трудом помнилось, что было вчера, а что сегодня. Он еще успел подумать с радостью, что вот и узнал, как жили дед, отец… и тотчас перешел в какое-то беспредельно благостное состояние, лишенное времени, пространства и тяжести. Он будто умер, и так быстро, что не успел ни подумать, ни заметить этого – потерял и жизнь и себя.
7Ночной мороз до алмазной твердости прокалил снег, «застеклил» лужицы и озерины, но живой напористый стрежень взыгравших рек остановить уже не смог. Вода в реках все прибывала.
Едва-едва начинало брезжить над спящими лесами, еще не было ни шороха, ни звука в темной хвое, беззвучно и окаменело стоял барак, а по санному следу уже пробирался лесом одинокий путник. Шел он уверенно, лишь иногда оступался и хрустел мерзлым снегом, на плече у него был легкий, чисто обструганный шест-багор, а на спине обычный рюкзак. Несмотря на ночь, шел он без боязни, спокойно – как человек, хорошо знающий эти места. Это был Иван Пеледов – двадцать первый весновщик бригады Княжева.
Лет пять назад он уговорил Княжева включить его в эту бригаду и с тех пор каждой весной приходил на Шилекшу. В Побочном Пеледов жил давно, хотя был приезжим. Раньше он работал в Москве, имел жену, двух дочерей, еще до войны защитил кандидатскую диссертацию и вел курс политэкономии в военной академии. Но во время войны был ранен, потом получил еще и контузию. Долго лечился, вроде поправился, однако преподавать ни в академии, ни в институте уже не мог. Обращался к разным профессорам, но прежнего здоровья себе так и не «выхлопотал». Хотя физически был крепок, но что-то основательно нарушилось с памятью. Он мог не помнить, что было с ним прежде, что хорошо знал раньше. Потом память прояснялась, но в иные времена он наглухо забывал даже, как зовут детей, жену. Врачи запретили ему умственный труд. Он устроился работать грузчиком в речном порту. Жизнь считал уже конченой, начал выпивать. Жена, тоже научный работник, некоторое время еще жила с ним, переносила все, но, видя, как он опускается все больше, решилась на последнее – развод. Молодость у нее уже уходила, и она не стала упускать подвернувшуюся возможность – вновь вышла замуж. После этого Пеледов покинул столицу, уехал «умирать», как он сказал, в леса. Врачи давно советовали ему не только физический труд, но и жизнь в спокойной обстановке, на природе. На родину, в свою деревню, Пеледов не вернулся, а выбрал Побочный – в своем же районе – считай, почти на родине. Так и жил тут. Зимой работал лесорубом, а весновать устраивался в последние годы со своими мужиками: Веселый Мыс был недалеко от его родной деревни, которой теперь уже не было – с укрупнением колхозов ее перевезли на центральную усадьбу.
Не все в бригаде знали историю Пеледова, однако по примеру бригадира, Сорокина и Лукова относились с нему уважительно. Любил и Пеледов эту бригаду, он всегда ждал весны, ждал встречи с земляками, как свидания с родиной. Те, кто был постарше в бригаде, хорошо помнили его отца, да и самого Пеледова еще по молодым годам.
Каждое лето приезжали в Побочный дочери Пеледова, одна была замужем, и он принимал их с радостью. Так и жил.
О приходе бригады он узнал вчера вечером, как вернулся домой. В ночь собрался и вот с зарей шел на поляну.
* * *
Было еще очень рано, едва начался пятый час, но широкие окна барака уже обозначались синеватыми квадратами. Княжев только проснулся, сидел на койке и тихонько обувался. Когда надел оба сапога, тогда и подал по-военному команду.
– Подъем! – как громом разрезал он спящую тишину. Его слышно было даже на улице – ранняя ворона шарахнулась от окон.
Мишка, едва преодолевая разбитость всего тела, обулся и оделся, когда из барака выходили последние. Он не очень и спешил, потому что думал: «Все сразу в вагончик-столовую не уберутся, надо будет ждать…»
Он выскочил на крыльцо и насторожился, будто молодой зверек: в ноздри так резко ударило лесной морозной свежестью, что слегка закружилась голова. Заря только начиналась, и какое-то гулко-радостное алое торжество совершалось на небе, на поляне и по всему лесу. Но людей у крыльца уже не было, на столовой-вагончике висел замок, а возле угла барака белел всего один шест.
Екнуло у Мишки сердце, схватил он скорее шест – и отлегло: на самом кончике шеста был вырезан крестик «X». Прислушался – шаги хрустели уже в лесу, но дороге к Шилекше. В бору догнал шедшего сзади всех Шмелева, пристроился за ним – никто даже не оглянулся. Тогда только и перевел дух.
Это было их первое утро в лесах, и они чутко вглядывались меж стволов, нюхали воздух и, слушали лес, идя за своим вожаком. Княжев вел их уверенно, хотя и сам в нынешней весновке пока сомневался. Но он знал, что людям сначала надо вжиться в этот морозно-гулкий лесной мир, раствориться в нем, чтобы потом уж вершить свое дело.
Вышли к штабелю, забрались на бревна. Коричневая вода Шилекши все так же напористо, как и вчера, пробиралась меж снегов и деревьев. Она шумела на поворотах вверху и внизу. Шум стоял ровный, сплошной, но с нижнего поворота, который был виден им со штабеля, журчание было отчетливее и сильнее – тут течение подмыло левый берег и в воду упала молодая елка. Ее развернуло вершиной вниз, через ствол и лапы вода переливалась светлыми полотнищами, и все затихли, слушая это задорное воркование воды.
О чем они думали теперь? Они были на месте, у своей реки, о которой не раз вспоминали зимой. Сейчас она была рядом, у ног. Может быть, именно река больше всех научила человека мечтать, думать, соизмерять… Она была всегда деятельна, была в вечной терпеливой работе. Она научила человека плавать, использовать ее силу, она первая избавила его от оков земной тяжести. Но река бездумна, она с одинаковой удалью вершит и нужную и вредную работу. Думать должен был человек. И он думал. Века, тысячелетия… Много всего передумал. Теперь думали еще раз и они.
Луков, подойдя к воде, стал умываться:
– Глаза хоть промыть. Ну ешь твою вошь, разгулялась как на свадьбе.
– Хорошо, будто на дрожжах прет, – отозвался Сорокин.
– Пусть дуроломит, нам легче, – задорно подхватил Чирок. – Вон как завивает, хоть мельницу ставь.
– Ну, кто не умывался? – шутя крикнул Княжев и полез со штабеля. Он снял шапку, помыл руки и влажной пятерней протер лицо. – Не больно тепла, – сказал, улыбаясь.
Еще кое-кто последовал его примеру, слезли со штабеля.
– А вы что, сухопутные?.. – крикнул Княжев тем, кто сидел недвижно. Взял свой шест и, как в детстве, плескуче ударил им по воде, обдав всех на штабеле дождем брызг. – Утирайтесь!.. Расходись по штабелям!
И пошли, кто куда, полезли через проваливающийся настовой коркой снег к соседним штабелям.
Мишка остался, где был, вместе с Княжевым, Шаровым, Луковым. Он еще оглядывался, отмечал про себя, кто куда пошел, а из-под ног у него уже брали бревно. Это была ровная и гладкая, будто литая, сосна. Княжев с Ботяковым с силой катнули ее пиками багров, и она, разбежавшись по стелю гам,[3]3
Стелюга – жердь-прокладка меж: рядами бревен. По стелюгам накатывают и скатывают бревна.
[Закрыть] хлопнула по живому зеркалу воды. Сквозь кисейную занавесь брызг Мишка увидел, как искорежилась вершина отраженной в воде ели и вся она волнисто закачалась, выпирая попеременно в стороны, будто резиновая, от вершины и все ниже, ниже – к другому берегу, где росла.
– Берегись! – Мишка едва успел отскочить, Вотяков с Чирком катили толстую прямую ель. Она разбегалась все сильнее (штабель был немного покатым к воде), с хрястом лопнула стелюга, и елка, на лету вращаясь, полетела в реку. Опять как выстрел плеснула вода – снова искорежило начавшее было выправляться отражение ели, а бревно, наматывая на себя прозрачную водяную пленку, отплывало от штабеля все дальше. Потом послушно устремилось по реке вниз. Мишка загляделся, и ему чуть не отдавили очередным бревном ногу.
Слышались такие же всплески и с нижнего, и с верхнего штабелей. Перепрыгнув бревно, Мишка побежал в начало штабеля.
Все бегали бегом, с азартом, и работа показалась Мишке веселой озорной игрой. Само собой получалось, что катали они бревна вдвоем с Шаровым. Всего на штабеле было три пары, Княжев оказался седьмым, но он только отковыривал бревна от штабеля, и их тут же подхватывали другие сплавщики. Работали быстро, брызги взлетали выше штабеля, дождем сеялись на людей, бревна, реку. Мишка не испытывал никакой неловкости. Ему казалось, что никто сейчас и не глядит на других: успевай только прыгать через бревна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































