Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
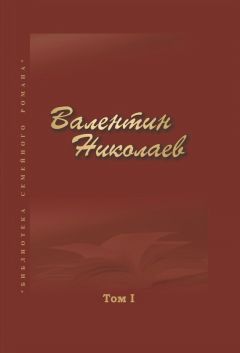
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
Материнское лето
Полого, долго подымается от реки берег. Широк он, пустынен, особенно в осеннее ненастье; по неглубоким оврагам маячат одинокие ветлы старых ив, будто брели они, как слепые странницы, из деревни, но споткнулись тут да так и остались доживать свой век между рекой и деревней.
Домишко ее на самой горе, на отшибе от деревни, ближе всех к пристани. Двух соседних домов нет, дворины их заросли лопухами, высокой дурной крапивой. В первом одинокая старуха Егоровна умерла, а из другого забрали свою мать дочери, увезли в поселок. И дома их остались пустые, беззвучные; прикрыв с дороги, как от стыда, глазницы своих окон досками, додумывали свой деревянный век. Потом сыскался покупатель, раскатал все по бревну, подняв тучи пыли, свез на дрова: на большее они не годились.
Так очутилась она в одиночестве, на отшибе. Но дом ее стоят еще крепко, он только приосанился под тяжестью лет, а дожди и ветры до сизоты промыли, обдули потрескавшиеся бревна. В этом доме родила она пятерых сыновей, отсюда проводила на кладбище мужа, много передумала здесь тягучих дум. Зимой домишко заносит снегом чуть ли не вровень с крышей, ноет нудно метель, вздрагивает крыша – кажется, конца не будет зиме… Раньше такого не было. Лет пятнадцать назад, когда новый председатель колхоза приказал вырубить перелесок за полями, подули, с обнаженной равнины устрашающие ветры. С тех пор крыша у неё привязана к стенам цепями, а тепло из избы выдувает – не напасешься дров. Сугроб возле дома не тает до середины мая…
Потом колхоз стал совхозом, вырубленную делянку даже не успели раскорчевать: пришел из района указ засадить вновь, потому что ветер-западник сдувал с полей весь снег и озимые стали вымерзать. Сейчас там вновь поднялись молодые сосенки и елочки, но грибов и ягод пока нет, и она не ходит больше туда: не за чем, да и ноги стали не те. Ей и без этого хлопот хватает, она держит козу, кур, в огороде копается… Раз в месяц приносит ей почтальон колхозную пенсию, а немного чаще письма от сыновей.
Бегут дни за днями, а ей и отдохнуть все некогда. Зачастую и делать вроде бы нечего, а не сходит тяжесть с души: то письма от одного сына давно нет, то внуки плохо стали учиться, то сноха заболела… Нет, видно, покоя на земле, и не будет до самой смерти. Но радость – есть. Она приходит к ней каждое лето: летом приезжают сыновья.
Лето! Ее материнское лето… Ждет она его и долгую метельную зиму, и весной, и даже – с осени. К приезду сыновей моет с дресвой и мылом всю избу – потолок, стены и пол – на реке половики полощет, белит печь… После этого даже своего кота не пустит с грязными лапами на порог. Ждет.
А начнут приезжать – по всей избе чемоданы, рюкзаки, сумки – ступить негде. Сыновья смеются, называют дом вокзалом, а она ходит меж них, запинается за углы чемоданов и тоже смеется.
Каждое лето по очереди зовут ее сыновья к себе. Сначала звал старший, пока другие учились в институтах, потом и они, став инженерами, зазывали ее. Разговор этот возникает всегда перед их отъездом, как бы на прощанье. Она задумывается, отвечает не сразу: «Нет, пока не поеду. Еще отец, дед ваш, говаривал, что «житье наше тут, где соха да борона, да кобыла ворона». Всю жизнь в колхозе работала, чего теперь на сторону поеду? Пока ноги ходят, поживу… Да куда и вам будет приехать, если нарушу все? Здесь хоть полем подышите, на сене поспите. А внуки? Дети-то совсем у вас зачахнут там, в этакой-то сутолоке!..»
И сыновьям кажется, что они плохо ее зовут, они начинают спорить, хвалиться друг перед другом, у кого лучше, удобнее будет ей… А она слушает, радуется про себя, что у всех все хорошо. «Уж коли зовет, значит, ничего живет, поналадился», – думает она о каждом по очереди и успокаивается. Однако она любит, когда они зовут, ждет этого всегда. Не приглашал ее только последний, младший, и она часто как бы шутя ссылается на него: «Вот уж к нему и поеду, так и в старину велось, к младшему уходили… А куда денешься, здоровья-то не будет если?» О младшем она и вспоминает чаще, чем о других. Кажется, еще совсем недавно посадил он под окнами кленок. Уезжал из дома и посадил. И вот уж вытянулся кленок, машет листьями в окно, а зимой стучится в мерзлое стекло, будит, напоминает…
Но легко ей по летам с ними: гуляючи, они заготовят дров, траву скосят вокруг дома, изгородь поправят, те, что припозднятся до осени, картошку выкопают на участке, сносят в подполье.
И каждое лето неминуемо, как гроза, назревает и распаляется в доме ругань. А виной всему – письма. Дня через два после приезда начинают искать сыновья в шкафу, в ящиках стола свои детские фотографии, рыболовные крючки, лески, какую-нето мелочь… и натыкаются на свои письма, которые писали матери зимой и о которых уж и забыли давно. Почитав свое давнее письмо, идет с ним автор к матери и выговаривает, краснея:
– Ведь я же просил изорвать! Зачем ты их везде бросаешь?
Мать молча забирает у него письмо, прячет его и лишь потом говорит с обидой:
– Не тебе писано. Не тронь… Редко пишешь, вот и берегу. Ведь мне скучно зимой-то, понимаешь ли? Вот сяду и почитаю. Раз десять прочитаю, пока другого-то жду.
– Так хоть подальше убирай!.. Что они у тебя, везде, куда ни полезь!
Другие сыновья прислушиваются, улыбаются про себя, потому что тоже успели потихоньку прочитать письмо брата. О чем оно? Может, жаловался сын матери на судьбу, на жизнь в трудную минуту… У кого этого не бывает! А теперь, когда все хорошо, уже и стыдно, неловко как-то сыну.
А на другой день, глядишь, находит кто-нибудь целую пачку своих писем. И снова с обидой идет сын к матери. И опять повторяется та же история… И опять не сдается мать.
Так постепенно наступает тот роковой момент, когда сыновья вдруг все ополчаются против матери, стараясь доказать ей свою правоту. Нет, не жаль им своих писем, но боятся они, что вдруг попадут письма в чужие руки и разбредутся их сыновние чувства по свету, по недобрым людям: мало ли кто зайдет к матери зимой, наткнется, залезет с поганой душой в святое святых. Ведь всякие бывают люди…
– Уж и писем-то вам жаль… – сникает она.
– Да не жаль! Как ты не поймешь!
– Больше и писать не буду! – в горячности выпалит самый младший, хотя потом первый же и пишет и будет писать больше и чаще других. Молчит только старший. Но он и пишет и молчит как-то сухо, по-деловому.
Знает все это мать, понимает, но обида ее берет, и она тихо плачет.
Притихают и сыновья, неловко задевая плечами за косяки, расходятся они кто куда: один спускается к реке с удочкой, другой уезжает на велосипеде в поле, третий весь день сидит под березой в огороде, читает книжку…
Пока их нет, мать отходит, собирает все письма и засовывает их так далеко, что уж никому и в голову не придет искать их там.
И глядишь снова в доме поселяется мир, согласие, а после утихшей грозы становится под родительским кровом еще милее всем и проще.
В это лето сыновья снова сулятся. С детьми, с женами. Но больше всего ждет она младшего. Год назад он окончил военное училище, стал как и старший, офицером, женился и теперь впервые должен приехать с женой. Не терпится матери поглядеть на его жену, потому что видела ее только на фотографии. Но так не хочется прежнего скандала в доме. И особенно при ней! Поэтому еще в апреле она собрала все письма, разложила по пачкам на столе и каждую пачку перевязала ниткой. Пять сыновей пять пачек. Самая толстая – от последнего, самая тощенькая – от старшего. Долго думала, куда бы их ненадежнее упрятать… Наконец нашла.
Теплоход начинает ходить с первых чисел мая, когда луговина свежо зазеленеет до самой пристани, а старые ивы по оврагам помолодеют, начнут округляться от сережек, а потом и от новой листвы. Чем дальше лето – тем ровнее, глаже под травой становится берег, все больше людей рассаживается по всему лугу, все ярче их одежды. Цветные платья девчонок – будто большие цветы по глади луга. Все видно ей из окна: и людей всех на берегу, и саму пристань – маленький желтоватый домик со шпилем – возле песчаной отмели, и теплоход далеко виден, когда он едва забрезжит белым неповоротливым призраком среди необъятной зеленоватой зыби.
По-разному приезжают сыновья: один даст скорую телеграмму и явится вместе с ней или еще раньше, старший письмо напишет почти за месяц до приезда и обязательно опоздает недели на две, а младший объявляется так, безо всяких вестей, будто завернул нечаянно но дороге. Она уж привыкла, и по ней все они поступают правильно, как надо.
Первыми приехали сразу двое – старший и предпоследний, а за ними на одной неделе все остальные. Вот и все пятеро! Редко так: удачно бывало, чтобы все враз, скоро. А тут сговорились, и все ради младшего. Чемоданы не убирались в избе, пришлось оставлять в сенях.
– Ну, опять вокзал!.. – сказал второй.
– Международного значения, – усмехнулся младший и пошел в избу. Сунулся в ящик стола и оглянулся на мать:
– Опять письма?!
– Ну, так что, – спокойно ответила она. – Не твои ведь. Эти не ругаются… Внучата пишут.
И младший сел, медленно оглядел свою жену, потом мать и только тут увидел, что совсем уже она старенькая, слабая. Задумался.
– Не хватит ли тебе одной-то тут, собирайся-ка к нам.
«Ну вот и последний оперился», – обрадовалась она, и стало ей враз как-то пусто.
– Приеду, – ответила с готовностью и тут же заплакала. Давно ждала, когда позовет, ждала как радости, а позвал – и будто отрезал навсегда устоявшуюся привычную жизнь. Она даже испугалась: «Неужели все, неужели больше и заботиться не о ком? Все выросли?..»
В это лето не было обычного разговора о письмах. Только, когда дети убежали на реку, читали вслух их письма к бабушке, перечитывали и смеялись все вместе. И хотя секретов в их письмах о жизни сыновей всплывало не меньше, чем писали они матери сами, никто не осердился.
И все же сыновья свои письма видели в это лето. Один нашел пачку писем в старом улье на сеновале, а старший сын пошел париться и наткнулся на свои письма в предбаннике, которые лежали в корзине под вениками. Он улыбнулся и, не развязывая пачки, положил ее снова туда же, а сверху понадежнее опять прикрыл вениками.
Только не видел своих писем младший. Да их и никто не видел.
Быстро промелькнуло это ее самое большое и теплое материнское лето. Не успела она наняньчиться с внуками, не нагляделась на сыновей по утрам, пока они слали…
Уезжали все сразу. Шли к пристани большим караваном. Сыновья впереди несли чемоданы, а внуки и внучки держались бабушки, цветы попутно выискивали на неохватном лугу, советовались с бабушкой, как лучше составить букет, чтобы увезти его с собой в город. Миновали ивы, пересекли овражины, гурьбой зашли на пристань.
Теплоход подвалил большой белый, с бесшабашной чужой музыкой, которая как бы зазывала туда, куда он плывет, намекая, что жизнь там легка и беззаботна, стоит только ступить на палубу… Хоть и любила мать теплоход и реку тоже, но музыка эта ее всегда настораживала, в грудь закрадывалось сомнение, тревога за сыновей. Она не могла объяснить этого, но чуяло ее материнское сердце, что вот отсюда и начинается тот страшный, полный опасностей мир, в который она их отпускает совсем беззащитными. Но всегда непонятно было ей, почему на пристани, и особенно, когда подваливал теплоход, сыновья разом менялись – становились веселыми, бойкими и как бы наполовину уже ей чужими – словно был у них там, в их городах, иной покровитель, который тайно от нее, но возымел уже над ними свою сильную власть и вот-вот навсегда отнимет их у нее… Она часто об этом думала долгими зимними ночами и всегда приходила к одному: ничего теперь уже не изменить, ничью жизнь не повернешь вспять. Но им об этом она никогда даже не намекала.
Прощались по очереди, начиная со старшего: уж так велось. Младший не любил этого, потому что всегда ему приходилось долго ждать, потом торопиться, и все слезы матери доставались ему, тогда как братья к этому времени стояли уже там, на теплоходе.
«Не умереть бы мне тут… – сунулась она в его новый лейтенантский погон, – так ты швейную-то машину себе… Забери, возьми жене… Шить, говоришь, умеет… Она хорошая…» Мать хотела еще что-то сказать, но будто не решалась, а сын ждал, не осмеливаясь спросить, кто «хорошая» – жена его, которая смотрела на них уже с теплохода, или швейная машина… Пока они стояли так в напряжении, гулко с дребезгом трижды ударили в колокол, и тут же густым упругим звуком завыла сирена, покрывая собою гул дизелей, смех, крики и говор прощаний. Шкипер, стоявший сзади младшего, взялся за поручни сходней и, задрав голову к мостику, выжидательно уставился на штурмана, чтобы по его команде одним махом сдернуть сходни на пристань. И сын, спиной чувствуя нее это, не вытерпел, поспешно кинулся по сходням на борт. Почти одновременно люто заработал винт, зашумела вода, и белая стена теплохода стала медленно отодвигаться, уходить вперед, а с борта замахало враз множество молодых загорелых рук. Вскинула мать глаза на трепещущие ладони, плохо видела их сквозь набегавшие слезы: мелькает что-то, мельтешит, как пожелтевшие листья клена, в осеннем, забрызганном дождями окне…
Вот и все разошлись с пристани. Шкипер, привычно бросив рукавицы к пожарному ящику с песком, тяжело прошагал в свою каюту. Одна она все еще стояла и, заслонясь от солнца рукой, глядела в безмерную однообразную даль, где уж ничего и не видно было, кроме воды да низкого над водою неба.
Долго шла на этот раз к своему дому. Сначала берегом возле воды, останавливалась, будто забыла что на пристани и пыталась вспомнить, но, так и не вспомнив, шла дальше. День разомлел, и вокруг было однообразное затишье, какая-то тягучая душная неопределенность, как и всегда в долгие жаркие дни на переломе лета. Над отмелью вскрикивали чайки, с дрожью в голосе припадали к самой воде и снова уносились в томное, застойное небо. Казалось, лето обмануло ее: сыновья уехали, а оно не торопилось, по всему было видно, что ему еще быть да быть. Уж лучше бы осень! Когда вымокнет от дождей тощая сивая травка по угору, общипанная за лето скотиной, под ивами разворотят будто плугом дерновину грачи, выискивая червей и личинок… Скорее бы… Она всегда не любила вот это самое время – после их отъезда до первых писем. Тревожно было: как их там примет город, их новый большой мир, которого ей, видно, так и не суждено узнать?
Когда вошла в избу и, не раздеваясь, села за стол, подумала: «Зачем?» И тут вспомнила. Поставила на стол швейную машину, открыла ее, подняла механизм: в днище машины лежали письма младшего. Нет, никто их нынче не трогал. Каждое письмо было прострочено сбоку ниткой, там, где она по обычаю отрезала кромку конверта ножницами. Она взяла верхнее, отстригнула машинную строчку и начала читать. Письмо это было последнее, в котором младший осторожно, но с радостью писал ей, что будет у него скоро, наверное, сын.
1976 г.
Очерки
Весновка
(Речной дневник)
Пусть река бежит к югу, пусть уходит от своего истока в тепло на триста, пятьсот… на целую тысячу километров – все равно ледоход на ней начнется с севера. С верховий. С самого потаенного в дремучей лесной тиши подснежного ручейка. Сугробы еще по чащобам метровой глубины, еще морозы прижимисты по ночам – а уже ледоход!
Скопившаяся прозрачно-зеленая снежница волной накатывается на иссушенный морозами лед, подмывает его, отдирает вместе с землей и травами от берегов, взламывает и мнет, увлекает вниз… И вот уже с победным ледяным звоном ревет в промерзлых крутоярах отчаянная речушка, лижет обнаженные корни сосен, гнет в одну сторону затопленные кусты. Конец! – не устоять теперь перед ней и большой реке. Ледоход!
Скоро и величаво это буйное шествие льда мимо притихших лесов. Взыгравшая на воле вода пенится, как на дрожжах лезет из берегов, устремляется в снеговые ложбины, выкатывается на поймы – все хочет заполонить собой, все утащить вниз. Вместе со льдом и разным лесным хламом она стапливает в поймах, снимает с суха пучки, плоты зимней сплотки, боны…
Вот в это самое время (ни днем раньше, ни днем позже!) и начинается лихая сплавщицкая страда – весновка! На Унже так называют весенний сплав леса.
Еще до ледохода, зимником, отправляются бригады сплавщиков к отдаленным плотбищам – уходят весновать, как говорят здесь. Добираются автобусами, поездами, а по лесному бездорожью многие версты одолевают пешком. Идут лишь в утренние часы, пока морозец, пока дорогу не развезло. Уставшие приходят они в свои старки и заводи. Но в знакомом по прошлым веснам бараке уж протоплены печи, вымыты полы и заправлены койки, ошкурены и уже просохли заготовленные с зимы шесты для багров, завезен такелаж, продукты на котлопункт. Все здесь готово к их приходу: местная сплавная контора обязана позаботиться.
И пока сплавщики насаживают багры, строят формировочную сетку, где будут делать плоты, пока они готовятся к настоящей работе, в низовье Унжи, в затоне поселка Дорогиня, где зимует и ремонтируется сплавной флот, – самые горячие дни. Здесь время считают уже не сутками, а часами: к ледоходу надо спустить катера на воду.
Из года в год уводят унженские капитаны свои катера в далекие речные верховья. Уходят большим караваном на весь сезон сплава, чтобы доделывать зимние плоты, «оживлять» их – стаскивать с мелей на глубокую воду, – выводить из пойм, буксировать вниз до места.
В путь дальнийСередина апреля. Едва брезжит серенький пасмурный рассвет. Возле караванки, маленькой бревенчатой будочки на берегу, через которую флот связан с берегом (телефоном, конечно), со всеми службами и конторами Унжи, ожидает торжественного момента школьный духовой оркестр. Рядом с ним, на самом высоком месте, руководство транспортного участка: механики, мастера, техноруки, и среди них с мегафоном на груди начальник участка Виталий Блохин.
Семь часов, уже совсем день. Катера осторожно отходят от причальной стенки, выстраиваются по затону в кильватер. На головном судне диспетчер Галина Лапина, на замыкающем капитан-наставник Виктор Семенов. Вместе со своим флотом они тоже уходят в верховья, к местам главных сплавных работ. Начинается последняя поверка. Блохин через мегафон запрашивает каждое судно. Дает краткие советы, указания, предостережения… Знает он всех людей на каждом катере и Унжу знает. Все перекаты, прокосы, старки от истоков до устья знает. Лет десять назад ходил по Унже капитаном сам. Хорошо плавал, грамотно, поэтому и любит настоящих судоводителей. И сейчас он их провожает не без зависти, конечно.
Оркестр грянул марш, забурлила вода под винтами, завыли сирены, замахали прощально с берега… Медленно вышел караван из затона, обогнул речной мыс и, вывернувшись на стрежень, начал набирать скорость.
Не легка эта служба – водить тяжелые в четверть километра плоты по извилистым, узким и стремительным лесным речушкам, тянуть их без судоходных огней в сплошную темень, туман, когда рядом ничего не видно и нельзя остановиться, потому что напирает течение, а весенние плоты не имеют ни якорей, ни плотовщиков, да и некогда стоять…
Вода и погода у сплавщиков – два бога. Малая вода – ни плотить, ни выводить плоты: вся древесина на мели. Слишком большая – тоже не благо. Ревущее течение мешает работе, разносит пучки и бревна по полоям, набивает в кусты. Приходится ставить оградительные цепочки из бревен, боны.
И нет в это время ни выходных, ни праздников, нет в обычном смысле ночей.
* * *
На обгон шли катера.
Из года в год идет между капитанами борьба: кто первым придет в Мантуровскую головную сплавконтору. Три первых катера всегда получали премию. Капитаны – народ азартный, терпеть не могут, когда их другие обходят в рейсе. Так и на этот раз все жали на предельных оборотах. А разгуляться было где: до Мантурова сто пятьдесят километров.
На финише гадали, кто же придет первым. Обычно приходил всегда Виталий Терентьев на своем «Д-51». К этому уже привыкли. Если, бывало, и уступал он кому, то ниже третьего места сам не спускался.
Кто же нынче?..
Затонский первенец загудел еще издали. Долго, победно. Уверенно заваливаясь на левый борт, нарисовал широкую дугу на потемневшей реке и с полного хода ткнулся голубым носом в яристый берег у склада: знакомый причал, нечего опасаться.
Нет, не Терентьев это был. Другой Терентьев пришел вторым, а третьим оказался Венедикт Виноградов на «Д-53».
«Верхний Кокиль или Как в игольно ушко»Нет такого судоводителя на Унже, который бы не знал, что такое Верхний Кокиль. А о плотоводах и говорить нечего. От самой Понги, а то и от Виги думает, высчитывает капитан, когда будет проходить через Верхний Кокиль: днем или ночью, в какие часы, какая погода будет, видимость…
Кокиль находится чуть повыше Кологрива. В примечании «Лоцманской карты реки Унжи от селения Грушино до устья» сказано: «Кокильская излучина является сложным для плавания участком. Судовой ход узкий, с малым радиусом закругления. На перекате Верхний Кокиль действует прижимное течение к левому берегу. При высоких уровнях воды суда и плоты затягивает на левобережную пойму. Проводку плотов необходимо производить с вспомогательным судном».
Весь день было пасмурно, сеялся мелкий дождик, а к вечеру малиновый шар солнца садился на тихую, возле самых сосен, воду. Мы бежим туда на катере № 34 от Кологрива по малиновой же глади реки, и шар этот половинится – на глазах улезает в воду.
– Хороший капитан ведет воз, – говорят мне, – Терентьев, на «Д-51»…
Что за Кокиль, как его пройдет Терентьев, еду посмотреть. Вспоминаю, плавает с женой (матросом она), малых ребят оставили дома, в Мантурово пришел вторым и из Понги идет вторым. Первый плот провели плохо, и я не жалею, что его пропустил.
Подъезжаем. Вот он Кокиль, Нижний и Верхний: река делает два крутых поворота. На листе лоцманской карты этот участок напоминает голубую жирную букву «S».
Плот уже входит в извилину реки, выгибается дугой, один из буксирных тросов виснет, тонет в воде, другой – как струна.
Мы скорее подбегаем к хвосту плота, заделываемся за гуску и начинаем отрабатывать назад, потом к одному берегу, к другому… Всякий раз – с учетом того, чтобы плот никакой своей частью не задел за яр и не сел на мель. Это и есть основная задача нашего катера «Д-34», того вспомогательного судна, о котором упомянуто в «Лоции». На помощь нам должен прийти еще один катер, но его пока нет, поэтому изо всех сил стараемся одни. Капитан нервничает, ругает Терентьева, дает ему гудки… Но поздно, головка плота упирается в яр, нас вместе с хвостом отбрасывает к другому берегу – «перехлестнули» плотом реку. Вода начинает бурлить, запруженная, она требует выхода, корежит, в «гармонь» сминает плот.
– Ну, все!.. – говорит наш капитан. – Сейчас пучки понесет.
Скорее отдаем свой конец с плота, бежим отжимать от яра головку: Терентьев не осиливает, работает впустую… Каким чудом, и до сих нор не пойму, но головка подалась, Терентьев вышел на стрежень, и воз мало-помалу ожил, выпрямился, пошел снова. Правда, он имел уже помятый, не «свежий» вид, сзади нас плыли три оторвавшихся пучка. Наш капитан не перестает ругаться:
– Неужели он не видит, ведь светло еще!.. И капитан-то опытный… Не пойму!
Миновав оба Кокиля, мы подходим к Терентьеву забрать у него документы на плот, чтобы сдать их в Кологривскую сплавную контору. Оба они, и он и жена, стоят в полутемной рубке, стараются быть спокойными, молча вглядываются в сумеречную даль реки. Но все равно чувствуется – настроение у обоих испорчено: впереди ночь, а вести искалеченный плот еще целых сто километров.
«Чертов Кокиль!» – сказал я про себя и пошел от Терентьева снова на свой 34-й катер.
Я уснул в носовом кубрике, не раздеваясь. Снились высокие-высокие сосны, вершины их освещены солнцем; мне было так хорошо, тепло, тихо тут, и дышалось как-то уж очень легко, после грозы будто.
В два часа ночи будят:
– Вставай, идет 53-й с плотом, к Кокилю подходит.
Со сна еще не могу сообразить, кто на нем, а катер вроде знакомый. «Д-53»… Уже пристали, кричат… Скорее ухожу с тридцатьчетверки.
Темно, лица капитана не видно, он в серой с опущенными ушами шапке, голосу нет, сипит:
– Не закрывай дверь. Не надо…
– Чего в шапке? – спрашиваю.
– А я с севера… – и вышел на борт.
Ему уже сказали, что сядет какой-то писатель, и он нервничает. Один на всем катере – ни помощника капитана, ни матроса.
– Где остальные-то?
– Спят, – нехотя просипел он и опять вышел.
Все чаще бегает с борта на борт и глядит в темноту. Да, темно. Плывем молча. Плотнее прижимаюсь к штурманскому столику, чтобы он свободно мог бегать из рубки на оба борта. Чувствую, что мешаю, лишний, не знаю, чего говорить.
– Чего сипишь, простыл?
– Каждую весну глотку перехватывает…
– А помощник спит?
– Болеет, лежит вторые сутки… рука пухнет.
Выхожу на палубу; темно, холодно. На хвосте у плота «висит» тридцатьчетверка. Три огонька на плоте, – значит, два фонаря погасли или утонули вовсе. Куда-то плывем, не понимаю, не узнаю знакомых берегов. Сзади непрестанно шарят прожектором, и мы тоже. Чувствую по поведению капитана, что в самом изгибе, на самом изломе… Он сбросил шапку, выключил все ходовые огни, бортовые даже, чтобы лучше видеть, и все время бегает: на борт, в рубку; на другой борт, к штурвалу… Выскочил, уперся одной ногой в кромку фальшборта и, придерживаясь за крышу рубки, во все стороны тянет шею… И вдруг дернул с крыши длинный полосатый шест-наметку, кинулся с ней на нос, стал, широко замахиваясь, закидывать ее перед катером в черную воду. Хлясть! – шестом о палубу – и снова в рубке. Только слышно, как шуршит, крутится все время штурвал…
– Вот о ком писать надо, – наконец сипит он и надевает шапку.
– Что, прошли, что ли?..
– Вроде пронесло… Сейчас второй поворот проскочим… Ну, тут полегче. О ком, говоришь?.. О 34-м. Это мученики, каторжане. Сколько нас за сутки-то пройдет! К каждому выходи…
Прошли Кологрив, и теперь вокруг ни единого огонька. Река стала еще загадочнее, мрачнее. Никого на реке. Только 34-й еще на хвосте – провожает. Кругом по всему горизонту черным кольцом лес. Самая темнота. И где-то впереди нас убегает в эту темноту река, где-то вода, русло. Как он его находит? Высокий лес по обоим берегам отражается в воде – будто смолу разлили – почти сплошь затемняет водное зеркало: идем по вершинам елей, словно чудом повалившихся в реку.
Капитан что-то ищет прожектором, выключил, убежал на палубу. Вернулся – опять ищет… И вдруг совсем сбавил ход.
– Тьфу… мать, не видать!
– Что?!
– Река кончилась… заблудился! Ничего не понимаю. Не знаю, куда и идти…
Почти стоим на месте, двигатель рокочет приглушенно, и в этой непривычной тишине вырастает из ночи плот, напирает на нас, жмет куда-то в черные кусты, на песок… Куда ни светим – везде берег. Судовой ход будто кончился, возле ельника слегка туманится от воды…
– Вот, сейчас еще туман навалится – и все! Вот пиши: капитан есть, реки нет. Пятнадцать лет плаваю, не бывало такого.
Работаем чуть-чуть, чтобы не задавило плотом.
– А, вот он!.. Сволочь…
– Кто?
– Створ, вон на берегу, – прибавляет обороты. – Всю дорогу этого места боялся – и все же уперся. Верх. Лужковский остров называется, им загородило… А идти вон на тот створ надо.
В луче прожектора далеко на черной шубе леса едва бледнеет белый квадратик – так, с кусочек сахару. «Значит, вот он что искал…»
– Сказать кому – насмеются… – все еще дивится он над собой. И ко мне: – Корреспондент спать будет?
– Вот порассветет.
– Скоро уж, четвертый час. Все… проскочили. Теперь уж виднеть начнет.
– Ловко прошел, ведь в самую темень.
– Да, удачно. Как в игольное ушко…
– А что один? Хоть бы матроса разбудил.
– Зачем… пусть отдыхает, еще наработается, весна долгая.
Я замечаю, что хрипота у него проходит, и теперь понимаю все, что он говорит. Не переспрашиваю и не думаю подолгу после каждого его ответа.
Побледнело сразу, начавшийся было туман рассеялся, капитан достал высокий раскладной стул: вместо полотна натянуты ленты старого пожарного шланга. Сел. Голова его иногда валится на штурвал: вторую ночь без сна. Хочу спать и я, идти бы, но вроде совестно. «Буду хоть разговором поддерживать его…»
– А Терентьев чуть не разорвал… светло еще было, и капитан, говорят, хороший, обидно.
Он ответил не скоро:
– Перестарался. Тут и не подумаешь – как выйдет. Это часто…
Проснулся матрос. Завариваем крепкий чай, пьем прямо в рубке. Река впереди, будто канал, – уходит далеко, прямо на юг. Берега высокие от лесу. Сосна, береза, ольха… Лес здесь красив даже голый – настолько густ, и тиха вода, и прямо русло. Прямоугольник плота как впаян в середину водного зеркала. Слабы стали огоньки фонарей на плоту в дневном свете. Тонкие палочки подфонарников стоят прямо – неоспоримое свидетельство, что плот нигде не «гребанул» берега.
Капитан глушит двигатель, идет выбирать буксиры. Выбрал, спрыгнул на плот и пошатываясь пошел по бревнам к хвосту плота – снимать на день фонари. Я спрыгнул за ним, сел на бруствер. Катер, тихий, стоит, прислонившись бортом к головке плота. Несет потихоньку и плот, и катер. Матроса опять не видно, ткнулся, наверное, в кубрике, спит: на заре хорошо спится.
«А вдруг катер далеко отойдет от плота?! А на катере все спят, и навалит и плот – и катер на берег… Или встреча будет, появится снизу какое-нибудь судно…» На секунду мной овладевает панический страх, катер действительно относит, и теперь туда уже не запрыгнуть.
Подошел капитан, поставил фонари сзади (все пять!), сел на бруствер. Катер опять потихоньку прибивает. «Да ведь за буксиры его можно было подтянуть!..» – наконец догадываюсь я и сажусь поближе к капитану.
– На берег не навалит?
– Нет, здесь участок прямой, долго. С русла никуда не уйдет, середкой так и пойдем. Это – не Кокиль.
– Как по «Лоции» это место?
– А никак. «Чайное плесо» мужики звали. Сысстари это, а такое, Кокиль, – «табашное»: нервничать, курить, значит. А здесь чай пей, идешь, как в корыте.
Хлыст бруствера, на котором мы сидим, тянется от борта до борта поперек всего плота. Я знаю, что ширина плота двадцать восемь метров, и силюсь представить, как росла эта ровная высокая сосна, как стояла в лесу… Значит, высилась она там метра на тридцать два, не меньше. Увидеть бы такие леса!.. Может, глухарь на ней токовал еще прошлой весной, тоже древняя царственная птица. Под стать дереву. И вот оно тут, прошло Кокиль, и на нем сидит маленький небритый капитан в залоснившемся кителе, подпер безвольную голову грязным кулаком. Спит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































