Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
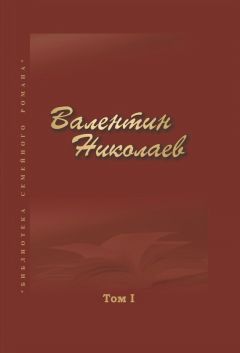
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
Два этих последних дня ветер тихо тянул с востока, и Одноглазая почти не сходила с гнезда. По запахам и по тому, как не по ее было покрыто гнездо, она догадалась, что кто-то тут был, и каждую минуту ждала, что этот «кто-то» вернется.
Но весновщики теперь были далеко, внизу реки, и к бараку ходили вытаявшей просекой. Это постепенно успокоило Одноглазую, вдобавок и вода в реке начала убывать, и уже не страшно было, что гнездо затопит… Ей теперь надо было сидеть особенно тихо и все время таиться, даже рискуя своей жизнью, потому что яйца она начала уже насиживать. А случись что – завивать новое гнездо было поздно.
Хлопун и Косохвостый, не дождавшись в это утро Старика, слетели на землю одновременно и начали токовать. Но у них не хватало духу петь так долго и азартно, как пел Старик, и их мало поддерживали. Все еще ждали, что Старик вернется. Но когда он не появился и к восходу солнца, тетерева по одному стали сниматься и улетать: у многих появилось подозрение, что поляна чем-то опасна. Было безопаснее сидеть на высоких соснах с краю поляны. Однако никто не занял главного места – на вершине старой сосны. Давно пролетела над поляной ворона, солнце поднялось уже выше вершин, а Старика все не было. Тетерева еще ждали, еще сидели на своих соснах вдоль опушки и изредка, чтобы не терять утро, принимались ворковать. Обе тетерки, Серая и Желтая, то и дело перелетали над поляной с призывным нежным квохтанием, садились на низкие сосенки, охорашивались и красовались, но тетерева к ним не слетали, а только ждали, что будет дальше.
Когда обогрело солнце и над поляной взвились лесные жаворонки, тетерева по одному, будто наукрадку, стали улетать в глубину леса.
* * *
А на Шилекше хоть и медленно, но зачистка подвигалась все ближе к устью. Приплыли с верховьев Княжев с Чекушиным. Чуть поодаль на своей кобылке сопровождал их Луков. Весь день они указывали ему на одинокие забытые бревна где-нибудь в кустах или на ныряющий топляк, и Луков кидался на свою «добычу». Топляки привязывал к сухим бревнам и, улыбаясь, пускал «пару» по течению.
К вечеру вся зачистка была в пойме. Здесь, на широкой разливине, собрался весь лес. Он темнел сплошной бревенчатой массой и на Лухе, Там две бригады ухали весь день, разбирая пыж и пропуская его под мостом.
Оставив свои кобылки, весновщики Княжева сидели посреди разлива на плотно сбитых течением бревнах и ждали дальнейшей команды.
Наконец приплыла приемная комиссия. Чекушин первым сошел с кобылки, за ним молча спрыгнули на твердые бревна Княжев с Луковым.
Все думали, что Чекушин опять будет ругать и грозиться, и молча ждали, когда он начнет.
Однако Чекушин был весел и ругаться, видно, не собирался. Он по привычке повернул на ремне сумку и, раскрыв ее на коленях, стал что-то писать, забыв о бригаде.
Первым не выдержал гнетущего молчания Чирок. Повертев головой в разные стороны, будто высвобождая тонкую шею из зеленого шарфа, и оглядев всех, бросил небрежно:
– Ну что, едрена-корень, рублей по двадцать насчитал?
Чекушин улыбнулся и, не желая ругаться, ответил примирительно:
– И по пятнадцать хватит. Куда вам деньги-то. Все свое: картошка, капуста… На вино только, ясно-понятно! Чай, корову держишь? – поглядел он на Чирка.
– Держу! – взвился Чирок. – А толку-то!.. Ведь кровь свою пьем, а не молоко: луга все позатопило, косить езди на лодке черт знает куда, да потом в гору на себе таскай… Вот оно как, сенцо-то… Все лето будто крепостной на эту корову работаешь. Продать ее к черту!.. – Чирок еще раз шустро поозирался, как бы ища сочувствия, и обиженно осадил свою маленькую голову в широкое гнездо шарфа.
Чекушин, прослушав его, будто пение птицы (которой не мешать желательно, а отвечать не обязательно), захлопнул тетрадь, встал:
– Придется ждать, когда разберут, – кивнул он в сторону моста. – Обе бригады всю ночь будут работать… ясно-понятно! – и поглядел на бригадира. – Завтра деньги привезу, и можете собираться. Спасибо, как говорят, за службу: чисто сделали, ясно-понятно! – Тут он пожал Княжеву и Лукову руки, и еще нескольким весновщикам, что были рядом. – Так что теперь не грех и выпить с окончанием-то. А, ясно-понятно?.. – и он обвел всех счастливым победным взглядом.
И все встали с тем долгожданным облегчением и свободой, о которой думали все последние дни.
– Часть кобылок к берегу приткните, – кивнул Чекушин на целую флотилию кобылок, прижимаемых течением к бревнам. – Может, на Лухе потребуются. Поглядим, что утро даст, – и пошел по бревнам на берег.
Мишка не ожидал, что так просто и буднично все закончится. Было чувство какой-то обманутости, незавершенности.
В предзакатной тишине сидели на крыльце с Пеледовым и молчали. Последний жаворонок, еще освещенный вверху солнцем, допевал над поляной. Пел как-то буднично, без утреннего подъема. Будто и ему надоел этот простор, солнце, эта бесконечная воля… На глазах стыла лужа возле крыльца – покрывалась темными крестиками льда. От старой сосны доносилось призывное шипение какого-то тетерева, и Мишка слушал его без особого интереса: он был убежден, что ток распался уже навсегда. Он вспомнил и об утке и тоже был уверен, что Чирок с его жадной пронырливостью не оставит гнездо в покое…
Мишка не знал, о чем думал Пеледов, но видел, что конец весновки не радует и его.
– Вы уедете, а я на все лето на Лух пойду… – сказал он как бы про себя. – Значит, и мой праздник прошел. Все, видно… Помню, до войны все ходил к нам в деревню один дурачок. Ребятишки бегают за ним по пятам, кричат:
– Ванька-дурак?
А он:
– Нет, родили так! – и счастливо улыбается.
Мишка поглядел на Пеледова и не понял, куда он клонит. А тот затянулся сигаретой и, глядя на вечерние вершины сосен, подытожил:
– Вот и я Ванька-дурак. Так что не слушай, чего я говорю. Я ведь свихнутый, – покрутил он пальцем возле виска. – И не думай много, а то тоже свихнешься… А этот вывих никто не вправит. – Он как-то горько и в то же время любовно-снисходительно улыбнулся Мишке и ушел в барак.
В бараке сегодня даже не зажгли света, все уже легли, только в вагончике у поварих светилось окно.
Мишка тупо воспринял, что сказал ему Пеледов, сидел и все никак не мог уловить смысла сказанного им.
Однако в ночном одиночестве он неспешно снова все перебрал в уме и вдруг резко встал: с холодной ясностью, как зимняя молния, высветилась в его сознании догадка – а вдруг в лице Пеледова пропал великий человек! Ему сделалось жарко. Волна стыда накатила на него за то, что он жалел Пеледова, осуждал за игру в карты, решал за него, как ему жить…
Только теперь стало ясно, почему Пеледов так говорил с ним всю весну, будто видел его насквозь… Значит, действительно видел. И заботился о нем, как о сыне, даже больше, чем о сыне… Какую же благодарность должен был высказать ему он, Мишка, и не высказал, не проявил даже готовности сделать это. «Как же ему, наверно, тяжело жить здесь, среди нас таких. Вот перед концом и прорвалось, мелькнула обида на нас, на меня…» – подумал Мишка и тяжело вздохнул.
30Утром, как обычно, собрались на реку, и никто толком не знал, управятся за эти сутки или нет.
Вышли из лесу – берега были голы, и Шилекша текла уже как бы ненужно, впустую. И легко было и обездоленно одновременно. Поэтому когда спустились к Луху и увидели бревна, то невольно повеселели. Бревенчатый пыж был разобран, бригады ушли спать или завтракать, под мостом дежурили всего четверо сплавщиков. Лес шел густо, но не из Шилекши, а откуда-то сверху, и эти четверо работали постоянно, без передыха.
На берегу, напротив моста, возле утухающего костра, дремал Чекушин. Он не уходил с реки всю ночь, дожидаясь, когда минует угроза затора.
Мужики оглядели устье своей Шилекши: посредине было чисто, но по окраинам, в кустах, мелких заливинах бревна стояли неподвижно, будто дремали на заре, спрятавшись тут от неспокойного течения.
Встали на вчерашние кобылки и поплыли к этим бревнам. Ветра почти не было, лишь по вершинам можно было догадаться, что слабо тянуло с востока. Вода убывала: ей и пора уже было убывать, а с этой ночи вдобавок стоял, еще и крепкий утренник. Лужи по лесам замерзли, и на сухой траве кое-где белел иней. Но этот мороз теперь не пугал ни Княжева, ни Чекушина: на Лухе вода всегда держалась хорошо.
Где-то далеко в лесу токовал один тетерев, совсем рядом громоподобно раскатывался старый дятел. Двух других дятлов, как ни напрягался, Мишка не услышал. Значит, отходила их пора.
На завтрак в этот день не пошли, и к обеду уже все было кончено. Передали лес сплавщикам Луха, толкнули им свои кобылки и сошли на берег совсем свободные. Здесь же, возле костра, Княжев с Чекушиным подписали последние документы, и оба почувствовали себя независимо. Они пожали друг другу руки и тут же перешли как бы на новое знакомство. Чекушин начал изо всех сил расхваливать бригаду, то и дело вставлял свое «ясно-понятно», всем велел приходить на следующую весну, и видно было, что нынешней весновкой он действительно доволен. А Княжев отвечал с независимым видом, что из Веселого Мыса весновать всегда умели.
Пока переговаривались и толпились возле костра, из леса стал наплывать гул трактора. Чекушин насторожился, подняв кверху палец:
– Тихо!.. Ага… пойду встречать. Не расходитесь, сейчас груз сгружать будем.
Трактор, нагнав шуму и грохоту, у самого моста стих, и стало слышно, как бурлит возле свай вода.
Кусты зашевелились, и к костру вышли Чекушин с Пашкой, неся деревянный ящик с бутылками. Поставили его на лапник недалеко от костра, и Чекушин, довольный, сделал широкий жест рукой:
– Разбирай по одной!.. Премия, ясно-понятно! Сейчас деньги привезу, ждите.
Вскоре, забрав пустой ящик, они ушли с Пашкой к своему трактору.
* * *
Галя с Настасьей весь день ждали весновщиков. У них было еще немало продуктов, и они сготовили сегодня праздничный завтрак, обе радовались, думали угодить мужикам. Но мужики не только на завтрак, а и на обед не явились. И поварихи расстроились обе, будто весновщики покинули их тут одних.
Но вот из леса знакомо вышли на поляну все, с баграми на плечах. Поварихи встрепенулись, начали охорашиваться, обе враз сунулись к зеркальцу, стукнулись головами и рассмеялись.
Однако бригада прошагала мимо, в барак. Там Княжев велел все бутылки положить ему на койку, пересчитал их и стал молча складывать в свой рюкзак. Другую половину бутылок засунул в рюкзак Лукову.
Все глядели и ничего не говорили. Княжев, затянув тесемку на рюкзаке, объяснил коротко:
– Здесь пить никто не будет… Сначала надо деньги получить. И уйти – как пришли. Чтобы никаких следов… Всем в столовую!
Обычно Княжев не приказывал, а просто говорил. Но сейчас это было похоже на приказ. Люди так и поняли и знали, что надо слушаться.
А Княжев, идя в столовую, думал вот о чем. Хоть и доволен он был сплавом, и пожал Чекушину руку, но панибратствовать с ним не собирался. Он догадывался и не ошибался, что у Чекушина был свой корыстный план: перед концом он играл роль заботливого хозяина – привез ящик водки, за деньгами сам поехал… Он считал, что к его приезду люди уже будут пьяными, а получив зарплату, захотят выпить еще, и в результате не станут проверять точность расчета, не осмелятся пьяными идти в контору… Чекушин хорошо помнил о такелаже, кинутом на дороге, о рукавицах, о премиальных…
Но не забыл этого и Княжев.
И все же Чекушин продолжал делать по-своему все «правильно»: за удачную работу он выписал бригаде премию. Только включил он княжевцев в один список с бригадой, работающей на Лухе. Значит, премиальные эти должны были «созреть» к середине лета, когда княжевцы будут уже далеко от Шилекши и забудут о весновке, захваченные горячей порой сенокоса. Включая княжевцев в один список с бригадой, веснующей на Лухе, Чекушин этим самым половину премиальных как бы воровал. Не себе, конечно, а луховцам. Он надеялся, что, проводив шилекшан, объяснит это бригадиру с Луха, которому еще неизвестно, выйдет премия или нет… Этим самым он уже сейчас поставит лухского бригадира как бы в зависимость, в положение должника. И он, этот лухский бригадир, волей-неволей, а должен будет Чекушина отблагодарить… Механику эту Чекушин знал давно, и она пока что срабатывала невидимо, но безотказно. А от княжевцев напоследок хотел Чекушин только одного: услужив им вином (купленным, конечно, на деньги бригады), он мечтал устроить тут, в бараке, «прощальный бал» – погулять и еще раз, напоследок, попытать Настасью… А потом уж, как бы ни вышло, бесследно кануть в лес, то есть переключиться сполна на Лух.
Но Княжев, если не в точности, то примерно, предвидел эту задумку Чекушина и вносил в его планы свои поправки. Он не обижался на Чекушина: уже давно привык к подобным «операциям» на сезонных сплавных работах, хотя, конечно, не все были такие, как Чекушин. Он мог бы обидеться на Чекушина, потому что тот сам был из крестьян-колхозников, знал, как тяжело мужику, да вот скоро забыл. Однако в любом случае ругаться и требовать своего Княжев все равно бы не стал. Затей он хоть раз свару – и больше не пришлют весной телеграмму, не позовут весновать… Так уж тут все издавна устроилось. «И если менять здесь что-то, – думал Княжев, – то не мне, а кому-то из молодых». Сидя за столом в вагончике, он видел, как вяло, без особого аппетита ели Вотяков, Луков, то и дело вертел головой, как бы собираясь сказать что-то, Чирок… «Конечно, можно бы им и дать перед обедом по стаканчику, – наклонившись над тарелкой, думал Княжев. – А как быть с остальными? Давать так уж всем…»
После обеда плотный приземистый Вотяков взял увесистый еловый стяг[9]9
Стяг – рычаг для скатывания особо толстых бревен (сплавщицкое).
[Закрыть] и, с улыбкой оглянувшись на стоящих возле вагончика мужиков, скомандовал:
– Кто первый? Подходи!
– А что, едрена-корень! Больше не потребуется… – встрепенулся Чирок. И кинулся выбирать из кучи свой шест. Он подошел к сосновому кряжу, на котором когда-то насаживали багры, положил на него свой багор крючком вверх и, боязливо сжавшись, глянул на Ботякова.
Тот выдохнул, будто бык, готовящийся стронуть невероятную тяжесть с места, размахнулся, и Чирок зажмурился… Удар был таким, что Чирок, летя задом в лужу, сначала слышал, как с тонким звоном просвистела железка; а потом уж, будто обвал, грохнул общий смех. Поднимаясь, Чирок увидел, что даже поварихи, стоящие в дверях вагончика, согнулись пополам от душившего их хохота. Всем было понятно, что и сила и злость, с которой размахнулся Вотяков, были еще и от того, что не удалось ему выпить перед обедом.
Весновщики весело выстраивались в очередь всяк со своим багром и смотрели с нескрываемым интересом, как чисто Вотяков работал. Обычно багор слетает с шеста с третьего или с четвертого удара. Вотяков старался с одного – смахивал железку с конца шеста, будто стрекозу или муху.
Высветленные работой багры заворачивали в тряпку или старую рукавицу и прятали в рюкзак, до следующей весны. Подобрали комолые шесты, поставили их степенно снова к углу барака и ходили по поляне молча, сосредоточенно, не зная, что дальше делать.
Поглядывая на край поляны, ждали Чекушина. Вскоре он приехал опять с Пашкой на том же тракторе. Взбудоражив лес, они лихо вывернули гусеницей мох возле барака, и Чекушин вывалился из кабины с туго набитой сумкой.
Заходили по одному в столовую, расписывались, получали деньги…
Всем было начислено по 180 рублей, а Мишка с Шаровым получили по 150, потому что у них был «подростковый» разряд. На сплаве всегда было только два рабочих разряда: «мужичий» и «подростковый». Давал разряд сам бригадир, советуясь с двумя-тремя опытными сплавщиками. И разряд этот никогда не обсуждался, не становился предметом обид, недоразумений или просто разговоров. Так было и здесь. Однажды Княжев с Луковым задержали на штабеле Сорокина, присели, и не успела бригада дойти до барака» как разряд каждому уже был определен.
Чекушин, выдавая деньги, шутил, был доволен, но про себя не переставал думать: «Где же водка? Почему никто не пьян?..»
Однако все разрешилось само собой.
Когда денежная сумка у Чекушина опустела, в столовую вошел Княжев с рюкзаком за плечами. Чекушин испугался, что бригадир уходит, пришел прощаться. Но рюкзак был осторожно опущен на пол, две бутылки были поставлены на стол Чекушина, по одной на другие столы и одна на раздатку поварихам.
– Заходи обедать! – крикнул Княжев на улицу.
Все в вагончик не убирались, поэтому принесли два стола и стулья из барака, приставили их к вагончику возле дверей, и Княжев разрешил всем налить и выпить по полстакана. Он не хотел этого делать, но надо было угостить Чекушина.
И было за что: он все-таки один привез им и вина и денег.
Только Княжев встал и хотел сказать «с окончанием!», как на улице взревел трактор и покатил во всю силу через поляну.
Комендант Сергей выскочил из барака и, застыв на крыльце, закачал головой. Расстроенный, он пришел в вагончик, стал выговаривать Чекушину:
– Петр Макарыч… Я опять не успел шишки отправить! Зачем отпустил-то?
Но ответа он не услышал, все засмеялись, зазвенели стаканы, поднесли и ему, коменданту. И начался последний обед (и ужин заодно).
Выпили совсем мало, но все запьянели, угощали Чекушина, Сорокина и обеих поварих. Однако Настя с Галей только попробовали и убрали бутылку в глубь кухонки, а Сорокин наотрез отказался.
– Ну с зачисткой-то… – настаивал Вотяков. – Василий Егорыч? – и налил себе.
– Нет уж, всю жизнь, и не курил и не пил… А теперь и подавно не буду. А кто молодой да привышен – почему не выпить… Выпейте.
И Вотяков не посмел ослушаться старика: осушил исключительно за его здоровье. О своем он пока не заботился.
Шаров раскраснелся, был доволен и всем улыбался. Он подсел к Мишке и налил ему хозяйской рукой. Мишка понял, что Шаров сейчас станет богатырствовать, отлил себе из стакана в чай и сказал:
– Лучше всего с чаем. Не пробовал?
Шаров засмеялся, а в это время стакан его с водкой взял Княжев:
– Нельзя, ребятишки… Дорога впереди, больше ни капли.
И оба смутились под строгим взглядом бригадира. – Говорил тебе, выливай в чай, – прошептал Мишка, – не заметил бы.
* * *
Уж все было кончено, надо было уходить, а они все бродили по поляне, снова и снова возвращались в вагончик, который уж раз говорили «спасибо» Настасье с Галей и не могли тронуться с места. Будто забыли что, оставили тут, на поляне… У стены барака в одиночестве стоял только багор Сорокина.
– Дядь Вась, али обратно понесешь в такую даль? – спросил Вотяков и поглядел на стяг. Сорокин долго стоял, задумавшись, поворачивая багор так и этак, разглядывая его… Наконец подошел, положил шест на кряж.
– Ударь…
Вотяков примерился, в два коротких резких взмаха деликатно снял железку с шеста, спросил:
– Все, дядь Вась?.. Отвоевался?
– Довольно… Отвесновался.
Уж солнце склонялось к лесным вершинам и наступало время предвечернего затишья, когда они наконец закинули на себя тощие рюкзаки и Княжев, заглянув в вагончик, сказал нарочито громко на всю поляну:
– Ну, пошли!.. А кто ночевать думает, оставайся. Ждать не будем!..
Настя с Галей вышли из вагончика в белых халатах.
– Спасибо, хватит, покормили! – махали им.
– Приезжайте еще!..
Комендант Сергей, уже хмельной, без шапки, увязался провожать. Постоянно запинаясь о корни, он дошел до середины поляны и начал всем по очереди жать руки. Он улыбался, всех хвалил, велел приходить на следующую весну и опять пожимал руки – все никак не мог расстаться. Застенчивость и угрюмость его пропали, он стал разговорчивым, веселым и очень добрым. И всем было жаль, что не видели его таким раньше.
Мишка глядел на старую сосну, на шалаш свой, пока можно было глядеть…
На краю поляны остановились и, увидев вдали, две белые фигуры возле вагончика, враз замахали все руками. Шмель рванул свою горластую гармонь, и лес поглотил и людей и гармонь.
А Галя с Настасьей все еще махали им: Галя – рукой, а Настасья – белой косынкой, потом упали друг дружке на грудь, обнялись стоя и в голос разревелись. Они и сами не знали, что это такое на них накатило: то ли вино, то ли сожаление о промелькнувшей весне…
А весновщики шли легким бесшумным шагом через притихший перед зарей лес и дивились старой зимней дороге: теперь по сторонам ее стояла вода, а на боровинах изредка голубели подснежники. День буднично угасал, на ходу они думали уже о своем вытаявшем поле, о доме, о том, как их там встретят. Шли быстро, и Шмель, застегнув гармонь, нес ее на спине, едва поспевая за всеми. Торопились, будто надо им было скорее оторваться от своей поляны, реки, чтобы никто их не увидел и не узнал, что они тут делали, как… Всегда было почти суеверной приметой держать свой промысел в секрете, чтобы не навлечь недоброго глаза. Эта поляна и этот лес были для них святым местом, и они должны были оставить все в чистом виде до будущей весны. Так делали еще старики: никогда не пили, не ругались и не дрались в лесу, а только работали. Никогда и Княжев не позволял выпивать на поляне, но Чекушин нынче спутал все. Поэтому пришлось сделать вид, что бригада все же выпивает с концом. Времена менялись, но старое на сплаве жило еще крепко, и весновщики, не сговариваясь, хранили обычаи отцов и дедов.
* * *
И Насте и Гале не хотелось идти в вагончик: там, сидя за столом, спал Чекушин. Ночь, проведенная у костра, и целый день в хлопотах сморили его, и он спал, забыв, где он и что с ним, чувствуя только тепло и облегчение.
Девчонки сиротливо сидели на крыльце барака, глядели на закат, на безмолвную поляну… Как-то пусто и одиноко им стало. Заглянули в барак, но и там все было покинуто, бездушно: матрасы на пружинных койках были завернуты, не висели портянки вокруг печки, пустые веревки опоясывали ее теплые бока. Комендант Сергей храпел на одной из коек прямо в сапогах и фуфайке.
Они забрали со стола чайник, кружки, две ложки и пошли в свой вагончик.
А бригада тем временем шагала уже самой глубиной леса, радуясь дороге и новой свободе. Затихали вечерние тока, зоревые пересвисты птиц, и уже взблеивал над вырубкой справа бекас – первый предвестник ночи. Когда замирал печальный звук его крыльев, прослушивались в глубине леса ручьи, но уже покорные, обессилевшие. Растекались по всему лесу теплые благостно-умиротворенные сумерки. Владела бригадой легкость от выполненной работы, от своей нужности людям, на встречу с которыми она теперь шла из своего леса. Весновщики еще никак не могли отойти от привычного плеска воды, глухого удара бревен, ожидания заторов, дождей или снега… Все это еще стояло перед глазами, звучало в ушах, словно не хотело отпускать.
Мишка думал, как будет дома, как отдаст матери деньги, удивит ее и обрадует. А что дальше?.. Дело, ради которого шли, завершено, весновка закончена, но в душе ничего закончено не было. «Шаров – он, конечно, останется в колхозе… А потом перейдет совсем в сплавщики и будет работать до пенсии, – размышлял Мишка, глядя на широкую спину Витьки, маячившую впереди. – У него все просто: «Где родился – там и сгодился», – как говорит мать. И Мишка завидовал ему, тому, как просто от школьника он переходит прямо в мужики, и, видимо, нет в его душе никаких сомнений, метаний… Это была проторенная дорога, по ней шли всегда, многие. И Мишка недоумевал, почему самому ему не хочется идти этим путем, чего он ищет? И хорошо это или плохо?.. После разговора с Пеледовым становилось иногда все до предела ясно и просто, и было такое ощущение, что надо только разбежаться – и оторвешься от земли, полетишь. Но это в думах. А стоило вернуться к жизни, к будням в колхозе, которые его ожидали, – и все пропадало. Было какое-то обидное ощущение, словно у молодой птицы: крылья и сила есть, а взлететь не можешь. Что за цепи, что за груз держал невидимо? И почему об этом никто и нигде не говорит? Никто, кроме Пеледова… Вспомнился последний разговор с ним вчера вечером на крыльце барака, обида, с которой высказался Пеледов и ушел. И Мишка опять подумал, что так и не сказал, а надо бы сказать ему «спасибо», хотя бы дать понять, что принял его слова, понял…
Наступившая ночь не тяготила и не угнетала душу, потому что с уходом дня не исчезла весна. Она была всюду и жила неостановимо: в шуме бегущей воды, еле заметном ласковом движений воздуха, в оттаивании земли и мхов, в мелькании вальдшнепов над просеками…
Наконец они вышли из-под сумеречной сосредоточенности леса на простор – началась старая вырубка с пнями, редкими березками и сосенками, с далеким живым мерцанием огней впереди – там был Побочный. Там были дома, огороды, люди, иные, уже человеческие, звуки – все то, от чего они отвыкли и к чему снова их так неодолимо влекло.
Без команды все остановились, поправили на спинах мешки и стали закуривать.
– Выпить бы… – прорвалось душевно у Ботякова. – Прощай, милой… Кормилец ты наш, – Ботяков повернулся лицом к лесу, снял шапку и поклонился. И все мысленно, кажется, согласились с ним: никто не рассмеялся, не вставил как обычно своего слова, но все поглядели в сторону леса, и каждый, видимо, что-то отметил про себя.
Не будь Княжева, Ботяков, конечно, и выпил бы сейчас, присев на пенек, да и не один он… Но надо было, пока не стемнело, дойти до поселка.
– На-ко вот, – снял свой рюкзак с бутылками Княжев и протянул Ботякову. – Неси, если любишь. Да не запинайся.
– Да чего нести, – подошел Луков и тоже снял свой рюкзак. – Забирай по одной и неси, где хочешь!
– Как я раньше-то не догадался! – удивился Княжев. – Несу и несу…
Засмеялись, разобрали бутылки и снова двинулись дальше. Пеледов, оказавшись возле Мишки, шел молча, и Мишка мучился, хотел все сказать ему слова благодарности, но мешал Шаров, шедший рядом, который все равно ничего бы не понял…
А время, последнее время, уходило – Побочный становился все ближе, и Мишка понимал, что расстаются они с Пеледовым надолго, может, на всю жизнь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































