Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
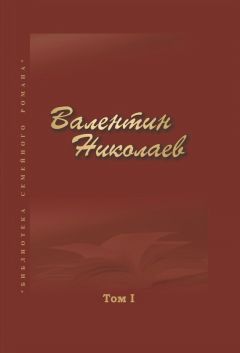
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 42 страниц)
Река все уже и уже, а леса все смелее, гуще подходят к самой воде. А сколько по пути других речек еще впадает в Унжу. И названия-то все какие: Варзенга, Ужуга, Пеженга, Понга!.. И везде плотбища, люди, катера… Везде оживление. Все тридцать пять катеров, что ушли в верха из затона, здесь где-то затерялись, тут работают, в этих лесах.
На Виге плоты. Они стоят возле обоих берегов, зачаленные за деревья. Течением относит их на середину реки, вода за плотами завивается воронками… Это и есть одно из самых трудных по унженскому бассейну плотбищ. Потемневший сарай стоит на берегу, оттуда скипидарно пахнет смолой. Значит, тут такелажка – хранятся тросы, цепи-волокуши, проволока, замки, секционки – все, чем учаливаются, крепятся плоты.
В пять часов уже совсем светло, леса наполнены птичьим звоном, и сплавщики все на ногах. Еще не отойдя как следует ото сна, они идут в столовую, но всем сразу там делать нечего. Поэтому многие сидят на ступеньках, курят, откашливаются. Кто-нибудь начинает пересаживать багор, с переливом звенит тонкая сталь топора; рыжий сплавщик, парнишка, подманивает молодого барана, берет его за рога и начинает бороться – учит его бодаться. Хозяин овец каждое утро ругает парнишку, но каждое утро все повторяется снова, и баран все охотнее принимает вызов, – видимо, и ему нравится такая зарядка…
В столовой один стол, дощатый, длинный, от стены до стены. Три совсем молодые девчонки-практикантки из Судайского училища с трех часов ночи при керосинке начинают готовить. Сами таскают дрова, воду с колодца: сплавщики так «урабатываются», что забывают помочь им. И они жалуются: «Прокорми-ка целую сотню здоровых мужиков – четыре сплавные бригады!» В комнатке барака, где они живут все вместе, размещается еще и медпункт, но сюда редко кто заходит. На весновке болеть некогда, разве палец кто наткнет тросом, забежит. Поэтому медсестра Шура встает вместе со столовскими девчонками и вместе с ними хлопочет у кухонных котлов почти круглые сутки.
На Виге сплав сложный. Называется он дистанционно-патрульный или пучковый сплав вольницей, потому что пучки, связанные зимой, приплывают на запань издалека. Самый верхний пуск их почти на семидесятом километре от запани, и весь этот путь они идут самосплавом, вольницей значит. На сплотке четыре бригады работают от темна до темна, потому что весенний паводок в верховье особенно короток. Неделю, от силы – полторы. Новому человеку тут приглядываться да обдумывать, что и как, некогда. Все надо знать и предвидеть заранее, по прошлым веснам прикидывать, новую предугадывать. Держится вигский сплав бригадой Назарова, а из руководства – старшим инженером лесосплава Жуковым.
«Комендант города»Девчонки из столовой называют его «комендантом города», а капитаны и механики с катеров – «Сашкой-разбойником». Все, любя, конечно, да еще потому – знают, не обидчив он.
«Сашка-разбойник», или Русов Александр Григорьевич, со временем стал вроде олицетворения всей Виги. Живет он в устье ее уже двенадцатый год, и один как бы шутя правит своим «городом». Каждую весну он покоя не дает никому во все время суток, кроме глухой ночи. И сам его не знает. Ежедневно с самого раннего утра он чисто выбрит и носится по поляне в белой курточке и пышном поварском колпаке. То в магазин, то в пекарню, то в контору, потом в столовую, а там на берег… Бежит и все время кричит, громко и всем одинаково: столовским девчонкам, черной собаке Чайке, главному инженеру и карей своей лошади:
– Девки, гречку повучать! Живо в магазин… Чайка, мовчатъ! На место! Борис Витальич, к телефону: звонок охрип! Бегом, едрена корень!.. Забыв, как в солдатах служив?.. Ха-ха-ха!.. А ты, лешая, что привязавась? Обожрешься, чего ты там нашва в отходах? Будешь стонать потом на конюшне, лечи тебя… А ну!.. Гэ-гэ-гэ!.. Сейчас заковочу ящик. Девки!.. – Голос у него звонкий, лихой, и он так забавно и неожиданно вставляет вместо «л» какое-то мягкое, проваливающееся «в», на местный манер, что невольно остановишься и заслушаешься.
– Русов, в бухгалтерию! – кричат ему с крыльца барака.
– Бегу-у!.. Мария, смотри хлеб, через десять минут выборка!
– Ру-сов!..
– Бегу-у-у!.. Девчонки! Припасай тару… Сейчас фонари отпущу, магазин открою…
Так у него проходит весь день. Он и комендант, и завскладом, и завмагазином, и конюх, и даже… пекарь. Успевает везде. Прибежит, сделает, что надо, и только потом вздохнет:
– Ух, задохнувся, бежав… – и обязательно улыбнется. И опять побежит, словно бы оставляя усталость там, где присел. Выглядит всегда свежо, бодро, и возраст его определить трудно.
Ему бы прислали пекаря, а он вызвался печь сам. Изба его разделена надвое: в одной половине живет он с женой Марией Ивановной, а в другой половине пекарня – печь, дежа, стол и стеллажи для хлеба. В сутки они вынимают по три выпечки: печь маловата. И хлеб только белый. Говорят, что черный у него не получается. Он об этом молчит, но муки «черной» не завозит. Зато уж белый хлеб – лучшего по всей Виге и Унже не найти! В пекарне он работает профессионально – быстро и точно. И чистота у него тут удивительная.
– Александр Григорьевич, скажи хоть, как у тебя получается такой хлеб? – спрашивают его.
– А как? Дело любить надо, вот и повучится.
О том, что когда-то учился в Новосибирске на кулинара, он тоже молчит. Про себя, должно быть, решил он так: раз кулинар, значит, и пекарь…
Но вот он приходит в магазин – и мигом преображается: лихо вертит кульки, заправски кидает совок, гири, деньги, резко щелкает счетами.
– Следующий!..
И зачем бы такая быстрота здесь, в лесу? Но ему, видимо, нравится входить и сбрасывать с себя не одну роль за день. В магазине у него все. Он и сам так говорит:
– Вот быв на соседнем плотбище. Там что?.. Ничего! Один суп кубанский, ха-ха… А у меня все: гречка, макароны, треска, консервы. Хоть говядину, хоть свинину… не одну банку.
А спиртного он не держит. Ни-ни!.. Сухой закон. Пока не кончится сплав. А когда закончится, тогда уж другое дело… Тогда уж и сам он поет и хохочет вместе со всеми на всю поляну.
Вечером, когда все вернутся с реки, а из магазина он отпустит в столовую на завтра продукты, он снова преображается: снимает с себя белое одеяние, которое держит всегда в удивительной чистоте, надевает голубой свитер и идет в конторку – поговорить, послушать, как прошел день на сплаве, что намечается на завтра, как вода… Тут он опять другой: насмешлив и прост со всеми, но не навязчив и не фамильярен. Вместе с бесшабашностью в нем уживается ровное, глубоко запрятанное – какое-то лесное – достоинство и внимание ко всему.
Уставшие за долгий день люди ложатся, а он сидит возле чьей-нибудь койки, курит, несет всякую околесицу, смешит людей и сам смеется громче и больше всех. Хоть и говорит он: «Я лесной человек, ни в городе, ни в деревне жить не люблю», – а все-таки каждой весны ждет с нетерпением и рад людям до страсти. Вот кончится весна, уедут сплавщики, и все лето только его лошадь да овцы будут бродить по поляне. А он и не подумает загнать их на ночь в хлев.
– Ведь медведь сожрет, – скажет заглянувший сюда сплавмастер.
– Не сожре-ет… – протянет в задумчивости он, – хлев и конюшня у меня всегда открыты – захотят, так лягут… А вон Чайка у меня! – наконец догадается он. – Все время с ними, она скажет, ха-ха!..
К осени жена его забирает детей и уезжает в деревню: ребятишкам в школу надо.
И он на всю зиму остается один. На двадцать верст вокруг – ни дорог, ни жилья… Теперь со дня на день ждет он назаровцев.
К нему лоси приходят под самое окно, он знает глухариные тока, но держит их в секрете (и правильно делает!), знает, где водятся ондатры и выдры, и все жалеет: «Куропатки много погибво от пожаров. Находив не одну – так и свернувась! Робкие какие-то… А вот рябчики сбереглись, их тут уйма по ельнику, рябков-то…»
Бегут весны, меняются сплавщики в бригадах, повара в столовой меняются, мастера, инженеры… А он бессменен. Никому и в голову не приходит: вдруг его не станет! Такое и допустить немыслимо. Бывает, еще дорогой, когда справляются в Вигу, начнут сплавщики разговор о воде да о плотах или о спецовках, и заспорят, разругаются. Иной раз и до больших скандалов дело доходит. Но вспомнят Сашку – и сразу потеплеет на душе, и причем у всех. У него нет врагов, все друзья.
Вот и не сплавщик он, Сашка-разбойник, но вигский сплав без него представить уже трудно.
«Вода уходит»«В верхах вода уходит!.. – бежит вниз по реке весть, бежит тревога… Считаются плоты, суда все на счету. – Не успеть! Обсохнем!..»
И вот день, день и ночь, обгоняя друг друга, спешат все пароходы вниз – тянут плоты, тянут баржи, бегут порожнем… Не мало их по большой воде забирается в самые верховья больших и малых рек: завозят продовольствие, топливо, удобрения колхозам, машины…
Теперь спасаются.
Конечно, уходит вода не сразу, однако быстро, и уходит в первую очередь с верховий, как и прибывала. День, второй – еще не верят, еще ждут сплавщики: может, дождь хлынет, или ветер переменится, подует низовый – нагонит воду, или пойдет вода «почечная», в момент набухания почек; зовут ее еще «почвенная», потому что эта вода – не снежница, а уже грунтовая от ключей и оттаивания болот…
Однако – все это мелочи. Уж коль мал оказался главный паводок – на дождях да на ветре лес не сплавишь.
На Вигу эта беда пришла на третий день сплава – раньше всех. Плоты были еще не доделаны, а уж головки у них обсыхали, выгибались по берегу. Правда, с верхов лес был пущен весь, и катера продвигались с зачисткой. 19 апреля они миновали 12-й километр от устья, все инженеры, мастера и рабочие вернулись оттуда в глухую полночь промокшие, заляпанные выше голен грязью – ставили верхнюю запань уже для летнего молевого сплава.
На следующий день налетел, покружил над рекой вертолет и ушел за леса к Кологриву. «Управляющий треста Чернасов осматривал реку…» – определили сплавщики. И правда, вскоре зазвенел в конторе телефонный звонок: управляющий приказывал немедленно уводить плоты. В Вигу шли дополнительные катера для их буксировки.
Плоты доделывали лихорадочно. С реки вернулись опять все ночью. Девчонки уже закрыли столовую. Пришлось им вставать, открывать ее снова.
И только отужинали, движок стих, все замерло, окуталось ночью. Застигнутый темнотой врасплох, я неподвижно сидел на бревне и мысленно прощался с Вигой. Думал о бесприютной сплавщицкой жизни: вот всю зиму работали они на лесоповале, сейчас на весновке, не успеют как следует распуститься деревья – по всем рекам начнется молевой сплав. И будут они сплавлять, плотить до глубокой осени, до новой зимы…
Ни звука на поляне. Темны бараки. Влажно и глухо в лесу.
Изредка в робком пепельном свете низкого северного неба пролетали над поляной какие-то призрачные птицы. Они торопливо мелькали короткими крыльями, и вслед за ними скользил по волглому воздуху таинственный мягкий звук: «Жа-а… жа-а…»
Не скоро я догадался, что это прямо над крышами тянули вальдшнепы: время подоспело такое.
Слабая надежда, что убывающая вода остановится, еще пойдет на прибыль, гасла: погода не менялась. Поэтому не только на Виге, а по всей Унже была дана команда – срочно свертывать весенний сплав. И по всем плотбищам напряжение достигло предела. Измученные бессонницей и работой люди старались в последний момент отправить, свести в низа как можно больше готовых плотов. По-прежнему главной тяговой силой, даже на большие расстояния, были катера.
Три катера пришли на помощь и в Вигу. Они объявились утром, и среди них был «Д-53» – Виноградова, с которым я проходил через Кокиль. Я обрадовался, пошел туда, матрос Лоскунин, как-то косолапо, вразвалку ходивший по палубе, узнал меня, замахал издали рукой:
– Иди, чайку попей!..
Мы спустились с ним в знакомый кубрик. Заметив мое удивление, Анатолий сразу пояснил:
– Оба в контору ушли, документы на плот получают.
– Когда добрались?
– На утре. Всю ночь без останова валили. Вчера вечером спрашиваю Виноградова: «На ночлег вставать будем ли?» – «Вот, говорит, до двенадцати подойду, пока светло, а там ткнемся. А какое светло! – как в трубу идешь, ни звезд, ни месяца… Уж как он там, не знаю… Все время на полном жал. Я задремал, а проснулся – уж здесь, в Виге стоим».
– Да-а… Любит Виноградов по ночам лазить. Вот оставите где-нибудь винт – и потащат в затон на буксире.
– Не оставим… У нас литой. Пятую навигацию ходим, не меняли.
– А где достали? В затоне ж сварные винты…
– Не знаю. Где-то на Волге достал он, у пароходских. Он ведь в Юрьевце живет, у него там знакомых полно… Ну-ка, давай стакан-то поближе.
Он разливает чай, и мне видно, что рука его, которой он держит чайник, толстая, в запястье как-то нелепо изогнута.
– Что с рукой-то, не сломана?
– А и ноги-то обе.
– Где ж так?!
– Да где еще, кроме леса. На валке. В марте уж… Дул ветер сильный, а все равно работали: план горел. Осину пилили, восемьдесят два сантиметра поперечник… Лес настоящий был, ели по пятидесяти метров встречались, не то, что здесь. Это разве лес? – указал он в иллюминатор. – Это мутовочник, кукульник… Как дунуло – не допилил, скол дала, на пять метров тридцать сантиметров назад стрельнула. А я отбежал всего на пять. Замеряли потом… Да и не так бежал, надо под сорок пять градусов всегда… Хорошо, на свой пень упала, а то бы – все! Костями оба сапога прорвало. Сначала-то и не чувствовал, лежал в сознании. Восемьдесят километров до лесопункта на тягаче везли, потом на машине. Как тряхнет – в глазах темнеет, теряю сознанье-то… Выжил, потому что кровь хорошая. Да еще, мороз был, замерзла кровь-то, не выбежала вся. У меня ведь девяносто девять гемоглобинов, а живут и с пятидесятые двумя. «Предок», – назвал меня хирург-от. Ну и сердце, видно, хорошее. Я ведь раньше бочки по сто пятьдесят килограммов на хребте таскал. Трое не сбарывали. Сила была большая… Три года отлежал, четыре наркоза делали – все не так срасталось, ломали. Четыре ребра вынимали на кости, для ног-то… Теперь на пять с половиной сантиметров ниже стал. Сначала-то не работал, пенсию давали. Ну, грибы, клюкву собирал… Одних груздей на восемьсот рублей сдавал в лето. А теперь вот легкий труд. Матросом. А то разве бы я здесь работал… Пей еще?
– Не хочу, спасибо. К непогоде-то болят?
– Нет, болеть не болят, а вот день набегаюсь по палубе, навожусь с буксирными тросами, да в резиновых-то… Ночью лягу – и гудят. Понимаешь, как телеграфные провода гудят. Чуешь?.. А вон и наши стоят… пришли оба.
Я взглянул в иллюминатор: Виноградов и механик Лучков стояли на берегу, переговаривались с соседним катером. Мы поднялись в рубку.
– …кончать это дело надо, – слышался голос Виноградова.
– А что? – спросили с катера.
– Да то. Сегодня спустился в машинное – вся слань горит!
– Так потушил ли?..
– Да в глазах горит! – рассердился Виноградов. – Кажется!.. Доработался, значит.
Они поднялись по трапу на палубу.
– Ну что, сменщик сам поправился? – кивая на Лучкова, спрашиваю у Виноградова.
– Так, а куда денешься, он видит, что я уж как тень хожу, а работать некому… Поправишься!
Лучков виновато улыбается, и оба они, прижимая к себе какие-то кульки, консервные банки и буханки белого хлеба, спускаются по трапу в кубрик.
– Пойдем завтракать! – кричат мне снизу. – Сашкиного хлебца отведаем… Да сейчас плот брать будем.
Все плоты здесь забрали в этот же день. Я узнал это уже после, в пути, потому что ушел с Виги со вторым плотом.
Так всего за пять дней и закончился вигский сплав. «Значит, не зря Михайлов расхваливал мне своих Назаровцев и Жукова тоже…» – снова и снова вспоминал я дорогой уже далеко от Виги.
Судьба рекиРекам, как и людям, разная выпадает судьба. По иным прокатились революции, войны… И сейчас они в центре жизни, и сейчас живут полноводной жизнью. А другие – иссохли, замерли в одиночестве, и русло их давно уж перевеял горячий песок пустыни. И есть еще – баловницы судьбы, всю жизнь льются в тиши меж ольшаника и черемух, ни работы не видели их берега, ни войн, ни пожаров…
Но текут еще реки и не малые, и на виду у людей, но и в мирное время, и в годины народных бедствий поглощены они всецело работой. Будто на роду им написано: трудиться и дни и ночи, пока течет вода. Вроде как бы тыловые рабочие реки. О них не сложено легенд, песен, нет у них величальных приставок вроде «матушка» или «батюшка»… Одно простое имя. Да и оно не всегда и не всем понятное: судьба!
Унжа – из этих. Говорят, в переводе с татарского Унжа – «зло». Чем досадили угрюмые лесные мужики теперь судить трудно. Об одном можно догадываться: неуступчивы были.
Спокон веку жили на Унже лесорубы да сплавщики. Древняя профессия – и людей, и реки. Предполагают, что даже дно у нее сплошь деревянное. И, уж если говорить о званиях, то стоит назвать Унжу Великой сплавщицей. Справедливо будет! Много на этой реке положено труда, сил и жизней. Отцы, деды и прадеды сегодняшних капитанов не однажды измерили унженские берега от устья до истоков, пешком. За сотни верст шли они за плотами к Макарьеву и Кологриву. А какие это были плоты: каждый попять целен,[11]11
Делено – звено плота длиною в одно бревно.
[Закрыть] метров сорока в длину, сплоченные и учаленные не проволокой и стальными тросами, а еловыми вицами да деревянными канатами. Канаты эти надо тоже было сначала изготовить. Ранней весной или осенью рубили черемуховые вицы, затем их распаривали в бане, каждую вицу перекручивали для мягкости на вертале, затем из этих виц плели веревку длиной во весь будущий плот… А уж после на деревянных самодельных станках из трех таких веревок скручивали толстый и жесткий, как полено, канат. Все лето лежал этот свитый в бухту канат в реке или озере, чтобы не пересох от жары. И только зимой его взваливали на сани, везли на плотбище и там уж пускали в дело.
Из притоков Унжи сплавляли в нее лес кошмами[12]12
Кошма – небольшой многорядный плот зимней сплотки. Кошмами сплавлялись в основном дрова.
[Закрыть] а уж по самой Унже гнали в плотах.
До глубокой осени затягивался унженский сплав. Лед появлялся на реке, прозрачный, тонкий, самый первый, который зовут «чирок», бревна и канаты обмерзали, скрипели в излучинах и на перекатах. Плыли не в одиночку, а караваном, плотов по пять зараз, по двое на плоту.
На переднем шел опытный плотогон, хорошо знавший реку, следил и за задними, не велел растягиваться. «Держись луговой! – слышалось в ночи. – Держись горной!.. Одерживай!» Но если все-таки кто-то терпел аварию, с каждого плота выезжали на специально приготовленных для этого случая бревнах на помощь.
Нельзя было плыть в сильный ветер. Чтобы не разорвать плоты и не растерять лес по реке, выезжали с орачом[13]13
Орач – тяжелый из прочной породы дерева кол с толстым суком внизу, чтобы не съезжала петля каната (Прим. авт.).
[Закрыть] на берег, пахали этим орачом песок и луговину (останавливали плот), зачаливались, ждали затишья. Обуви не знали иной, кроме лаптей; с получением плота давали иногда крупы какой-нибудь на дорогу, но ее обычно не хватало, и поэтому опять же причаливали к берегу, шли в ближайшие деревни, чтобы там пообедать.
Долгие годы сплавляла Унжа таким способом свой лес. Плоты уходили в Волгу до Балахны, Нижнего Новгорода… И не с тех ли времен эти оставшиеся на Унже названия: Дряноватый пронос, Осиновский перекат, Чайное плесо?..
Беляны, гусяны и соймы появились уж в советское время. На соймах уходили вплоть до Астрахани. Отправившись по весне, только к сенокосу едва успевали вернуться домой: плыли тише течения. Соймы – самые большие плоты, уходившие из Унжи самосплавом. На ней и жилье было внушительное – настоящий рубленый дом с окнами и крышей конем, и мостик ходовой был, как на судне, потому что вел сойму лоцман, а остальные пятнадцать – двадцать человек команды беспрекословно ему подчинялись.
Управлялась сойма вручную, через ворот, щитами и лотами.
Сплавлялся лес в соймах до большой воды, то есть пока не построили на Волге Горьковскую ГЭС. С появлением водохранилища и в Унже вода поднялась, устье ее стало широким, как море, – открылась дорога для больших теплоходов – буксиров и сухогрузов. Тут нужда в соймах отпала, плоты стали водить только судами.
Хорошим сплавщиком, как хорошим моряком или, скажем, геологом, нельзя стать сразу? Тут нужны годы, а лучше всего – вырасти в этой среде.
Признаться, не так уж часто случается плыть сплавщику через реку на двух несвязанных бревнах, однако уметь он это должен. Бывают удальцы, стоя и на бревне переправляются.
Но одна ли тут удаль? Скорее всего, навык, с детства полученный. И по сей день дети сплавщиков, как и сами они когда-то, босиком бегают по бревнам через реку, окуней удят в шалманах, реку переплывают на спор по семь-восемь раз кряду…
И все-таки сильно изменился сплав на Унже, особенно за последние двадцать-пятнадцать лет. Если в 1913 году был на всю Унжу один катер «Главлес», который отработал на реке более полувека, то теперь только одна Унженская сплавная контора имеет около полусотни катеров, два сухогрузных теплохода, пассажирский теплоход для перевозки рабочих, множество плавучих погрузо-разгрузочных кранов… Рейд генеральной запани горит летними ночами, как большой город, – не одна тысяча людей работает здесь круглые сутки в разгар молевого сплава. И круглые сутки плывут и плывут от запани плоты.
Куда только не идет унженский лес! Почти полностью на унженском лесе работает Балахнинский бум-комбинат, идет этот лес в Москву (есть даже специальная контора – Московская сплавная контора – на Унже), идет по всей Волге от Рыбинска и до Астрахани…
А на какие нужды, частично можно судить даже по сортименту древесины: баланс, фанера, строй-лес, палубник, телеграфный столб, судолес, рудстойка, вагонная стойка, резонанс и, наконец, дрова. Каждый год уплывает с Унжи такой древесины по полтора-два миллиона кубометров.
Четыре года стоят на Унже: Макарьев, Унжа, Мантурово и Кологрив, множество современных поселков вышли из лесов к ее берегам. За последние годы стали появляться в этих городах и поселках свои деревообрабатывающие цехи, заводы и комбинаты – наконец-то на месте начавшие обрабатывать древесину.
Вся она, Унжа, – трудовая от истоков до устья, на всех четырехстах километрах своего извилистого пути.
1976 г
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































