Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
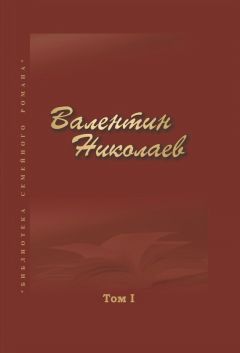
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Камень
В солнечный влажно-густой полдень шли они потихонечку мокрыми теплыми полями. Шли мимо полевых елей, недвижно-тяжелых своей просыхающей хвоей, будто уставших после весны и теперь приходящих в себя.
После утреннего дождя парило, и везде было хорошо – умыто, зелено, дышалось незаметно.
Сын, широкоплечий, долгоногий, уходил далеко вперед, садился на травянистую обочину, ждал.
А отец глядел на него издали, радовался: «Моя кость, весь остов мой и походка моя…» Все его радовало: и эти ели, всю его жизнь бывшие большими, и поля вокруг, известные каждым камнем, суглинком – ведь, посчитай, полжизни, – пока не появилось в колхозе вдоволь тракторов и машин, – полжизни проходил по ним за лошадью… А теперь все ладно: свое отработал, пенсию дают, сын вон какой…»
Шли они за лесок, в другую деревню, к сестре отца в гости на троицу.
Отец болел уж не первый год, донимало сердце, одышка… Не поправлялся, а все слабел и, пока ходили ноги, напустился побывать у сестры, посидеть там на чистом просторном крыльце с перилами, послушать вечерний гомон грачей и галок в старых березах. Да и поле, лесок хотелось заодно поглядеть, может быть, и в последний раз.
В конце поля перешли ручеек в луговой низине. Пологий и ровный был подъем от ручья к перелеску, а задохнулся, устал, не помогла даже палка.
И сел отдышаться на камень возле дороги: куда спешить. Камень большой, гладкий, с ноздреватой седловиной в середке. На дне ямок еще не просохло.
Сидел, поглаживая изнеженной в болезни рукой прохладный лоб камня, глядел кругом.
– Чего, или устал?.. – оглянулся сын, подошел, молча сел рядом на камень, стая ждать, глядя вперед на березняк. Там мягко с придыхом куковала кукушка.
– Вот, как помру, – заговорил отец, глядя на перелесок, – так этот камень на могилу и положите. Я возле его родился… Бабушка, мать-то моя, жала, говорят, вот здесь у дороги, пришла пообедать, да тут прямо у камня и родила… только кладите не в изголовье, а к ногам – у меня и будет вроде вся жизнь с собой.
Сказал и слабо усмехнулся и опять погладил тонкой рукой выпуклый верх камня.
– Да ну, что ты… – обиделся сын. – Засобирался. Еще поживешь…
– С год проживу, а больше – вряд ли… Только ты ученья-то не бросай.
– Ну.
Но года он не прожил. Умер следующей весной, как раз на Первое мая.
Сын, студент, приехал из Москвы, думал на праздник, а пошел копать могилу.
Никому из родных не пришлось давать телеграмм – приехали почти все, гостить.
И его схоронили на неприютном, еще сыром после зимы, под голыми липами кладбище. Здесь же, в селе, справили у родных и поминки, а потом разошлись.
В свою деревню шли за лошадью широким полевым большаком, разделившись надвое. Впереди молодые – студенты, шофер и учитель. А сзади – дядья, тетки, отцы…
После поминок немного захмелели, и молодые говорили совсем не о похоронах, не об умершем, а о своем. Осторожно шутили, смеялись потихоньку и оборачивались: не услышали бы старики.
Шел с ними и сын л думал тоже не об отце, а о Москве, о предстоящей дороге, о своих незаконченных чертежах…
Вечерело. Еще сквозило из-за еловых вершин низкое солнце, а где-то у перелеска, в полевой низинке, ходил по мятой стерне, ворковал взахлеб опьяневший от весны тетерев. Он будто боялся, что его прервут, а солнце вот-вот сядет, и он не успеет всласть наурчаться, набродиться по подсохшему жнивью.
В чуть задымленном зеленью березнячке опять пробовала кукушка – и никак не хотелось думать о кладбище, о смерти…
И сын, не чувствуя большого горя, ловил себя на этом, стыдился, но ничего не мог поделать. «Что ж, все умирают…» – думал про себя, как бы оправдываясь.
И он снова уехал в Москву. Но о камне не забыл, помнил всегда, только все никак не мог управиться – собраться домой.
Только через четыре года, будучи уже старшим инженером на машиностроительном заводе, он наконец вырвался, приехал, чтобы сделать то, что наказал отец.
Нехотя раскалялся пыльный нерешительный день августа, еще знойный, но как будто уже усталый. Повыгорело за лето небо, и даль горизонта над полями с утра хмурилась, словно присыпанная пеплом. Солнце спокойным светом заливало зреющие, воскового цвета поля. Во всем был покой, и, как будто ничто не изменилось с тех пор, как шли этой дорогой с отцом. Да и что могло измениться! Сыну всегда казалось, что здешняя жизнь замерла, застоялась на месте, как вода в старом озере.
Он поднялся из низинки от высохшего за лето ручья, но не увидел крутого каменного лба, всегда выглядывающего из травы.
«Неужели увезли! Кто?..»
И когда подбежал, увидел, что камень разрушился – развалился на несколько дресвяных кусков. Вызревшие колоски аржанца, пробившись в щели между обломков, качались уже выше этих кустов.
А вокруг все было по-прежнему. Все также струился по выгоревшему белоусу ветер. Все было покойно и просто, и казалось, так будет века: и такое же солнце и такой вот ласкающий полевой ветер… Всего и случилось, что развалился камень.
И, глядя на этот камень, который одолело время и обгоняла ростом трава, не мог совладать с собой, упал обессиленный на траву и заплакал. Навзрыд. Один среди полей.
И не понимал, почему, откуда такое сиротство навалилось теперь. «Как же так? Даже камень!.. Ничего мы не успеваем».
А когда от слез стало легче, и солнце высушило глаза, долго лежал на спине, глядя в пустынное небо с какой-то необъяснимой жаждой жизни и любви ко всему. И опять не понимал, откуда это новое чувство, почему теперь уже нет вокруг ни тишины, ни покоя: томительно-сладко шелестела волнистая рожь, мягко летели над лугом к ручью серенькие семена трав, звала кого-то тоскливым голоском в кустах возле березняка малиновка. И как настойчиво было старание божьей коровки забраться на самый верх былинки. Колосок под ее тяжестью все время сгибался, она падала, снова лезла, опять падала и…
А над дорогой, то оседая, то поднимаясь вновь, как хвоинка над костром, изнывал от собственной ручьистой трели легкий, пронизанный солнцем жаворонок. Он будто пытался приостановить, удержать на своих крылышках уходящее, догорающее лето.
Везде, во всем была сладко-мучительная жажда жизни.
Вдали, на краю поля, бестелесные легкие весь день облака теперь жались и тяжелели, наливаясь изнутри молчаливой сдерживаемой силой – вызревала гроза.
Он поднялся, взял из травы плоский, с ладонь, осколок, подержал его в руке, как бы взвешивая, потом задумчиво сунул в грудной карман и, не оглядываясь, пошел к деревне.
Шел решительно, широко, будто до дома было верст десять.
1973 г.
Утро
Весна в – затоне. Всюду радость, но как тревожно, заботливо на душе: вторую неделю мы не знаем отдыха, целыми днями на берегу, заняты спешным ремонтом катеров, кранов, лебедок – готовим к навигации сплавной флот. С пяти утра и до полной темноты месим сапогами песок наполовину со снегом, таскаем тросы, доски, листы железа… Домой уходим при звездах. В затоне остаются только сварщики, заступившие на ночную смену. И так не долга весенняя ночь, а у нас почти у всех мастеров бессонница. Мне говорят, что с мастерами такое бывает каждой весной. Мало того, что нас истачивает работа, мы должны еще каждый день, как на суд, являться на летучки, собрания, где нас распекает начальник затона. Грузный, белесый, с тяжелым взглядом он, кажется, совсем не знает усталости и уж вовсе не допускает мысли, что она может быть у нас. Он всегда и со всеми одинаков: строг, придирчив, каким-то чудом знает про каждый катер – что там сделано и что нет. Знает даже то, о чем не слыхал и не видел сам. Кажется, будто всю свою жизнь он ничем не интересовался кроме работы и ничего кроме нее не ведает.
Вот и опять вечер. Меж рядами катеров висит легкий дымок сварки, пахнет краской и талой землей, а небо свежо, томно, особенно там, на другой стороне затона, где уже проклюнулись сквозь жидкую голубизну неба слабенькие, какие-то еще совсем беспомощные редкие звезды. Домой бы… но в моторном цехе опять собрание. Иду.
Ругали многих, но больше всего, мне показалось, меня – самого молодого из мастеров. С этого и собрание началось. «Растратчик!» – сунул в мою сторону пальцем начальник… Это за то, что по неопытности я разрешил дополнительную сварку на корпусе старого поржавевшего катера, который предполагалось в конце навигации списать. В суете я об этом забыл, а с ремонтной ведомостью, надеясь на память, не сверился.
«Вот всегда так!.. – думал я после, один бредя притихающей улицей поселка. – Хочешь как лучше, а выходит…» И я свернул в кафе. Махнув на все рукой, выпил вина и отправился в клуб, где были сегодня танцы… Но все это мало взбодрило меня, и тогда я понял, что действительно по-настоящему устал.
Я пошел на брандвахту в свою каюту, разделся и лег, но сна не было: плыл перед глазами весь долгий скандальный день, и, как на грех, ярче всего виделись неприятности, даже давно прошедшие. Была уже полночь, а я все так и лежал с открытыми глазами, перебирая в памяти, на какой же катер сколько надо еще краски, кому выписать новые поршни, почему не завелся на «восьмерке» двигатель… Не скоро добрался я в своих думах до заключительной части собрания, когда начальник объявил нам, что завтра у мастеров выходной: было воскресенье. «Выходной?!» – я вскочил с постели и стал одеваться.
Шел второй час ночи. Конечно, к утру я все равно бы заснул, но тут как-то быстро сообразил, что спать мне не дадут: с утра начнут в каюту стучаться, весь день станут приходить с требованиями, заявками капитаны и механики, будет опять бесконечный разговор о поршнях, о сварке… Накурят полную каюту, телефон будет весь день трещать. Какой уж тут сон, какой выходной! Замысел мой крепнет: я собираюсь сбежать в лес, на охоту, о которой мечтал всю зиму, но вот уж апрель на исходе, а я нынче и до ружья не дотрагивался еще. Из узкого, как стоячий гроб, шкафа я достаю приятно-тяжелую двустволку, потеплее одеваюсь, беру спички, сигареты, нож. Пока собираюсь, мне видится то давнее, как бы уже в тумане время, когда я мальчонкой вот также в полночь, обрывая самый сладкий сон, уходил по жуткой дороге на тетеревиный ток. Но никогда не было раскаяния за прерванный сон, напротив – утро оставалось в памяти надолго, как радостный, необыкновенный праздник. А сон? Сон тоже запоминался, тоже необыкновенный, какой-то живительный сон: когда светало вокруг шалаша, солнце поднималось над вершинами, а тетерева, распалясь в своих песнях, сбивались всем током на край поляны, и уже не было надежды, что хоть один из них подлетит на выстрел, я незаметно под их урчание засыпал. Просыпался часов в десять, когда жаркое солнце уже с высока заглядывало в шалаш, а на поляне было мертвецки тихо. Только лесные жаворонки ручьисто переливались в высоком отдалении. Такие дни казались самыми длинными и интересными, будто и не было бессонной ночи: до позднего вечера бегаешь, потом бодрый, как на пружинах. Видимо, три-четыре часа лесного под тетеревиную песню сна вполне заменяли целую ночь.
Но сейчас у меня в лесу нет никакого шалаша, да и леса-то здешнего я толком но знаю… Но не все ли равно: весна везде, одинакова! Только тетерева теперь стали редки – потравились почти все химикатами на полях!
Влажная теплая полночь окутывает затон. Я иду мимо темнеющих катеров, выстроившихся в ряд, каких-то больших и неуклюжих в ночном сумраке. Мне надо миновать сонный поселок, а потом шагать и шагать по лесной дороге, пока не начнет светать. Надо уйти от катеров, от забот, тяжким грузом навалившихся на мои плечи.
В лесу сыро, глухо. Непроницаемо-тяжелые ели как будто медлительно и сосредоточенно думают. Вековые их дремучие думы!.. Сколько легенд, поверий, жутких и захватывающих дух сказок, всяких былей и небылиц родилось у людей от общения с ночным лесом! Леса были покровителями колдунов и знахарок, якобы перенявших у несметной лесной нечисти тайную всемогущую силу… Чем дальше ухожу я в лес, тем плотнее, навязчивее обступают меня эти тягучие думы. Порой я останавливаюсь, прислушиваюсь – и чудятся в непроницаемом глубоком мраке какие-то тяжкие вздохи, томленье, тоска по чему-то; кажется, что за мной кто-то неотрывно следит, пробирается лесом и, как только я останавливаюсь – тоже замирает в самой чаще, ждет. А шагну – и опять будто треснул там осторожно сучок, будто шухнула веточка… Перелом ночи – самое затишье, самая тьма. Всегда в это время так. Значит, сейчас зачнется рассвет. Но никогда и никому не уловить этого перехода, этот тайный миг рождения света.
Пройдя еще несколько шагов, я смутно различаю возле самой дороги какую-то изгородь, а за ней маленькую полянку. Устраиваюсь на жердях, кладу ружье на колени, затихаю, чтобы слиться воедино с ночью. Кто-то и вправду ворошится, шуршит легонько возле дороги, но очень осторожно: маленький кто-то. Может, мышка пробирается или птица какая поправляет крылышко во сне – мало ли в лесу жителей.
– Цыы… Цыыы, – тоненько-тоненько вдруг слышится оттуда и опять будто легкий скок по веточке. «Аа… Это же королек проснулся, махонькая птичка наших хвойных лесов». А вот и другая отозвалась ей таким же голоском… Оглядываюсь назад – а уж на поляне побледнело, различимее стали низкие сосенки посреди нее. Когда и успела растаять, уползти в лес самая густота ночи. Опять не заметил… Теперь стало как бы легче и проще во всем лесу, уже наметилась какая-то жизнь, движение… По каким же тайным законам вдруг поняли все, что начинается утро? Как? Но уже поняли, уже все смелее голоса, и вот даже что-то вроде легкого ветерка пробежало по вершинам.
Теперь и мне веселее идти, я весь в ожидании нарастающего утра.
Однако стоило мне уйти с поляны, окунуться в сплошной лес, и опять я попал в окружение давящего мрака и напряжения: то ли тучи плотнее закрыли небо, или лес начался гуще. Снова все замерло, притаилось. Потом опять поотпустило… Так повторялось несколько раз. Рассвет двигался как бы волнами. Долго тьма боролась с нарождающимся днем, но все больше и больше оставляла ему в лесу места.
А я все шел и шел и забрался, наверное, уже далеко. Сколько раз дорогу пересекали белые полосы, я подходил и видел, как в обе стороны убегает просека – значит, начинается новый квартал. На просеках лежал еще холстинами ровный нетронутый снег. Было по-апрельски тепло и влажно, а когда нашла очередная волна тьмы, робко начался дождик, и по всему лесу пополз вкрадчивый шорох, однако птицы по-прежнему распевали, будто знали, что он скоро кончится.
После дождя от корневищ и оттаявших мхов начал исходить пар, и скоро по всему низу леса повисла молочно-белая рыхлая мга. На моих глазах она поднималась все выше, и скоро весь лес с вершинами утонул в тумане.
Еще очень рано. Но вот где-то сзади забалаболил тетерев. Округлые мягкие звуки его песни будто вязнут в тумане, порой как бы уходят под землю, потом выплывают вновь, торопливо, накатисто, опережая самих себя. Замерев, я приподнимаю край шапки, чтобы точнее определить направление, а сам уже мысленно радуюсь, что туман, прикидываю по соснам, далеко ли, в тумане можно быть невидимым. Я бегу назад, на звук этой азартной песни, пока не оказываюсь на краю какой-то поляны. Туман здесь висит как бы пониже, кой-где расплывчатыми мазками угадывается кустарник. Где-то тут, среди этих кустов, и рождаются непрерывные выпуклые звуки воркования. Пока я выбираю, как мне бежать от куста к кусту, заворковал второй тетерев, и обе песни, то переплетаясь, то расходясь, плывут перекатисто, без перерыва, словно бы начинается большой ток. Однако самих птиц не видно, сколько их, где они – все в тумане…
Пригибаясь бегу от куста к кусту. Мокрый вялый луг с тихим писком оседает под каблуками. «Так, еще, еще… – говорю я себе. – Хотя бы еще две перебежки!» Наконец падаю за крайний кустик, шумно дышу в шапку, боюсь раскашляться, сердце глухо отдает в сырую землю… Медленно в нетерпении приподымаю разгоряченную голову и за седыми былинками, отягченными крупными каплями, вижу двух черных расперившихся птиц. Они, как заводные, мелкими шажками бегают по скату луговины, пригибают головы с алыми толстыми бровями к земле. Крылья их, будто полы распахнутых телогреек, волочатся по лугу, широко развернутые хвосты закинуты на спины, шеи раздуты… И все им трын-трава! Бегают, наговаривают в землю какую-то чепуху. Но стрелять далеко, а пока я приглядываюсь к ним, они отбегают еще дальше. Досадую, хочу отползти назад, чтобы подкрасться в другом месте. Но в это самое время ближний тетерев захлопал крыльями, низом полетел прямо на меня. Он сел в двух шагах от моего кустика, злобно зашипел, и было видно, как закачались чахлые былинки от его сильного дыхания. Я вжимаюсь в луговину, боюсь даже дышать. Тетерев с присвистом еще раз как бы выдохнул, подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, полетел в туман, к лесу. Другой, тут же прервав песню, заполоскал крыльями ему вдогонку… Все. Тихо.
Ошарашенный, я так и лежу на животе и не знаю, радоваться мне или ругать себя. Только теперь замечаю, что сухой у меня осталась только спина, – штаны, полы и рукава фуфайки испачканы землей старых кротовых нор, за пуговицы набились пучки прошлогоднего белоуса. Я встаю, отряхиваюсь и медленно иду в ту сторону, куда улетели токовики.
На краю поляны, смотрю, опять какая-то изгородь и дорога за изгородью вдоль опушки. Да это же то место, где я сидел ночью, курил! Вот и следы мои, окурок… Как хорошо, что я пошел в эту сторону, узнал свою поляну. Ведь в тумане мог бы легко заблудиться! Однако надо сушиться: от сырой одежды и тумана меня слегка знобит. Чтобы согреться, я бегом таскаю отволглый сушняк, ломаю лапник, чтобы не сидеть на голой земле… Костер долго дымит, будто раздумывает, наконец я ухитряюсь так подсунуть бересту, что сучья разом вспыхивают, трещат… От одного этого уж и то становится теплее!
У костра дремлется. Только теперь я чувствую с какой тяжестью наваливается на меня усталость. Как сквозь пелену различаю, далеко где-то снова заворковал тетерев. «Может, тот, что подлетал к моему кусту?..» Идти бы, но не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Только лежать и слушать…» Вот с реки пробирается лесом, медленно медово течет низкий пароходный гудок… А может, это уже и не явь, а сон? Но мне все равно: я равнодушно-спокоен, будто меня на этой земле давно уже нет и нет мне дела до реки, пароходов, каких-то там катеров. Мне тепло, мягко, меня никто не тревожит…
Туман сильно поредел, костер покрылся сизым, налетом пепла, едва дышит. Я затаптываю угли, отряхиваю с колен побелевшую сухую грязь, иду домой. Всегда легок обратный путь, особенно к дому. Теперь я как бы заново узнаю дорогу, по которой шел ночью, с интересом рассматриваю свои следы – единственные на дороге. Узнаю торчки, корневища, за которые запинался в темноте и чуть не падал. Потом появились на дороге вторые следы: кто-то еще уходил ночью из поселка… Свернул на боковую дорогу.
Полдень. Поселок залит солнцем, живет воскресной, слегка праздничной жизнью. К своей брандвахте пробираюсь задворками: охотники не любят посторонних глаз, досужих расспросов, обветшалых от времени шуточек… Смотрю, огородами крадется к себе домой и начальник затона, тоже с ружьем и тоже пустой. Меня он не видит, а может, уже видел, но будто не замечает. Я тоже смотрю себе под ноги. Ни от кого не слыхал раньше, что он охотник, и это меня удивляет: уж очень не похож он на охотника. Однако сейчас у меня нет к нему прежней обиды и неприязни, словно это не он, который дотошно, зорко следит за нами на берегу и в цехах, а совсем другой человек. Но почему же все-таки выкроил он нам выходной: может, чтобы самому сходить на охоту и не вызвать у нас нареканий? Или же наконец увидел, что мы действительно вымотались, и дал нам роздых? Или и сам не меньше нас выдохся?.. Что тут правда, а что нет? Я чувствую, что этот вопрос мне никак не обойти. И оттого, как он разрешится, зависит вся моя дальнейшая работа, жизнь…
Теперь мне надо как бы заново со стороны взглянуть на всех и на себя тоже, вдруг и служба моя, и жизнь настоящая не так уж невыносимы, как мне кажется. Может, так оно и должно быть? Ведь вот как ни мало было у меня времени, а успел же я вырваться на охоту, и сколько увидел, услышал и передумал!.. Я уже по опыту знаю, что почти до середины лета, будет чудится мне тетеревиная песня. Нет, не всегда и не по моей воле. Просто буду жить, работать, как все, но случится, остановлюсь где-нибудь под крышей переждать дождь, забудусь, вслушиваясь, как журчит, стекая с крыши вода, и вдруг почудится – заворковал где-то! Далеко-о так… И всплывет в памяти эта ночь и утро, и как я крался к ним в тумане… И покажется прекрасным все: и это трудное время ремонта, и бессонница, и ночная дорога под неспешные думы, и туман… И наверняка вздохну с сожалением: «Время-то какое интересное было!.. Жил-то как!..»
1976 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































