Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
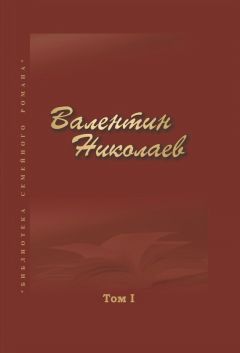
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 42 страниц)
Но вместе с облегчением меня щекотал какой-то едкий смешок, особенно когда я представил, с каким упоением бумагу эту составлял главный инженер, как с деловым видом печатала ее машинистка, потом ее подписывали, вызвали рассыльного, и тот почти три километра нес ее по гривам на мою брандвахту… И все это совершалось в то время, когда машины уже работали, а я облегченно спал и даже во сне чувствовал, что навигации приходит благополучный конец.
Теперь приказ этот лежит где-нибудь в кустах шиповника, и никто его больше не увидит. Прилетит, может, синица или снегирь и, усевшись на ветку, будет наклонять голову вправо и влево, разглядывать непонятную ей весть. А если постоят сухие погожие дни, бумага просохнет, ее изгрызут мыши и по-хозяйски растащат к себе в норы. Когда я представил все это, мне сделалось как бы немного жалко главного и стыдно самого себя: «Ведь можно бы и не стрелять, а выбросить просто так, еще лучше – со скорбью в лице, а не с усмешкой».
«Вот, наверное, и с моими бумагами обходятся так же», – подумал я. Стал вспоминать своих капитанов, шкиперов. Живо представил Булю, Боцмана, Василия в малярке, потом Балду со своим семейством… И рассмеялся: «Нет… их такой бумагой не прошибешь, не сдвинешь с привычного русла». Я смеялся, а сам мысленно одобрял их самостоятельность, верность судну, реке, делу своему, характеру. Потому что без всего этого нельзя, на реке, немыслимо. Я вспоминал других шкиперов, всякие случаи, происходившие с ними, и наконец добрался опять до Мартышкина. Нет, этот не выбросил бы. А повесил бы приказ на стенку, на гвоздик или бы в стол спрятал. И не раз перечитал бы, задумываясь. И опять мне стало как-то несвободно на душе, обидно. Было несвободно оттого, что сегодня, когда вся река, да не только река, а казалось, вся земля была объята тишиной, туманом и музыкой, он сидел в своей каюте и шил. Шил… Нет, как и всегда, Мартышкин не был ни в чем виноват. Но недоброе чувство к нему почему-то не могло от меня отстать. Я шел и все искал причину этого, пока не сказал сам себе вслух: «Портной он, а не шкипер – вот что!». И действительно, не было в нем каких-то дрожжей, того флотского шипучего хмелька, без которых давно бы прокисла наша речная жизнь и работа. А его жизнь вроде того устоявшегося озерца – всегда в одном удобном уровне, без паводков, без спадов. А работает-то на реке! Но какая же река без паводков, без разливов?.. Да и жизнь тоже?
Решив так, я уже не чувствовал за собой никакой вины, угрызений совести, снова мне стало так, как возле озера в окружении тумана и тишины.
Впереди сквозь голубую плотную завесу тускло пробивались безмолвные огни запани, и казалось, что до нее еще идти и идти.
Снова размеренный шорох послышался вверху. Летели птицы, уносили последние деньки нашей навигации. Все шло своим чередом…
Вскоре я услышал, как с запани сквозь туман доносится привычный скребущий звук – там в полную силу работали обе машины.
Я различал голос каждой. По силе звука понял, что почти уже дома: еще десять-двадцать шагов, и из голубого мрака выявится плотно-темная громада брандвахты.
Мысли и чувства мои окончательно пришли в обычный порядок, и я прибавил шагу.
Великий другНа реке зной. Над плотами медленно, дежурным полетом парят чайки, лениво обозревают рейд. От запани, сплошь залитой солнцем, доносится скребущий с нарастающим воем звук. Только что закончился обед, и снова начинают работать сплоточные машины.
Возле столовой, откуда я вышел, никого уже нет. Две зеленые брандвахты, стоящие под берегом напротив, будто изнывают от жары. Швартовые концы их устало провисли, многочисленные окна сухо блестят. На той из них, что стоит по течению ниже, на красном пожарном ящике сидит плотный в вельветовой рубахе шкипер. Это Евсеич. Сидит он среди мокрой палубы, как факир, в парах. В тапочках на босу ногу и в черных диагоналевых галифе. Отвернулся от берега и сосредоточенно смотрит на реку. Лысобритая голова его блестит под слепящим солнцем, как раскаленный отполированный булыжник. Сидит он не в тени, а на самом припеке, будто не замечает жары. Мокрая потемневшая палуба вокруг сохнет, парит: он только что скатил ее водой из-за борта и теперь сидит, блаженствует. Нет, он не просто сидит, а следит, ждет, как она просыхает, – значит, работает. Поэтому вся его фигура вместе с блаженством выражает еще и некую озабоченность.
– О-о-о!.. Великий друг! – увидев меня на сходнях, привстаёт он навстречу. – Заходи, заходи… Давай рассказывай, где был, что видел. – Он так медленно, долго жмет мою руку своей коричневой жесткой клешней, что я с нетерпением жду, когда отпустит. «Ну и чертов же ты медведь, – думаю я про себя, – тебе бы не в шкиперах сидеть, а на запани с багром ухать».
Но «ухать» Евсеичу нет нужды: он пенсионер, пенсия у него большая. И в шкиперах он не из-за денег.
– Где пропадал-то хоть? – улыбаясь, говорит он густым басом и протягивает руку за сигаретой, хотя и не курит. – Давай садись, потолкуем, обсудим…
– А чего нам с тобой обсуждать, – говорю я, – твою работу? – Давай обсудим… Как это поговорочка, помнишь: «Перекурим – тачку смажем, тачку смажем – трап поправим… Трап поправим – переку-урим – глядишь, и день прошел». Так, что ли? А у тебя, по-моему, и тачки нет?
– Нет, – подхватывает Евсеич.
– Во-во, – еще легче, палубу вот «сушишь».
Будто кувалдой бухает он меня своим кулачищем меж лопаток и откровенно смеется:
– А что?.. Сушу. Нет, скажешь?.. Вот за это я тебя и люблю-у, Ваня… Переходи ко мне жить, а? Друг ты мой великий!.. – обнимает он меня. – Любую каюту дам!
Евсеич любит всех, точнее сказать – многих, и не одному мне говорит при встрече: «О-о, великий друг!..» Он редко сидит у себя в каюте, почти всегда на палубе, друзей у него действительно великое множество, и река ему вроде родной улицы.
В то лето работа у меня была хлопотливая: катера, краны, лебедки и в первую очередь пять сплоточных машин, которые вязали на рейде пучки из бревен, должны были действовать круглые сутки безотказно. Жил я на брандвахте у Були – соседа Евсеича. Вверху, как раз над потолком у меня, размещалась диспетчерская. Если где-то останавливалась сплоточная машина или лебедка, диспетчер Полина Михайловна, не выходя? из-за стола (хоть ночь-полночь), начинала стучать каблуком в пол, и я знал, что надо куда-то ехать. Ремонтный катер, всегда стоящий под окном моей каюты, взревывал двигателем, я сбрасывал чалку, и мы устремлялись по ночной реке к месту аварии. Всякое бывало: иной раз возвращались быстро, иногда на утре, а бывало, и вовсе не возвращались – наша рабочая ночь переходила в рабочий день. Выходных не существовало, не велено было и заикаться о них до конца навигации. Конечно, потом, в зиму, переработанное время нам прибавлялось к отпускам. Но кто это время учитывал, да и можно ли его было учесть?
По утрам, если ночь была нормальной, я забирал полотенце и шел купаться с брандвахты Евсеича. С нашей – нельзя, потому что постоянно подходят и отходят катера. Не положено.
Прыгнув с высокого борта, я плыву до плота и обратно, а Евсеич, сидя на палубе, неотрывно наблюдает за мной. Особенно ему любопытно, как я забираюсь на палубу. Будто ученый дельфин, я выныриваю из воды повыше, чтобы ухватиться за висящую над водой лапу якоря. Но якорь высоко, и я не один раз срываюсь. Евсеич смеется, перегнувшись через борт, кричит азартно:
– А ну!.. Еще разок! А ну!..
Наконец забравшись, я скоро одеваюсь и легкий, голодный бегу в столовую. И только потом уж состоится наша обстоятельная беседа с Евсеичем.
– Да чего ты ходишь туда-сюда! Переселяйся ко мне и купайся хоть весь день, – говорит он почти каждое утро. (Он не пропускает ни одного моего купания).
– А работать кто?
– Сделают и без тебя архаровцы-то.
– Кто ж им будет заявки, наряды писать?
– Найдут, надо если… А так они тебя до смерти затаскают!
Конечно, легко было Евсеичу рассуждать, но он был по-своему прав. Команда моего ремонтного катера – капитан, матрос и сварщик-электрик – давно уже жаловались на свою «собачью» жизнь. Но что я мог сделать им в облегчение? Надо было держаться, терпеть, особенно два этих летних месяца, чтобы справиться со сплавным планом… Однако вскоре не только команда катера, но и сам я замучился вконец. Нужна была какая-то передышка или перемена. И я решился перейти к Евсеичу. Дело прошлое, и теперь я могу сказать откровенно: ушел я еще и потому, что мне надоело это топанье туфли над головой, надоело жить «под каблуком». Последнее время я и не жил, а постоянно ждал, прислушиваясь и поглядывая на потолок.
Я перетащил к Евсеичу свои бумаги, запасные детали, которых у меня был целый угол в каюте, и жизнь началась новая! Конечно, и работа и заботы были все те же, но многое и изменилось. Довольный Евсеич в благодарность за мою решительность привязал к крамбальному брусу, на котором висел якорь, веревку и в первое же утро, как только я вышел с полотенцем на шее, сказал мне довольный:
– Там я тебе темляк привязал вылезать-то… (Почему-то любую веревку он называл темляком).
Теперь, перебираясь ногами по якорной цепи, я легко вытягивал себя по этой веревке на борт. Евсеич был доволен.
Хотя сам я и перешел на новую брандвахту, но мой, ремонтный катер по-прежнему отстаивался возле диспетчерской. Теперь Полина Михайловна давала свою информацию не через пол-потолок, а в открытое окно криком на катер. Потом раздавалась сирена, и я знал, что надо идти.
Однажды мы вернулись перед рассветом, ложась спать, я наказал Евсеичу разбудить меня часов в девять, не позднее.
– Ложись, ложись… Подниму чуть свет. Я не просплю, не как ты. Научу родину любить…
– Слишком-то рано не надо.
– Ага, напугался!..
Утром, казалось, в самый разгар сна, он принялся бухать кулаком в мою дверь.
– Арсеньич!.. Проспал все царство небесное. Главный инженер уж два раза тебе звонил.
– Время? – испуганно выкрикнул я.
– Одиннадцатый!
Ругая себя и Евсеича, я пулей вылетаю на палубу, чтобы бежать в диспетчерскую.
– А купаться? – спрашивает Евсеич.
– Какое купанье, обед если!..
– На часы-то глянь.
Я достаю часы, которые показывают только четверть девятого. Евсеич смеется довольный:
– Что, напугался? У меня не проспишь. Облегченно вздохнув, я собираюсь все же идти на соседнюю брандвахту.
– Куда ты?
– К диспетчеру.
– Нечего тебе там делать, нервы только трепать. А то иди – хоть отлают с утра.
– Надо же узнать, как день распланирован, что где случилось.
– Я лучше их знаю. Вот садись – обсудим, – и протягивает за сигаретой руку.
– Давно разошлись? – киваю я на берег, имея и виду катера, которые ночевали возле наших брандвахт.
– А ты думал тебя ждать будут, пока выспишься. Десятка за запанью, сорок третий в Доброумово за баржой… Пятерка на отводке секций, восьмой у Фили, а «лось» в такелажке.
Мне не надо расшифровывать, я все понимаю, но с последними словами Евсеича невольно улыбаюсь и поправляю:
– Не «лось», а «осел».
– Ну «осел», все равно, – опять улыбается Евсеич, хотя, и не понимает, отчего смешно мне.
На реке дают прозвище не только людям, а и судам. Катер, названный Евсеичем «лосем», вовсе не «лось». Один Евсеич во всем затоне зовет его так. Катеров этих у нас несколько и называются они – озерные сплоточные лебедки, а кратко ОСЛ. Ясно, что сами речники вскоре «перекрестили» их в «ослов». Но Евсеичу слово это никак не давалось.
Не раз потом я ходил по утрам в диспетчерскую и проверял «данные» Евсеича (работа все-таки!) и убеждался, что знал Евсеич все точно, и даже больше диспетчера. Я дивился и не мог понять, откуда ему все известно.
И вот однажды, когда я проснулся в шесть утра, секрет мне открылся. В то утро я почему-то вышел сначала на корму и двинулся на нос брандвахты не коридором, а вдоль борта. Час был ранний, и река только еще отогревалась под солнцем. Несмотря на этот ранний час, Евсеич сидел уже на кнехте посреди скаченной палубы, а сухо выжатая швабра была приставлена к стене. На катерах по очереди открывались двери рубок, сонные капитаны, зевая, потягиваясь, выходили наверх. Оглядев сначала свой катер, потом соседний, а потом уж и весь рейд, они прыгали на брандвахту и поднимались к диспетчеру. Когда возвращались, Евсеич каждого окликал:
– Куда поедешь нынче, рыжий?
– Да здесь опять, баландаться.
– Ну как, взбучку получил, Дернов?
– А ты откуда знаешь? – откликался Дернов.
– Я все знаю. Прочесали? Так вас и надо. В другой раз запасной буксир будешь иметь.
– Ладно, не зуди.
– Ха-ха… Обиделся? Пить меньше будешь. Еще в лямошники переведут, тогда поймешь, как родину любить. Куда пошел-то?
– В Доброумово.
– Зачем?
– За Тришкиной баржой с кирпичом.
– В протоку потянешь?
– Ага.
– Там топляков-то много тебя ждет. Ха-ха… А куда дружок-то у тебя, на девятом?
– Кран на ремонт тащит.
– Ну-ну. Ясно. Вали… Привет там Степану передавай, на калоше-то. Да пусть рыбы пришлет, а то он со мной до зимы не рассчитается…
Катера взревывают и один за другим отходят. Евсеич прощально машет одному, что-то показывает на пальцах другому, грозит кулаком третьему и азартно смеется, закидывая назад лысобритую голову.
Я стою за углом надстройки, не показываюсь ему. Переложив на другое место швабру, он некоторое время смотрит на берег, а потом уходит в коридор.
«Меня будить пошел», – догадываюсь я, быстро раздеваюсь и, прыгнув за борт, плыву до плота. Там, забравшись на бревна, я лежу не шевелясь, слежу за Евсеичем. Он обходит всю брандвахту, заглядывает в котельную, в умывальник, стучит в гальюн на всякий случай, кричит:
– Давай вылезай, куда схоронился!
Не найдя меня внизу, поднимается на верхнюю палубу. И вдруг, глянув на плот, обрадованно хлопает себя по лысине так, будто жерех хвостом по воде.
– Ха-ха, – хохочет он на всю реку. – Ты что, с вечера уплыл?
– Ага-а!
– Давай скорее, в диспетчерской тебя ждут!
– Дождутся-а!
– Катера часа три как уж все разбежались.
– Бо-ольше-е… В два часа ночи отошли. Сам видел. – Догадавшись, Евсеич опять смеется и спускается вниз.
Пожалуй, один он из шкиперов знает так много того, что делается на реке. Он часто заходит в диспетчерскую к Полине Михайловне, и все, что узнает она по рации и по телефонам, навсегда остается в его лысой голове. Это вошло у него уже в привычку. И не случайно: каждую зиму его ставят караванным – старшим по зимующему в затоне каравану судов. Отсюда и потребность все знать, всеми командовать и одновременно быть со всеми в дружбе. Пожалуй, зимой-то и есть его главная «навигация». А летом он вроде как бы в отпуске – отдыхает на своей брандвахте.
Жена его Катерина каждое лето тоже при нем. Хоть зимой, хоть летом она редко ввязывается в дела мужа, разве что постыдит его за нахрапистость, за привычку соваться в любое дело. Но ругает любовно, как бы извиняясь за мужа перед людьми, потому как Евсеич забывается, что он шкипер, и по привычке продолжает командовать и летом. Выйдя от диспетчера, он, бывает, сам начинает давать разнарядку капитанам:
– Мишка, на формировку! Тройка – в Верхово, ПС – за запань. Вы ждите… А ты, скотина, марш домой! – тычет напоследок пальцем в «осла».
Однажды он на этом «осле» и попался: не видел сгоряча, что в рубке «осла» стоял главный инженер. Тот вышел из рубки и за командование вперед диспетчера и за «скотину», на которой был сам, устроил Евсеичу такую «баню» под всеобщий хохот капитанов, что тот в диспетчерской с неделю не появлялся.
– Черт! – ругала его потихоньку Катерина. – Что ты везде суешься-то. Без тебя там не разберутся.
– Га-га-га!.. – смеялся Евсеич. – А чего на них глядеть-то, пусть пошевеливаются: на себя работают, а не на кого-нибудь.
– Хе-хе, – усмехалась и она в ответ, любовно поглядывая из-под платочка. Чистенькая, аккуратная, совсем маленькая по сравнению с Евсеичем, она больше все сидела в своей каюте или прибирала другие. Лишь иногда, как мышка из норы, выглянет на палубу погреться на солнышке, посидит и опять юркнет. Это в жару, днем, а вечером, бывает, и подолгу сидит. Смотрит, слушает, смеется заодно со всеми. А начнет говорить, почти после каждой фразы обязательно усмехнется, коротенько так, сухо: «Хе-хе». Зачем бы это? А так, незачем. Выходило это у нее естественно, само собой. Ну бывает же: иной человек, прежде чем сказать что-то, улыбнется про себя, другой имеет привычку руки потереть или покашлять, а у нее – «хе-хе». Как у сороки. Та, прежде чем взлететь с вершинки дерева, обязательно дернет хвостом и – «тре-тре». А у нее: «хе-хе…».
Никогда они серьезно не ругались с Евсеичем, не делили ничего, потому что все дела по брандвахте вел он сам. Да и дел с весны было немного: почти вся брандвахта была пуста, жили на ней всего лишь пять или шесть сплавщиков. В зиму посудина была всегда хорошо отремонтирована, все на ней было, чему положено быть, так что Евсеич жил без особых забот.
Но вот в середине лета спокойная жизнь у него кончилась.
На унженский сплав приехали сезонники – разбитные орловские ребята. Все молодые, бойкие, говорили они скороговоркой и нажимали на «а», в отличие от наших мужиков, которые не спеша тянули свое волжское «о». Надо сказать, что приехали ребята из далеких мест не с новой задумкой: быстренько зашибить «увесистую деньгу» и, не задерживаясь особо, навеселе отвалить, как говорят, «казацким ходом». Дело неновое. В молодости нам частенько кажется, что есть еще на земле места, где народ поглупее, а рубль подлиннее.
Но на сплаве все оказалось не так просто. Сплавщицкий багор многие из них видели впервые, в бревна он у них не впивался, с шеста слетал… Начальство, посмотрев на «лихих» помощников, отправило всех за запань разбирать «пыжи». В тот день я тоже был за запанью: сломался водометный катер, его никак не могли завести, мне пришлось туда срочно идти, искать причину. Там и увидел я орловцев в калымной работе. Сказать правду, на новом месте они не смутились, за дело взялись горячо, и бригадир их – старый сплавной «волк» – обрадовался поначалу. Но уже через полчаса материл их, не стесняясь, на весь рейд:
– Эй ты, ржавой, чего кожулишься? Бери вместе со всеми! – кричал бригадир.
– А чаво? Вот она, дерева, гладкая – шевелится! Тягать нада!
– Ты ж на нем стоишь, дуролом! Сломать захотел?
Товарищи засмеялись, каждый поглядел себе под ноги. Смеялся и рыжий, уходя с бревна, которое хотел тащить.
– Дере-ова, – передразнил его бригадир, – Дерева в лесу, а тут бревна. Бери вместе со всеми, втыкай в это… Да не так, не задом к бревну-то, а то тебе зубы шестом выбьют. – И завел сплавщицкую: «Ра-аз – два-а… Взяли!»
И взяли все – у двоих багры сорвались, один из них с головой ушел в шалман, в воду, второй, сбив товарища, больно ушиб колено. Бригадир в сердцах плюнул и, бросив багор, стал закуривать:
– Бараны! Давай сюда багры! – рявкнул он, ни на кого не глядя.
Успокоившись, он пересадил несколько багров и снова начал учить орловцев работе. Вроде бы и нехитрое это дело, а без привычки намучишься.
Было мороки с этими постояльцами и у Евсеича. Они заселили у него верхний этаж и собирались жить до осени. Сначала все шло хорошо. В первую ночь, вернувшись с работы, они были мягкие, притихшие, спали смиренно, будто дети. Евсеич радовался, но уже через три дня застал их почти со всего этажа в одной каюте. Они о чем-то шумно толковали своим быстрым южным говорком, и даже бутылочка у них была на столе. Потом, особенно после аванса, они все поголовно втянулись в это гиблое дело, по утрам некоторые не стали ходить на работу, а слонялись по жаркой брандвахте или лежали на берегу в траве.
Как у них шли дела по работе, не знаю, но только однажды, когда я вернулся на брандвахту ночью, вся верхняя палуба гудела. Я устал, хотел спать, но едва вошел в свою каюту, как ко мне прибежал негодующий Евсеич:
– Пошли скорее, архаровцы передрались. Все – как грязь…
Мы поднялись по трапу. Часть «архаровцев», спала прямо на полу в коридоре, другие – на растерзанных койках. Некоторые еще бродили будто в тумане. Везде стекло, дым, окурки… В конце коридора в окровавленной разорванной сорочке лежал один из бойцов. Из головы его возле уха сочилась кровь.
– Этот готов, – сказал Евсеич, перешагивая, – самый бойкий, откукарекался.
Я нащупал пульс у орловца, пошел в диспетчерскую и вызвал «Скорую».
Из больницы приехали быстро, положили его на носилки, и машина ушла. Друзья его, вышедшие проводить, стали советоваться, где бы еще достать вина. Евсеич вышел из себя:
– А ну марш по каютам! Хоть один выйдет – я ума покажу! – и он покачал своим внушительным кулаком.
Теперь с раннего утра Евсеич, сидя на палубе, не столько следил за катерами и за рекой, сколько вслушивался, что делается внутри брандвахты. Два дня орловцы сидели тихо, видимо, отсыпались. С похмелья, после тяжелой изматывающей работы весь день на жаре они, конечно, уставали. Однако к концу недели втянулись, брандвахта стала помаленьку оживать. Кое-кто из постояльцев, переодевшись, начал ходить в поселок, в клуб. Оттуда возвращались ночью, осторожно: побаивались все-таки Евсеича.
Все меняется: настал, видимо, перелом и жаркой тихой погоде. Однажды в ночь поднялся сильный береговой ветер. В эту ночь рыжий орловец, которого не так давно учил сплавной бригадир работе, возвращался из поселка с гулянья. Дойдя до брандвахты, он сел на берегу и стал закуривать. В это время сильный порыв ветра пошевелил брандвахту – заскрипели сходни, до дрожи натянулись швартовые концы. Орловец такого еще не видывал, ему показалось, что брандвахту если не сейчас, то к утру оторвет и унесет бог знает куда. Петля мертвяка, которая выглянула из песка как раз рядом, возле его ног, показалась ненадежным случайным креплением. Недолго думая, как только швартовый трос обвис, орловец лихо выкинул из ослабевшей петли клепень (обрубок бревна) и замотал трос за столб, стоящий возле сходен. Дурная (а может, хмельная) голова – не подумал он того, что столб этот «несет» с берега на брандвахту кабель электропитания. Сделав свое дело, он со спокойной душой ушел на брандвахту спать.
Ночью столб из песка вырвало, а Евсеич чуть свет бушевал на всю брандвахту:
– Кто?!.
– Я, я, атец, не кричи, – оправдывался рыжий орловец. – Минутна дела, сейчас поправим. Ана плоха закапана была.
– Кто она?!.
– Бревна.
– Дубина степная!.. Столб это, а не бревно. А-на… Иди копай!
Рыть на песке было плохо. Края ямы осыпались, но орловец, откидывая со лба рыжие путаные кудри, копал без передыха (пока Евсеич стоял рядом). Но скоро Евсеич ушел к себе на брандвахту, а я побежал к диспетчеру…
Возвращаясь оттуда, я увидел такую картину.
Орловец сыто шел из столовой, на ходу закуривая, а Евсеич уже ждал его возле прямо стоящего столба.
– Ну как, сделал? – улыбался Евсеич.
– А вот ана стаит; видишь? Как свечечка!
– Глубоко закопал?
– На всю лапату, больше метра будет.
– Не упадет? Ну-ко попробуй.
– А куда ана денется! – орловец смело подошел и небрежно толкнул столб. Тот заметно покосился.
Евсеич рассмеялся:
– Архаровец! Кого ты обманываешь… Давай копай снова. До основного грунта.
– А сейчас! Раз-два и гатова… Минутна дела!
– Вот и давай, не раз-два, а как следует.
– Во работничков прислали, – кивнул он мне на орловца, вновь уходящего за лопатой. – Одна беда, а пользы никакой. С такими всё потеряешь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































