Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
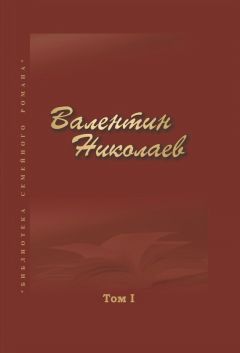
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 42 страниц)
Не прошло и двух месяцев, как орловцы засобирались домой. Евсеич обрадовался, даже заходить к ним на верхнюю палубу перестал: пусть наговорятся напоследок. Когда кто-нибудь из них спускался вниз, Евсеич осторожно спрашивал:
– Ну как, когда отвал?
– Через два дня освободим…
Но орловцы хитрили: они снялись на следующее утро и так рано и тихо, что Евсеич ничего не заподозрил. Утром, гуляя по палубе, он прислушивался, приговаривал про себя: «Ну и спят… Да ведь всю ночь колобродили».
Однако вскоре почувствовал неладное, пошел наверх: пустые каюты были распахнуты настежь, беспорядок везде царил полный. Ругаясь, Евсеич стал собирать постельное белье и тут увидел, что полотенец и наволочек почти нет. Он вскипел и, матерясь, побежал в поселок.
На берегу я окликнул его, но он даже не остановился, а продолжал ругаться самыми последними словами.
Я вернулся на брандвахту, и жена Евсеича, охая и ахая, поведала мне, что случилось:
– Да где ж теперь нам брать-то! Ведь белье-то новое. Ну и золоторотцы! Разве догонит теперь. Хе-хе…
Весь день, пока был на запани, я то и дело вспоминал об этой пропаже, а вечером, когда вернулся, увидел Евсеича на обычном месте. Он сидел на пожарном ящике и спокойно глядел на реку, будто ничего и не было.
– Догнал? – едва ступив на палубу, спросил я.
– Догна-ал… – Евсеич улыбнулся. – Всех возле магазина накрыл. А куда они дальше-то денутся? Я знал – в конторе будут или тут, больше негде.
– Сознались?
– Все чемоданы перерыл, сидора проверил – нет!
«Не брали, атец» – да и только… Потом гляжу, у одного уголочек белый из сапога торчит. «Ах ты, мать твою, – думаю, – ослы безрогие!» – Евсеич опять засмеялся. Смешно было и мне, что тут он сразу вспомнил трудное для себя слово. – Вот архаровцы-то! В сапоги обули вместо портянок. Свои-то погноили. «А ну разувайтесь, телята! А то сейчас в контору пойду – всех арестуют». Разул их тут, прямо на дороге, отмутузил как следует, пока босиком были, с тем и уехали.
– Так они тебе и дались, – возразил я, – они ведь тоже не лыком шиты.
– Ну не всех, – поправился Евсеич, – а кое-кто по шее получил как следует. Я ведь видывал таких-то.
Я посмотрел на его крутые плечи и грудь, распиравшие выгоревшую вельветовую рубаху, и не стал спорить.
– Пойдем-ко чем тебя угощу, – неожиданно встал Евсеич, – ни за что не угадаешь. – И он повел меня в каюту.
– Ну-ко смотри, – выложил он на стол несколько кусков какого-то мяса, – чего это, угадай?
Я пожал плечами.
– Осетрина! Это мне из Астрахани гостинец прислали. Во какая рыба-то должна быть! А не таки ерши как у нас. Сейчас мы с тобой попробуем. – Он извлек откуда-то бутылку и попросил Катерину нарезать хлеба.
– А, что одним этим, что ли, архаровцам-то, – будто оправдывался он перед Катериной, хотя она ничего и не говорила. – Выпьем и мы. Мы ведь не сачкуем, а работаем. План уж на износ пошел, все – перегнули. А таких-то сачков я видывал. Помню, у нас на фронте три дружка были…
Тут Евсеич взглянул на меня и сделал пояснение:
– Я ведь тоже механик, по танкам только. У нас подразделение особого назначения было, нас только на прорыв бросали. Так вот эти трое все время сачковали. Ребята от них отказываться стали. Не берут ни на одну машину к себе, гонят – не надо и все. А куда их? Обижаться стали, к начальству пошли. «Ладно, – говорит майор, – придумаю». И посадил их всех на один танк, свой экипаж сделал. «Вот, воюйте, – говорит, – тут вам никто не помешает». А они все похожие, как братья: черненькие, кудрявенькие – южане, откуда-то с тех теплых мест. Ну хорошо у них поначалу дело пошло, повеселели они, никто их не трогает, и они ни к кому. Потом опять, особенно перед наступлением: что-нибудь да не так им, и вроде как бы виноватых ищут. А вечером, бывает, песню запоют по-своему, протяжно так, будто молитву. В танке, как в церкви, хоть свечи зажигай… И все вроде бы жалуются. А в наступление нам приказа нет и нет. Сделаем марш-бросок и стоим в маскировке, ждем, значит, вот-вот будет. Один раз замаскировались так, смотрим, нет одной машины. Чья? Этих дружков. Потеряли, где их теперь искать-то? Командир мне: «Иди, Локтев, ищи, может, сломались где». Светать уж начало. Спустился я в ложок и пошел – с оружием, конечно. Версты три отошел и наткнулся. Стоит он, танк-то, в низинке под деревцем, а рядом никого. Взял палку, стучу по крышке люка – тихо. Что, думаю, такое. Пошел их искать. В кустики вошел, а они там лежат на траве, спят.
– Встать! А ну в тыщу мать сейчас дезертиров прошью! – Оружие поднял – они и заревели. Совсем ребятишки. Спрашиваю, что, чего, как. – Заглох, – говорят, – не знаем отчего, машина неисправная.
Ладно, иду пробовать – точно не заводится. Начинаю копаться. Туда, сюда – ничего не пойму. Все нормально, а не берет. Потом гляжу – клеммы у аккумуляторов болтаются; а они их отсоединили, а сами в кусты. Ах вы, думаю, архаровцы, да кого ж вы обманываете-то. Подсоединил и снова к рычагам. Как нажал – и все, схватилось. Они к танку бегут, машут… Как, думаю, не так: вам родина не дорога, а я возить вас буду! Дал газу и повалил.
– А как же они? – спрашиваю я.
– А никак. Поискали как следует, так нашли.
– Майор благодарность объявил?
– Ага, под арест, на губу меня за самоуправство…
– Сколько же суток дали? – спросил, я.
– Га-га-га, – засмеялся Евсеич. – Да нисколько! К вечеру приказ в наступление пришел. Так и освободили, как без механика-то?
– Ну, а тех как? Судили, в штрафной батальон?
– Нет… – Евсеич задумался. – Двоих в том же бою убило. Третий – тот в госпиталь попал, увезли без сознания, не знаю, выжил ли. Трусы были, сачки, как вот эти, архаровцы-то. Ясно, чего тут говорить. Ну, как рыба? Понял? У нас такой нет. Евсеич засмеялся и встал, – пойдем-ко на палубу, покурим, обсудим…
Мы вышли. На реке было сумеречно, просторно и тихо. На запани всего две машины глухо скреблись, работали. Катера почти все отдыхали, стояли покорно возле соседней брандвахты, и никого на них не было видно, все спали. Только Строповна неслышным шагом похаживала по обносу, оглядывая свое хозяйство. Непривычно тихо было и на нашей брандвахте, так и чудилось: вот-вот захлопают вверху двери, затопает множество ног. Но все было спокойно. Лишь в лугах, где уже слабо обозначился над низинами легкий туманец, зазывно покрякивала утка, манила непослушных, наверное, уже ставших на крыло детей. Покоем и древностью тянуло от этих лугов. Вечностью земной жизни.
Уходит, уходит лето… Вода в реке стала светлее, дали просторнее, отзывчивее, холоднее воздух. Все больше топляков выглядывает из реки черными намокшими лбами, всё меньше плотов уплывает от запани. И все чаще просятся иные думы. Вспоминаешь о грибах, о безлюдных клюквенных болотах, о тихо плывущей меж стволов паутине.
Скоро, как отлетные птицы, начнут табуниться в затоне суда, иные из них встанут на отстой, и свободные капитаны разбредутся по лесным дорогам в поисках грибов, поздних ягод, дичи… Потом зашумит лесной листопад, ярко выбрызнут на покатых полях озими, и гулко, взахлеб зарыдают по перелескам, гончие. Душу разрывает их радостный ликующий стон, манит безрассудно в холодную осеннюю даль, зовет… Скорее же, осень!
Осень – для всех перемена. В октябре заканчивается сплав, и времени до зимы останется как раз столько, чтобы разобрать запань, отвести ее по частям в укромные места, отправить в затон лебедки, сплоточные машины, прибрать троса, якоря, цепи… Пусто и одиноко становится на реке. Одни вороны бродят по промытым дождями пескам. Редеют прибрежные тальники. В открывшихся лугах весь день сидят на стожарах совы, а настывающей рекой бесприютно кочуют последние чайки. Какая уж тут работа! Отдает концы, буксируется в затон и Евсеич.
Там, переправив Катерину к своему береговому очагу, заступает он на новую должность – караванного.
Нет, надо было видеть его в этой должности, чтобы понять всю незаурядность его натуры. В прочных яловых сапогах, непродуваемой куртке и шапке с кожаным верхом весь день стоит он на бугре возле караванки и пристально вглядывается в ледовую речную даль. Всякий, капитан, заходя в затон, первым делом ищет глазами фигуру Евсеича. Это он должен толково расставить на зиму все суда с учетом ремонта, да заодно и прикинуть, в каком порядке будут выходить они из затона весной, чтобы не мешали друг другу. Ошибаться Евсеичу нельзя. Вот почему он так пристально следит за рекой и летом. Кто проломился, кому поставили летом новый дизель, кто тонул и кто горел кто больше всех винтов потерял – все он помнит и все учитывает.
Сейчас он бог – куда ткнет пальцем, туда и ставь свою посудину, не спорь. Одних расстанавливает у этого берега, других гонит на ту сторону затона, третьих – в самую глубину, четвертых – на берег у самой воды, пятых подальше, шестых еще дальше…
– Вон «семерку» ведут, кран. Сейчас я его: воткну к «девятке». Пусть опять ругаются с Охлопковым. Ха-ха-ха… Я их помирю! Всю зиму по одному трапу будут ходить… Трифон, Тришка! Корыто свое вычистил?
– А всю, – откликается Тришка-рви, – под метелочку. Пошли, примай.
– Успеешь. Ты мне зубы не заговаривай. Чисти как следует. До нового года просдаешь.
– Демьян Евсеич, что ты меня загнал на самый край? Зимой по сугробам не пролезешь.
– Пролезешь, захочешь дак. Может, тебя к самому цеху подтащить?
– Евсеич, круги куда? – слышится с другого катера.
– Домой неси, раз боишься, что украдут, – опять смеется Евсеич. – Али в первый раз, не знаешь? В малярку, куда ж еще… – И повернувшись в другую сторону, к причальной стенке, кричит кому-то:
– А ты куда лезешь? У, тебя в корме-то какой геморрой – вытаскиваться надо под сварку. Вали туда! – машет рукой в глубь затона.
Ревут на берегу трактора, звонит в караванке телефон, кричат капитаны… – всюду нужен Евсеич. Все его знают, и он всех. У кого какой ремонт – капитальный или средний, каких работ, больше – сварочных или плотницких, в каком месяце… Все он помнит, поэтому все и слушают его. Даже сам начальник затона и тот в это время не мешает ему: караванный есть караванный. Как-то само собой утвердилось, что по неписаному закону занял Евсеич в затоне роль как бы второго начальника.
* * *
И вот встали суда на зимовку – замерли на рейде без якорей и швартовых. Прочно стоят, надежно, соединила, всех ледовая твердь – иди к соседу пешком, вези, что надо с катера в мастерские на санках… Начинается в затоне новая жизнь – береговая, оседлая. Холодно, неуютно, зато людно, весело. Чего только не услышишь в это время в караванке, всякие новости, с Унжи и с Волги, домашние и речные. Греется в караванке и Евсеич, слушает бесконечную «травлю» капитанов, гогочет громче всех, а сам одним глазом постоянно в окно поглядывает на берег, не идет ли кто к нему с какого-нибудь судна. Он опять при работе – член комиссии по приему судов на зимний отстой. Рассказы рассказами, но ни один шкипер, ни один капитан Евсеича не минует. Рано или поздно, а придет за ним. И тогда он вместе с линейным механиком и техноруком важно шествует по мерзлой дороге к готовому судну. Долго ходит вокруг него, пошучивает, потом в трюм лезет, в машинное отделение, под слани заглядывает… И если хоть в каком-то уголке увидит грязь или воду – минуты на судне не останется. Уговаривай его кто хочешь и как хочешь, обещай что угодно – он акта не подпишет. Уйдет той же дорогой в караванку.
А на чистой посудине он садится во главу стола, бухает капитана кулачищем в спину – и «га-га-га!..» – раздается по всему настывшему судну. «Что, отработал? Ну давай, за родину!..» Дня три-четыре кочует он по судам, «морозит рули», пока не примет весь караван. Мало того, что все высмотрит на судне сам, он еще подробно выспросит капитана о прошедшей навигации, узнает, когда капитан пойдет в отпуск, когда вернется, будет ли плавать на будущую навигацию… Он ничего не записывает, все у него держится в голове, навигация за навигацией.
Приняв караван, Евсеич уходит в отпуск.
Зима. Будто сжаты морозами, и без того короткие дни. Махровыми веревками провисают на катерах антенны, замерзает солярка, лопается с гулким вздохом в затоне лед. Проглянет над самыми вершинами застывших лесов солнце, порадует, а потом взбесится метель. Да такая, что не видно соседнего катера… И все же, хотя и медленно, а движется ремонт намеченным курсом графиков и планов. Но как ни планируй, как ни торопись, а весна речника всегда стремится застать врасплох. Дело испытанное, не однажды проверенное. Всякую зиму все повторяется. И выход всегда один – самим «обгонять» время. После новогодних праздников нарастает в затоне первая волна авралов. Пускаются в ход запасные испытанные резервы. Одним из таких резервов считается у начальника Евсеич.
Вызывают Евсеича в контору. Не спеша и не рано приходит он туда и начинает прямо от дверей:
– Что, запарились? Я в отпуске, не пойду, а сам ждет не дождется скорее бы в затон попасть. А начальники знают об этом и будто не слышат его ответа, сразу же начинают вводить Евсеича в курс зимних дел. Он слушает, гладит лысую голову, издалека, нехотя спрашивает: кто еще не вернулся из отпуска, кто рассчитался, кто перешел на другое судно… Выспросив, посидит у начальника, посмеется и отправляется в первое путешествие по затону. Уходит торной дорогой к самой реке и оттуда где тропинкой, где целиком кочует от судна к судну, шутит, здоровается и ко всему приглядывается. Заканчивает свой обход в самой глуби затона, где стоят водометные катера «псы». Оттуда направляется в малярку, к Василию. Сидит у печки, греется, смотрит, С какого судна Василий круги красит, с Лямкой шутит. Спросит что-нибудь изредка и опять молча глядит на огонь. Молчит и Василий, занимаясь своим делом.
Лишь к вечеру, что-то мучительно и долго обдумав, Евсеич вставал и решительно направлялся к каравану. Но теперь уж не молча, а с такой забористой и громогласной речью, что слышно было ее даже в трюмах. Была у Евсеича одна странность: когда заваливалось общее дело, вставал под угрозу план, он начинал страшно материться. Поработав на Волге, Ангаре да и на Унже тоже и наслушавшись в навигации довольно всякого, я считал себя человеком «обстрелянным» по этой части, но, услышав Евсеича, я просто онемел. Он превзошел всех: непостижимо увязывал в один крепкий узел бимсы и крамбалы, печенки и селезенки, богословие и суд, закон, гробы, деньги, антабус, промысел, мышеловку… Произносил все это большей частью во множественном числе, ни к кому конкретно не обращаясь, но следовало понимать, что адресовал тому судну, к которому направлялся, и клеймил того капитана или шкипера, чей порядок в работе был хуже всех. А так как он обходил по очереди все суда, то и виноваты были вроде бы все. Караван большой, и «речь» Евсеичу проходилось держать довольно долгую. Но словесная энергия его не иссякала. Напротив, чем дальше он уходил от малярки, тем распалялся все больше, будто глухарь на току. Ему вроде бы даже не хватало пробега, потому как лишь перед последними судами гнев его достигал предельной силы.
Совершив этот свой «рейс», Евсеич скрывался в караванке и дня два на суда не заглядывал, полагаясь бог весть на что. А выдержав время, шел по затону уже с дружеской и чуть виноватой улыбкой, приговаривая:
– Ну как, архаровцы, замучились? Давай, давай, весной сдавать мне будешь. Вон солнышко уж на лето повернуло. Скоро зажурчит… – и уходил в мастерские. Проглядывал там ремонтные ведомости, разговаривал с мастерами, нормировщиками. Возвращался в караванку и опять о чем-то задумывался. А о чем, если не о работе: с ремонтом, как и всегда, опаздывали. А Евсеич этого не выносил.
Проходило какое-то время, и душевная пружина внутри Евсеича опять сжималась до предела: он все больше походил на паровой котел под большим давлением, у которого прикипел спускной клапан. Держался Евсеич, терпел. И чем дольше терпел, тем опаснее становился. Рано-поздно терпение его лопалось, и вновь летел он по каравану – шуба нараспашку, и вновь утроенный шквал его ругательств катился по головам правых и виноватых.
Сколько раз обсуждали его на собраниях и планерках, совестили, внушали. Вызывали и к высокому начальству, говорили и по-хорошему и по-плохому. Евсеич только угрюмо басил в пол:
– Сымайте тогда, не умею я по-другому. Образования у меня мало, ставьте с дипломом.
И ставили.
И хирело дело. Опять восстанавливали Евсеича.
И опять от самой караванки:
– В тыщу мать!.. Лодыри царя небесного!.. Я вас научу… – И пошло.
Затонский мастер по ремонту деревянных судов – человек интеллигентный, кроткий, не умеющий прикрикнуть на ремонтников в деле, – радовался больше всех. Сидя за своим столом, он посылал Евсеича в «узкое место» и, когда тот уходил, смеялся довольный:
– Дипломат на переговоры вышел – сейчас дело будет! Представитель компании Ллойда.
Понимал ли что Евсеич в судоремонте? О да. И прежде всего – в судах деревянных. Он знал название любой балки и стойки в наборе корпуса. Знал, как выпиливать, заменять тот или иной элемент, как крепить, конопатить, смолить, красить… Разбирался и в машинной части судов. Однажды как-то рассказал мне, что в молодости, еще до войны, окончил он училище в Горьком по «нижней» команде, плавал на больших волжских пароходах масленщиком, машинистом… Так что дело для него было неновое. Разумеется, инженерных тонкостей он не знал и многого не понимал. Но виду не показывал. Имея хорошую память и цепкий практический ум, Евсеич до мелочей запоминал ту или иную недоделку на судне и, пригрозив ремонтникам, шел к своему мастеру. Тот проверял данные Евсеича по теории; выписывал конечный результат. И если обманули Евсеича на катере, он, вернувшись, разговаривал уже иначе – с инженерными терминами и даже с формулами. У судомехаников глаза расширялись, а Евсеич доставал из-за пазухи свою «ученую записку», тыкал в нее толстым пальцем, внушал:
– Вот, чтоб все по теории было! Ясно? Двадцатый век – понимать надо. Приду, проверю… – и удалялся с достоинством.
Наступала весна, и вся власть в затоне опять переходила в руки Евсеича. Опять он в составе приемной комиссии, руководит спуском катеров на воду… И точно так же, как осенью, весь день – возле караванки, на ветру, щурится от яркого солнца и громогласно распоряжается. И опять мельтешат вокруг него, мастера, капитаны, шкипера, трактористы…
Таким он и остался в моей памяти. Замер в озабоченности на своем возвышении и будто не затон обозревает; а целое государство, за которое лишь один он в ответе.
Прошло два года, как я рассчитался из сплавной: уехал в свой институт доучиваться на дневном отделении. Все время меня тянуло вернуться, хоть глазом глянуть, как они там живут без меня в затоне.
Выехал я осенью. Была та удивительная пора, когда пассажирский теплоход появляется из-за поворота как привидение. Накануне, в одну ночь, выпал снег; берега, деревни, острова – все было белым-бело, звуки гасли, зверье и птицы притаились, выжидая: настоящая зима пришла или нет. Река лежала черная, тяжелая в этих помолодевших берегах. Теплоход, скользя по воде, сам казался снежным островом среди мрачного темного пространства. Он старательно греб и греб мимо притихших деревень один на всю реку.
Ни плотов, ни барж я уже не видел: грузовой флот, отработав свое, разбежался по затонам. Уведены были и пристанские дебаркадеры.
Безмолвные берега тянулись пустынны, однообразны. Тоска одна была на реке. А теплоход как на грех был полон народу: стоял канун Октябрьских праздников, люди возвращались из города с покупками в воскресном, предпраздничном и предзимнем оживлении. Кое-кто уже основательно «гулял», несколько мужиков, пошатываясь, слонялись по палубе, «крупно» разговаривали в пролете. На вахте стоял сам капитан, спокойный, выдержанный. А выдержку в это время надо иметь хорошую. Почти под каждой деревней следовало приставать. Капитан осторожно подводил теплоход к берегу, судно мягко тыкалось носом в крутояр, и два молодых ловких матроса начинали крутить ручную лебедку – подавали на берег трап. И начиналась высадка-посадка.
Наверное, никуда так безрассудно не торопятся люди, как на праздники. Народ рвался в обе стороны, на теплоход и на берег – кому куда надо. Жали друг друга так, что трещали кости. Каждый стремился поскорее на трап, а по трапу надо было сходить степенно, по одному. Матросов, проводивших посадку, не брала управа. Вырвавшись из толпы на трап, пассажир-счастливчик сначала как бы отряхивался, расправлял помятые плечи и уж потом начинал сосредоточенно двигаться по трапу под всеобщим наблюдением…
И вот вторым или третьим из таких удальцов оказался белесый бойконький мужичонка. Его, будто пробку, вышибло из толпы к трапу, и он, враз остепенившись, озорновато-победно обвел всех взглядом. Маленькое плутоватое лицо его было веснушчато до ряби в глазах, и весь вид его был вызывающе победный. Я приметил его еще дорогой, когда он пытался «выступить» в пролете на палубе, но на него мало обращали внимания, да и терялся он как-то там среди других мужиков. Но здесь, под берегом родной деревни, на виду сельчан, он решил, видимо, показать, каков он есть. Он, должно быть, почувствовал, что веселому его путешествию приходит конец, а может, к тому же в судовом буфете тайно от жены «прицепил» еще сто граммов, и поэтому минута для него наступала звездная. Матросы, с обеих сторон сдерживая народ, ждали, когда он сойдет. Но мужичонка не спешил, пьяно, однако уверенно дойдя до середины трапа, он вдруг развернулся и стал отыскивать кого-то на борту взглядом. Все замерли, боясь, как бы он не упал, и ожидая чего-то важного. Выискав глазами кого надо, мужичонка еще раз приободрился и властно потребовал:
– Эй ты, рыло теркой! Ты там на мою бабу не жми! – и указал подбородком на мужика с лицом, густо тронутым оспой. Все невольно посмотрели туда, Здоровый мужик – на голову выше всех – спокойно, будто скала, сдерживал напор толпы перед маленькой женщиной в сером платочке и с мешком через плечо. В мешке у нее, чуя беспокойство толпы, нервно возился и взвизгивал поросенок, а может, и два. Видимо, супружеская чета возвращалась с базара.
– Сам-то красив ли? – обиделся оспенный богатырь. – Всю харю вон будто мухи засидели.
– А я говорю, не жми! Терошной!.. – не унимался «заботливый» хозяин, балансируя на трапе.
– Не бойся, парень, всем миром давим, – подхватил кто-то из толпы.
Народ засмеялся, на время перестав жать, а балагур, чувствуя себя победителем, великодушно даже поддержал своего обидчика.
– А это я через решето загорал, – и под новый изрыв хохота молодецки сбежал на берег.
Эта знакомая житейская картина вернула меня к былым дням, я смеялся до слез, не мог остановиться, пока не вспомнил старую примету, не одернул себя: «Не перед добром ведь…»
Новые пассажиры быстро растекались по теплоходу, всяк ища себе удобное место. Посадка шла споро и ладно: весь народ как-то повеселел от неожиданной сцены, и я уже не ругал себя, что еду так поздно. «Оно еще лучше так-то: сейчас все уже сбежались в затон, всех увижу. Сядем у печки, закурим, и пойдут рассказы – как оно все на реке было, какие чудеса, где…»
Убрали трап, теплоход отвалил и снова невозмутимо важно двинулся меж бело-холодных берегов. Было ветрено, неуютно, но я не уходил из пролета, все глядел на знакомые места. В рубке поставили пластинку, алюминиевый усилитель наверху затрещал, и вот полетело на всю реку с бесшабашной удалью и грустью:
Развесе-олые-е цыга-ане
По Молда-а-ви-и гуля-а-ли
И в одном селе бога-а-том…
Вдруг кто-то осторожно тронул меня за локоть.
Я обернулся и увидел сухонькую пожилую женщину. Лицо ее было знакомо, я уже догадался, что она с Унжи и мы давно знаем друг друга.
– Ты ли, Вань? – спросила она.
– Я… – уже улыбался я, радуясь, что вот и встретил кого-то из затонских, а память торопливо искала, искала и, как обычно бывает в таких случаях, никак не находила того места, с которого бы все разом прояснилось.
– Как живешь-то? – спросила она, участливо глядя на меня снизу.
– Да хорошо, а…
– А я, – хе-хе.
«Катерина! – осенило меня. – Жена Евсеича…» Но тут она опять тронула меня легонько за локоть.
– А дурак-то у меня чего удумал…
– Чего? – в предчувствии недоброго скорее спросил я.
– Да умер… Х-хе…
…И в одном селе бога-а-а-том
Ворона коня укра-а-а-ли…
С какой-то обреченностью и затаенной тоской летело страдание певицы над черной холодной водой, над сумеречным безжизненно белым пространством. Мы стояли не шевелясь, а теплоход с этим своим отчаянным весельем плыл и плыл куда-то на север, в зиму, где, казалось, ничего нет, кроме ветра, холода, снега…
– Как же!.. Не может быть. А я еду… – твердил я глупо, по-сиротски топчась в пролете.
Равнодушно обогнув белый буй, теплоход уверенно взял на дальние створы, и в пролете стало еще ветренее.
– Холодно, пойдем в нижний класс, – теперь уже я взял ее под локоть.
Мы устроились возле иллюминатора, посидели молча.
– Надолго ли? – наконец спросила она.
– Да побуду… Отчего он? Болел, что ли?
– Ой, да полно! Никогда не хварывал. Прожил бы незнамо сколь, если бы не эко-то чудо! Как ему черту говорила – не ходи! Так разве его перевернешь.
– Куда не «ходи»?
– Да в баню… У Боцмана день рождения был. Выпили да надумали в баню дураки. Ну пришел хорошей, чистой. Да и Боцмана-то с собой привел – опять давай пить. Как говорила, ложись, отдыхай. А он все своё Боцману-то: «Ну, за родину!.. В последний раз, и спать». Тут и поднялся переполох-то. Ой, весь поселок взбулгачили!..
– Из-за чего?
– Да парнишонко-то у Тимы пропал, хе-хе… Чай, помнишь, у его их как саранчи по всей брандвахте. Гуляли, гуляли вечером-то за поселком – там в сосняке со всего поселка они играют. Смеркаться стало, все домой пошли, а его оставили. А он глупой, знать, годов пять, тоже домой бы, да, видно, в другую сторону пошел. А наст уж был, маленьких-то подымало хорошо. Он по насту-то и упалил… Идет да идет от сосенки к сосенке, думает, домой. Хватились – темно уж. Пошли искать. Весь поселок подняли. А как искать-то: собаки какие-то дурные, в лес не идут, в темь-то, боятся, а мужики проваливаются, не держит их… А он, может, затаился где – боится, не откликается. Так и вернулись. А мой не отступается спьяну-то: «Найду, архаровцы!», – и все. Так нараспашку и укатил. Всю ночь и лазил по такому-то снегу. А мороз-то! Ведь в марте еще… Да и сам-то, черт, заблудился, спьяну-то. Пошли его искать. Стреляли, до утра канителились, хе-хе… А где, рази услышит. – укатил за двенадцать верст, у Косых, оврагов на кордон выбрел. Там его и разгасило, жар начался. Лежать бы, а он, черт, домой поперся по такому-то морозу. А ведь не молодой, хе-хе…
– Не нашел?
– Да найти-то нашел, парнишку-то в шубе так на груди и нес, тот валеночек потерял где-то. Ой, лучше не вспоминать. – Она достала платочек, ткнулась в него. – Что и наделал, всю грудь застудил.
– Врача бы…
– Да был… Фершала вызывали – ничего не кумекает: «Дыши, не дыши…» – балдобой какой-то. А како дышанье, хрипит если – на улице слышно. Водки все просил, греть, говорит, надо нутро-то. Не помогло. Шутя ушел, все не верил. И похворал-то чуток, хе-хе…
«Нет, это невозможно, как же так?..» – все думал я. Никак не верилось, что нет больше Евсеича. Мало было как-то обычной человеческой смерти, чтобы пропал он, весь Евсеич. Да и смерть какая-то непутевая. Уж слишком просто, незатейливо обманула она его. Ведь был он так опытен, крепок, так закален во всех житейских невзгодах, что вроде бы и смерть должна была смять его какая-то особенная, а не такая глупая…
* * *
Я вспомнил, как мы расставались. Стояла ясная притихшая осень. Легкую паутину несло с лугов. Она цеплялась за красноватые кусты шиповника, за одинокие шоколадные стебли конского щавеля, льняной волотью наплывала и висла на выгоревшие перила брандвахты. Мы выпили на прощание в моей каюте, посидели молча.
– Ружье забери, – сказал я Евсеичу, раскрыв шкаф. – Приеду – пострелять дашь.
Он подержал ружье в руках, подумал, будто что вспоминая, и с улыбкой положил на кровать.
– Конечно, дам, – сказал радостно. – Приезжай, как твое будет. Ну давай… – я ждал, что он добавит «за родину», но он не сказал, может, подумал только.
Налили по последней и пошли. Мой, (теперь уж не мой!) ремонтный катер ожидал меня под окном, терся скулой о брандвахту, скрипел тоскливо размочаленным от частой швартовки брусом.
Евсеич поставил на палубу чемодан, обнял меня:
– Ну… Великий друг! – не договорил, махнул рукой и, путаясь в чалке, поспешно спрыгнул на брандвахту.
Катер забурлил, отпятился, и Евсеич, выбрав минуту, когда капитан переключал задний ход на передний, прокричал мне:
– Я тебе писать буду, Ваня! – и столько искренней готовности было в его душевном порыве, что я с благодарностью поверил ему. Хотя куда он мог писать: не только он, а и сам я не знал еще толком своего будущего адреса.
Катер летел мимо пожелтевших берегов, резал высветлившимся форштевнем чистую холодную воду. А Евсеич все не уходил, все махал мне, стоя в одиночестве под скупым солнцем осени…
Где теперь его неуемная душа? Может, летает сиротой над затоном, цепляется осенями, как та паутина, за перила родной брандвахты? Или уж и вправду там, как говаривали старики, – в этой холодной непостижимой вышине и теперь будет вечно глядеть на нас заботливой безмолвной звездой, постоянно напоминая о родине…
– Надолго ли? – прервала мои думы Катерина. – К нам-то, чай, вернешься. Все спрашивают, жалеют тебя. Сначала-то боялись, чужой да молчалив больно. А потом привыкли…
– Константин жив?
– Жив, жив… Оба. На пенсии, на берегу. Брандвахту новую привели, а их не ставят, устарели.
– А Балда?
– Ой, что ты, женился! Такую девку углядел, сыч. Как картина! С Волги привел на барже-то, хе-хе.
– Детей-то у него не прибавилось?
– Да полон дом! И свои-то, да и у ее-то двое было! Да ему теперь все равно, не считать. Опять капитанит на катере. А она-то дома, с караваном-то. Хороша больно.
– И Строповна работает?
– Уехала, уехала… В деревню. Пенсию прибавили, и уехала. Теперь и там хорошо. Куда-ей, сто лет уж, и Катерина опять, сухонько хехекнула. – Все живут хорошо, работают… Заходи.
– А Паня как, на службе?
– Ой, чин получил! Еще одну звезду… А в голове все то же, хе-хе. Да! Чуть не забыла, памяти-то не стало совсем, ружье забери. Он велел. Его ружье-то, говорил все: «Если Ваня вернется – отдай».
– Как его? Яжу Константина купил…
– А мало ли что. Это потом… А сначала-то у нас было. Феня выпросил. Чай, помнишь, хвастун был, да утерял, видно, впопыхах-то. А Константин ходил по грибы да и услеповал прямо на гриве. А куда ему два-то! Вот тебе и продал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































