Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
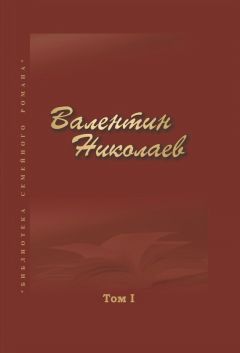
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
Я проснулся в полночь от холода – дуло снизу и сверху. Ноги в мокрых резиновых сапогах без портянок (я их выстирал) зябли. Весь домик содрогался под порывами ветра, ветер свистел в крыше и в проводах, было слышно, как ухает в лимане прибой. Я вспомнил о наших шлюпках, вскочил и побежал к ним. Обе лодки были выкинуты на берег, их заметало песком, водорослями. Но обе они были привязаны прочно. И я снова скорее побежал под крышу. Лег к чьей-то спине, обернул ноги газетой, сунул их в голенища сапог и, съежившись в своей фуфайке, уснул. Пусть там свистит ветер, вздрагивает крыша, все равно на берегу снятся хорошие сны… Был я в каком-то большом солнечном городе, и по теплому асфальту ходили легкие, изящные женщины.
Мало что изменилось в нашей жизни и после шторма. Но наконец над своей крышей на высоком шесте, будто флаг на мачте, подняли и мы оранжевые рыбацкие штаны. Это был знак Джибову: «К сдаче рыбы готовы!» Сдавать поехал Егорушка.
Работать снова стало тяжело: Егорушка пропадал уже третьи сутки на плавзаводе, старик кок заболел, и младшего нашего, Женьку, мы все же приперли поближе к кастрюлям. Выходило, что троих человек недоставало. Ждали Егорушку, Гнездова, чтобы уладить нашу расстроившуюся жизнь.
За последние дни Девяткин осунулся, нервничал… По плану мы должны были сдать несколько тысяч центнеров красной рыбы, а у нас не было еще и одной тысячи.
Когда в очередной раз мы подняли штаны над жилонкой и Джибов тут же пришел, Девяткин крикнул мне:
– Езжай на сдачу! Узнай, чего там Егор застрял, пусть едет скорее… А ты останешься!..
Закрепив концы, я прыгнул с живорыбницы на катер, и мы двинулись куда-то в море.
Не скоро показалась вдали скорлупа плавзавода. Мы подошли к нему, и борт его стал возвышаться у нас над головами метров на десять. Внутри этой громадины что-то шумело, стукало, посвистывал пар, иногда слышались выкрики – там работали цехи, работало много людей, другие спали, смотрели кино, читали книги, газеты… Там шла размеренная, заранее размеченная расписаниями, графиками жизнь. Среди полутысячи человек «Константина Суханова» был где-то и наш Егорушка.
Изловчившись, прыгнул я с борта катера на ступеньку штормтрапа и полез по этой веревочной лестнице вверх. Иногда сбоку от ног открывался иллюминатор и высовывалась девичья голова.
– Рыбак, не привез крабов? – спрашивали любопытные. – Чего мало ловите? Стоим без работы из-за вас…
Я ходил по палубам «Константина Суханова», и люди расступались передо мной. Сначала я удивился этому, но потом понял, что выгляжу здесь необычно: облаченный в широкий оранжевый костюм, огромные сапоги, облепленные рыбьей чешуей, с обветренным лицом и обветренными руками… Сухановцы жили в этом же: море, имели дело с той же рыбой, но их жизнь отличалась от нашей. Они работали и отдыхали в обычных человеческих условиях, почти не ощущали качки, могли всегда спрятаться от ветра, холода. Они не наблюдали течений, температур воды, всех тех мелочей, среди которых жили мы.
Впервые за два месяца я по-настоящему оглядел себя. Удивленный, остановился у зеркала: передо мной стоял в свободной, уверенной позе заправский рыбак, каких я впервые увидел на берегу Ивашки, как только прилетел туда.
Я бродил по палубам в надежде наткнуться где-нибудь на Егорушку и все думал о том, как нас всегда влекут к себе люди сильные, особенные, как мы завидуем им. Но почти никогда не задумываемся о нескончаемой цепи серых, приевшихся работ внутри любой профессии, не видим многих мук, наполняющих любую жизнь в самом прекрасном деле. Поэтому сколько судеб, жизней сложилось нескладно от простого незнания, что – якорь, а что – паруса в поманившем с юности деле.
Егорушка был весел, жил уже новой жизнью, словно и не работал на неводе.
– Чего мало привезли? – спросил он меня с улыбкой. – С невода Гнездова уже три раза сдавали.
– Тебе Девяткин велел возвращаться.
– А здесь кто?
– Я останусь.
– Оставайся, – сказал он, посерьезнев. – Думаешь, тут сладко?
Мы поменялись.
Жизнь здесь была все-таки полегче, поувлекательней: рыбы приходило с неводов мало, три в день нас кормили бесплатно в столовой, можно было смотреть кино, гулять по незыблемым палубам или спать в мягких удобных креслах кинозала.
Но на третьи сутки сменили и меня. И родным показался мне маленький (после этой громадины) катер Джибова, а главное, я снова был рядом с морем, ветром, которых мне уже как бы и недоставало.
Едва я сошел на кунгас, Девяткин накинулся на меня:
– Где Егор?.. Вы гуляете, а мы тут пупы рвем!
– Как?.. Он уехал три дня назад…
– Ага, значит, у Гнездова приютился! Сейчас я его вытурю!..
Он сел в казанку, завел мотор и рванул на невод Гнездова.
Но Егорушка вернуться в наше звено наотрез отказался. Девяткин приехал один, злой, и видно было, что разругались они с Егором окончательно.
Доходил июль, по утрам становилось, будто осенью, холодно, яркая полная луна сменилась на острый ясный месяц, все протяжнее и жалобнее свистели над тундрой кулики, все чаще каждый из нас вспоминал дом…
И вот второго августа подлетел на лодке Гнездов, сказал весело:
– Все, снимаем!
Море было неспокойно, но с каким рвением мы работали! В один день закидали все неводное хозяйство в живорыбницы, и, несмотря на ночь, Джибов потащил наш обшарпанный «флот» в Ивашку. Всю ночь валяло, и мы лежали по нарам пластом, отдавшись изнурительной качке. В полусне я чувствовал, что качает все тише, потому засыпал все крепче. Когда проснулся, было совсем тихо, недвижно: мы уже стояли у пирса.
Я не слыхал, как входили в реку Ивашку, подавали концы и как пришвартовывался за всех нас Вася Кириченко.
* * *
Ивашка была возбуждена: подошел сенокос. Из рыбаков, вернувшихся с неводов, сколачивались новые сенокосные бригады. Готовили косы, вилы, грабли… Заодно – ружья и патроны. Все собирались, как на праздник.
На второй день, после того как сдали мы свои невода, встретил я на берегу Николая Попова.
– На сенокос едешь? – спросил я его.
– Нет, на морзверя собираюсь. Сколочу небольшую бригаду – и на Карагинский остров айда! Я бывал на этом промысле, иногда хорошо выходит…
Наш бригадир Гнездов тоже говорил о своей новой работе. Второе лето он прокладывал через тундру дорогу на Ключи – восемьдесят километров.
– А чего, – улыбался он, – хорошо, дико кругом, кедрач, ягод сколько хочешь, никого нет… Медведь выйдет и глядит, что это за чудовище такое – бульдозер. Поближе подойдет, разглядывает. Я на него, а он встанет на задние лапы, давай бороться с трактором.
Я снова ходил по берегу, как в первый свой день появления здесь. Мне думалось, что бригада наша уже распалась и каждый живет теперь своей новой жизнью. Думая так, я встретил на берегу Женьку, он слез с велосипеда, тряхнул мою руку, в запале кинулся на меня:
– Чего ты бродишь? Одного тебя нет, все ждут, я пол-Ивашки объехал…
– А что?
– Как что? С неба свалился? Разве не знаешь, сегодня банкет!
– Какой банкет?
– Какой, какой… С возвращением на берег, как положено. Всегда бригады собираются – традиция.
Он привел меня к дому Гнездова, и я не поверил глазам: вся бригада лежала в огороде на широком брезенте, на лужайке. В центре брезента дымились кастрюли с едой, стояло вино и стаканы, горой лежала рыба, редиска, лук, были разложены по тарелкам икра и хлеб… И были тут все: и наш кок дядя Саша, и Попов, и Вася Кириченко, улыбался Егорушка, магаданец Митя смотрел на всех дружелюбно… Одним словом, все. Были и матросы с катера – Коля, Иван Ряховский. Не было только капитана Джибова.
Гнездов держал речь. Потом все говорили по кругу, по очереди, вставая на брезенте. А говорили по-рыбацки: кто сколько хотел и что хотел. В глаза было сказано каждому, кто чего стоит. И не только магаданец Митя, Егорушка и дядя Саша опускали до брезента глаза… Многим пришлось услышать о себе самую правду, сказанную по-рыбацки, в лицо.
Были извинения и раскаяния, а кого-то качали…
Ах, как я был благодарен всем! Бригада показалась мне еще роднее, и было стыдно, что с утра я так подумал о, всех. Я сидел здесь, как в тесном семейном застолье, с радостью смотрел и слушал, и чем дольше все это длилось, тем больше прокрадывалось мне в душу новое, светлое чувство. «Вот мы все тут сидим, счастливые и осознаем, что положено нам так сидеть. Не откуда-нибудь вернулись – с моря! Пусть пустые без заработков, без рыбы (а мы ли в этом виноваты?) – такова уж рыбацкая доля. И все равно каждый из нас с радостью осознает, что продвинулся с этой путиной дальше, куда-то вперед в своей жизни. И проходило это у всех на виду – все вместе качались, на одном кунгасе. Потому; вот и сидим сейчас как родные. А завтра? Завтра будь что будет! Завтра любой из нас пойдет уж своим путем. По морю иль по суше, но уже всяк по-своему. И будет путь каждого для всех нас уже тайной. Любая жизнь – тайна. Все мы, даже живя вместе, что-то ищем в одиночку, долго ищем. Порой кажется, что и не важно, найдешь ли, нет ли это свое – хоть бы приблизиться чуть-чуть, хоть бы глянуть разок! Где оно? В себе, в друге, в женщине? На суше, в море, а может, в космосе?..» Так я сидел среди шумного безмятежного пиршества и думал, думал… Казалось, еще немного, чуть-чуть – и ответ наступит, вот он…
Но наступал обычный камчатский вечер. Рыбацкие жены стояли вдоль огородного забора, глядели на нас в щели, но вовнутрь заходить пока не решались. А уже пепельно затуманились вершины дальних сопок, уже мягкой дремотой начало обволакивать их снизу, и с приглушенного поднебесья торжественно нисходило на их снежные главы, как на серебряные купола храмов, миротворное ночное успокоение.
Что-то как будто и нам передалось от этого угасания: все начали говорить друг другу (и чтоб они там, за забором, тоже слышали), что все хорошо, кончаем, посидели, и ладно, понимаем это, понимали бы только нас…
И женщины, как бы уже растворяющиеся и сливающиеся в сумерках с забором, однако все видящие и слышащие, в последнем нетерпении перебирали штакетник руками, все ближе и ближе подвигаясь к входным воротечкам…
А мы стояли на брезенте кругом и, положив другу на плечи руки, пели. И широко раскачивались в такт песни, будто снова под нами ходило море.
ВолныШторм налетел так быстро, что мы не успели разобрать невод. Стали крепить его на корме жваком – вместе с рыбой, ракушками, камнями. Мы отплевывались, таскали по скользкой палубе тяжелую дель, падали и хватали друг друга за ноги, чтобы не соскользнуть за борт. Принайтовали[16]16
Принайтовать – прикрепить, привязать.
[Закрыть] шесты, бочки, рыбацкие ложки для выгрузки рыбы… Капитан Краснов, неотрывно наблюдая за нами из рубки, держал курс в укрытие, к острову Карагинскому. Сейнер мотался на волне как игрушка, натужно работая двигателем.
Была уже глубокая осень, в Беринговом море самая пора штормов, время заканчивать путину, и поэтому с радостной надеждой шли мы к этому острову в губу Ложных Вестей: может быть, на этом конец.
Краснов без шапки, лысый, с рыжими бакенбардами молча курил, заполняя своим черным полушубком половину рубки. Смотровое стекло перед ним то и дело окатывало седой шумящей водой. Хватаясь за двери и леера, я принес ему кружку чаю, наполовину расплескав ее по дороге. Он молча взял и, прислушиваясь к потрескиванию рации, продолжал сноровисто работать рулевой баранкой.
– Идти ложиться? – спросил я, кивнув на кубрик, где все уже валялись по койкам.
– Давай… Через час разбужу. И разбудил через два часа.
Я неплохо стоял на руле, и, видимо, поэтому капитан доверил эту вахту мне. Сам он уже стоять не мог: с рассвета не уходил из рубки.
Ночь. Моря не видно, по крыше рубки шумит, перекатываясь, вода. Слева, в стену рубки, ударяет так, будто кидают в нее мешки с песком. «Компас кривой, – сказал капитан, передавая мне руль, – держи на один градус левее. По рации отвечай, идем в Ложные Вести. Если что – буди. Пока», – и ушел, придерживаясь за стены и поручни. Ушел как обычно, как всегда уходил с вахты, медленно, молча. Что он унес в своих думах, что кроется за этим спокойным, сказанным с юмором – «компас кривой»?
Трудно стоять на ногах, мотается, привязанный под подволоком,[17]17
Подволок – потолок.
[Закрыть] будильник, оттуда каплет, в левую скулу сейнера бьет непрестанно, бывает потише, но тут же яростно, с каким-то одухотворенным возмездием. Картушка компаса мечется в обе стороны – курс держать невозможно. Я жду каждой волны, стараясь заранее подставить ей скулу сейнера. Иногда обманывается волна, иногда я – и сейнер начинает зарыскивать, нехорошо дрожа всем корпусом. Тогда мне трудно «загнать» его на нужную линию курса.
Наша посудина предназначена для прибрежного лова, «гулять» по ночам в открытом море да еще в штормовую погоду нам не положено. Но кто из рыбаков даже на этих малых рыболовных сейнерах не мечтает найти настоящую рыбу! Рыбак – он всегда в риске.
Мотаться до бухты еще часов пять. Ударяет все крепче, и все тяжелее забирается на новый гребень наш усталый МРС. Нос его слабо освещен отблеском собственных ходовых огней, и мне видно, когда со стекол сливает вода, как палуба вместе с привязанной на носу бочкой падает будто в пропасть. Волна нависает над бортом и вот-вот пойдет через палубу, бочку. Но сейнер клонится в другую сторону и тяжело начинает взбираться вверх. И снова летит вниз. Судя по лоцманской карте, слева уже должен показаться маяк на мысу Семенова. Я неотрывно смотрю туда, но тьма сплошная. Включил свет в рубке: часы, раскачиваясь, показывают, что прошло моей вахты всего двадцать минут. А я полагал, часа полтора: в затылке уже ломит, и слегка подташнивает. Это неправда, что море кого-то не укачивает, всех укачивает, но, конечно, по-разному. Наши ребята – «дед» (старший механик), сам Краснов, боцман мотались по морям лет по десять, пятнадцать, и никто из них не говорит, что не укачивает. Нет, они не стесняются в этом признаться. Сейчас, измученные работой и штормом, они спят, слышно, как там внизу катается кружка, вот еще что-то упало со стола, наверное книги, но никто не поднимает – значит, спят крепко. Я думаю о том, что иногда человек не может уснуть в центре города, потому что ночью шумят трамваи, машины. А тут на какой-то гнилой скорлупе, как мы зовем свою посудину, насквозь пропахшей рыбой, в этом кромешном реве, где на многие мили нет ни единой живой души и не заходит ни одно большое судно, а берега – дикие потрескавшиеся скалы – тут они спят! «Кому доверились? Мне? Капитану? Но если быть откровенным, не очень надеюсь на себя и я. А капитан? Он спит… Курс! Только курс! – говорю я себе. – Прокладка верная, у нас хороший капитан, был штурманом на подводной лодке, на больших океанских судах, не раз ходил вокруг света – он не мог ошибиться». Заодно я надеюсь и на сейнер, на выносливость его старенького, но упрямого двигателя… Надо на что-то надеяться. Я успокаиваю себя, начинаю думать, что это мне только беда кажется рядом, а для них она еще далеко: бывали они в этом море на краю гибели.
Однажды вспоминали за завтраком, как шли на сдачу рыбы. Трюмы были полны треской, налетел шторм, стало заплескивать, а помпа осушительная отказала, рация не работала уже сутки. И сейнер стал тяжелеть… Выкидали рыбу, все, что могли, выкидали за борт и стояли на палубе беспомощные, ждали своей участи. И вот в это самое время вышел из камбуза кок Борис, раскрыл дымящуюся кастрюлю с крабами, пошутил, виновато улыбаясь: «Ну что ж, давайте сначала мы их, а потом уж и они нас…» Надо сказать, что крабы – единственное, от чего рыбак никогда не откажется в море. Может, поэтому и не вскинулись все на Бориса, а потянулись к кастрюле. «Ладно, давай доедай да кастрюлей отливать будем», – поддержал шутку боцман. И тут словно бы осенило Краснова: «А что, давай ведрами!.. Где ведра?!» Смешно это – ведрами. А если иного выхода нет…
Когда я слушал этот их «смешной» случай, невольно позавидовал им.
«Да, неудивительно, что они сейчас спят. Хорошо, что спят», – думаю я, и мне делается спокойнее, оттого что внизу именно они и что они спят. «Нет, мы не можем потонуть: еще все молоды, еще слишком мало жили… Где же маяк? Еще минут десять, и нажму кнопку звонка – позову капитана».
Но капитан пришел сам.
– Вроде сильнее стало? – спросил он, закуривая. – Курс?
Я ответил.
– Подправь на три градуса влево.
Я подправил, но удержаться сразу не смог. Не глядя на компас, Краснов раза три повторил мне твердо и спокойно:
– Держи сто тридцать… сто тридцать держи, а не сто двадцать!
– Сбивает…
– Иди поспи.
И я ушел. Не раздеваясь, упал в койку со страстным желанием скорее достичь берега. «Лишь бы добраться, лишь бы пережить эту ночь, а там все будет хорошо. Все пойдет по-другому. Надо только…» – а чего «надо», я так и не мог придумать, но казалось, что вроде бы не так жили, не так что-то делали, вот и попали в беду…
Утром, выспавшись, я сидел на камбузе и глядел в приоткрытую дверь на море. Страшно оно было и неуемно. «Неужели в таком аду шли мы вчера ночью? Шли, чувствовали все это, но не видели».
Остров Карагинский – дикая земля, летом здесь бывают только геологи, да в шторм прячутся рыбаки. Вот и сейчас несколько сейнеров жались друг к дружке. Песчаная коса отделяла нас от адской стихии моря. Ветер свистел в такелаже, водяная пыль захлестывала дыхание. Но волны, накопившие страшную силу, теперь нас не доставали. Они ухали в галечный берег косы, потом с шипением переливались через нее. Чайки жались на косе с подветренной стороны, вскрикивали тревожно, взлетали. Но ветер тотчас срезал их лёт, тащил на берег.
В узкую щель неприкрытой застопоренной двери мне было видно и побережье, и море. Я глядел на пустынный незнакомый берег, на безрассудную борьбу чаек. Что ими двигало, какая сила? Неужели хуже было сидеть за косой, прижавшись в ямке среди камней?
– Не утихнет, – сказал капитан, заглянув на камбуз. – Пошли в тундру?
– Пошли.
Мы взяли ружья и сошли на берег. Было нас четверо: мы с капитаном, наш кок Борис – человек легкий на характер и на ногу, и боцман Санька. Куда мы шли? А просто так, куда глаза глядят. У всех было одно желание – уйти подальше от моря, чтоб наконец тихо стало в ушах. Нет, не прав поэт, море «приедается», особенно если оно рабочее.
Пересекая болотины и овраги, мы уходили все дальше, ели бруснику, рябину… Никого нигде не было, кустарники и травы вокруг стояли желтые, а сопки вдали синели неясно и тонко, и вершины их казались посыпанными сахаром. Три наших ружья – они только мешали нам, и Борис посмеивался над нами, когда мы наклонялись за ягодами и ружья сползали у нас с плеч. У самого у него за спиной был рюкзак, куда он предусмотрительно сунул консервы, кружки, галеты, сахар… Он был нашим кормильцем и не забывал свои обязанности нигде. А мы в свою очередь подтрунивали над ним, что пошел он с нами только потому, чтоб не готовить ужин на сейнере.
Пересекая овраг, мы согнали медведя. Пошел он по кедрачу – только треск стоял, а мы смеялись ему вслед: и в голову не приходило, что на берегу на нас может кто-то напасть. Беду мы ожидали только от моря.
За оврагом в низине открылась широкая равнина с травой до плеч. Здесь совсем не было ветра, не доносился монотонный прибой, и мы повалились на траву. Разожгли костер и сели вокруг него совершенно счастливые – бездомные, одинокие, свободные. Рядом пробивалась через густую траву мелководная речка. Было слышно, как она переливалась в тиши.
До полной темноты было еще далеко. Я взял ружье и отправился вниз по речке в надежде набрести на уток. Осенний перелет пока не закончился, и утки в штормовую погоду могли тут отсиживаться.
Я шел в полном беззвучии, от берега кидались по мелководью какие-то шустрые рыбешки, оставляя после себя расплывчатый мутный след, Никаких уток не было, вокруг пусто, вековечно. И мне уже начинало надоедать все это. Я вспомнил минувшую ночь, когда сжимался, ожидая удара волны, и жизнь казалась такой ценностью, которую нельзя в наше время так глупо и просто (от дурной волны) потерять. Я тогда как бы взвешивал всю свою прошедшую жизнь и так берег эту, еще не прожитую, будто ожидали меня в ней одни радости и скоро совершится самое главное. А прошлое – это так, это только подготовка к чему-то, во имя чего и родился.
И вот я был в безопасности. Я шел по суровой, величественной земле, по этому дикому острову, словно бы кинутому в грозно ревущее море. Шел в первый и, верно, в последний раз в жизни и – был спокоен. Нет, даже равнодушно спокоен! Я не испытывал восторга первооткрывателя, не упивался тишиной, твердостью земли под ногами… Буднично созерцал дальние вершины сопок, будто бы вечно жил здесь. И удивился себе: «Чего же мне опять не хватает? Что снова нужно, чтобы ценить жизнь так, как обещал я самому себе вчера ночью в яростно-беспощадном море? Обещал, лишь бы добраться до берега. И вот – будто бы и не было ничего. Неужели всегда в жизни надо что-то терять или чувствовать, что вот-вот потеряешь, чтобы трепетно любить и ценить то, что имеешь, в том числе и самую жизнь?..»
Долго я так размышлял, бредя берегом и ничего не желая. Очнулся, когда почувствовал в лицо ветер и увидел, что вокруг темнеет. Видимо, я был уже близко от моря и дуло оттуда. Но прибоя не слышалось. Легкие высокие травы раскачивались вокруг с сухим шелестом, и их волнение напоминало взмученное до дна море.
Возвращаться по своим следам мне не хотелось. Я решил подняться из низины на увал и идти дальше его кромкой. «Наверху светлее, – подумалось мне, – а когда стемнеет, то и костер оттуда заметнее».
Однако склон увала так густо зарос кедровым стлаником, что я не скоро продрался сквозь него, а когда поднялся – увидел, что наверху он еще гуще. «Кончится скоро», – успокоил я себя и стал продираться дальше. Неожиданно какой-то тайный овраг перерезал мне путь, едва пересек его – второй точно такой же. Никакого огня впереди не было, высокие заросли окружали меня. Я уже ругал себя, что не пошел опять вдоль речки: все равно надо было возвращаться к ней. А когда для этого спустился с увала – оказался в низине, сырой и холодной, как погреб. Обойти ее мне не удалось, всюду была трясина, и я снова полез через кусты наверх. Исцарапанные руки дрожали, пальцы слипались от кедровой смолы, я часто дышал, но не останавливался, чтобы не оказаться в сплошной темноте.
Наконец выбрался, и только перевел дух, как из-под ног с грубым дурацким гаканьем вырвалась, будто взорвалась, белая куропатка. Я невольно попятился… «Гхак! Га-кха-а!..» – взлетали в других местах. В это самое время я как раз вспомнил о медведе, которого мы согнали днем, – что уходил он кедрачом именно в эту сторону. Какое-то время я стоял не шевелясь, напрягшись всем телом. Страшно было сделать даже шаг. Но я пересилил себя и сначала робко, а потом все быстрее и быстрее, будто челнок, стал прошивать кедрач в разных направлениях, ища чистину, чтобы оглядеться. Но кедрач окружал плотно. Тогда я стал подпрыгивать – не мелькнет ли огонек костра. Нет, всюду было сумрачно и дико. В конце концов я совсем потерялся, не понимал уже, в которой стороне море, а в которой костер, и не знал, куда идти. Стоял, зажатый со всех сторон кедрачом, и ругал себя, что не остался с механиками на сейнере, а потащился в тундру. «Зачем? Мало мне было шторма». Теперь я уже почти не верил в то, что ребята еще сидят у костра и ждут: увидел бы огонь-то. «Значит, затушили костер и ушли на сейнер, полагая, что я давно там. Так хоть бы стрельнули, что ли…» И только тут я вспомнил о своем ружье. Быстро сдернул его с плеча и поднял над головой. Ружье хлопнуло буднично, ничуть не нарушив безбрежного величия ночи. Я слушал, поворачивал голову в разные стороны, но ответа не было.
Тогда я сел и положил ружье на колени.
Представил этот остров на карте – будто камушек на поверхности моря к востоку от Камчатки – и себя на краю этой крошечной суши… Мне снова вспомнилось утро, как проснулся и почувствовал – не качает! Все недвижно тихо. Казалось, нет в мире ничего лучше, чем эта недвижная тишина. Можно было вставать, но ребята еще лежали. Тогда я перевернул на другую сторону намокшую от борта подушку и снова уснул. Уснул с таким глубоким и мягким провалом, как спят, наверное, только дети на руках у своей матери. Вспомнив все это, я опять так неистово позавидовал ребятам, что остались на сейнере, и тем – у костра. Лишь один я был теперь как в ловушке, из которой не видел выхода. Впереди – долгая осенняя ночь. Я сидел, ждал чего-то и безотчетно думал: «Вот отдохну и пойду». И продолжал сидеть…
Сколько прошло времени, не знаю. Но вот вроде бы какое-то слабое движение света померещилось мне. Я быстро глянул вверх – низкие тучи стремительно неслись над тундрой, растягиваясь и тая. Раньше их, кажется, не было, а может, я просто немного отдохнул и только теперь заметил их бег. Рвано расползаясь, тучи редели все больше, и вот прямо передо мной выявилась полная, по-осеннему ясная луна – такая близкая, родная, что у меня зашлось от радости сердце. Она была единственным предметом, почти существом в ночи, с которым я был давно и хорошо знаком. Я сразу успокоился, встал и пошел ей навстречу… Где-то очень высоко летели гуси, я вслушался, уловил их удаляющийся гогот и понял, где север, а где юг. Шагов через десять неожиданно вышел на чистину и удивился, что стою на краю увала… Далеко внизу едва шевелился, задавленный темнотой, красноватый огонек костра. Не выпуская его из виду, я летел вниз, не замечая колючих лап, хлеставших в лицо.
Костер уже умирал, а вокруг, раскинувшись на кедровых лапах, спали мои ребята. Одни на всем острове, окружённые штормовым морем, они лежали под тихой ясной луной, и лица их были торжественны и спокойны. Ненужные ружья валялись рядом. Какие сны видели их рыбацкие души? Что им могло сниться после штормового моря? Я полюбовался на них, выкатил из огня раскрасневшиеся банки, в которых давно выкипела вода на чай, подбросил сучьев в огонь и прилег рядом. И снова волна счастья накатила на меня…
Была, должно быть, полночь, но для меня время не существовало: была вечность вокруг и миг моей жизни. Мне было так хорошо, что я боялся пошевельнуться, чтобы не спугнуть это призрачное лунное настроение. Боялся разбудить и их, потому что они тоже были счастливы. А может, мне это казалось только… «Но неужели всю жизнь так… Неужели счастье родится только на несчастье, покой и отдых на усталости, любовь на ненависти?.. Или это удел молодости?..» Я вспомнил наши последние дни в море. Ведь были, были они – эти туманные благостные деньки! На заходе солнца бежали мы с полными трюмами к плавбазе. Рыба была еще живая, крупная, весь сейнер, заваленный ею, мокро, тускло блестел – негде ступить, поэтому все сидели в рубке, ходили только на камбуз по широкой толстой доске, брошенной прямо на мягкие головы трески.
В такие дни все делали бегом, с шуткой, не чуя усталости. А как только освобождались от рыбы, не дожидаясь утра, бежали от плавбазы опять в море. Ранние чайки благодарно собирались вокруг нас и следили за неводом с той же уверенностью, что и мы.
А потом пошла полоса неудач. День за днем по двенадцать – четырнадцать раз кряду мы вытаскивали обидные пустыри,[18]18
Пустырь – пустой невод.
[Закрыть] потом зацепились за грунт – надорвали все крыло до самой мотни – потом намотали ваер[19]19
Ваер – мягкий трос, один из поводов невода.
[Закрыть] на винт. И пошло… Пока не накрыл шторм. Но едва пришли, потянуло нас в тундру.
Не сиделось нам, как тем чайкам за укромной косой. Теперь, судя по всему, нам надо идти на базу и встать на зимний ремонт. Но последнее слово за капитаном.
Через полчаса мы спешили ночной тундрой к своему сейнеру.
– На медведя не наступи! – смеялись над Борисом, идущим впереди всех. Боцман, забегая вперед, заглядывал капитану в глаза, спрашивал:
– Как думаешь, с утра в замёт, а?
– Должно стихнуть, – мечтательно взглядывал тот на луну. Пыхтел трубкой, пускал целые облака прозрачного дыма. – Невод надо только поушить. Больше на камни бросать не будем.
– На треску попробуем, – оборачивался Борис – На ней нам больше везет. После шторма косячки будут, будут… Я знаю.
Бесконечно простиралась осиянная луной тундра. Еще шумело расходившееся море, еще не просохла как следует на нас одежда, а нас уже опять тянуло туда.
И разве мы не знали, что нас там опять ожидает? Конечно, знали.
Но знали и другое. За волной неудач обязательно приходит волна удачи. Надо только вытерпеть, не сдаться. И если ты хоть однажды устоял, все сделал до конца, тебе уже не страшны новые валы. И совсем не важно, что тебе помогло: вёдро, луна, случайность… «Значит, такова закономерность жизни».
Думая так, я уже слышал, как впереди ревет прибой, но мысленно видел совсем другое: когда стихает шторм, приходит издалека пологая волна океанской зыби. И море будто потягивается, облегченно вздыхает под солнцем. Кто как, а я не знаю лучшего моря. Свежее и помолодевшее, оно неудержимо манит туда, где в бесконечной дали сияет лазурно и сливается с небом.
Приноравливаясь к шагу капитана и неотрывно думая, я вдруг почувствовал, что предо мной начинает приоткрываться что-то новое: «Может, и у людей так – после ревущих штормов молодости придет наконец она, эта ослепительная широкая волна жизни, и будет качать тебя невесомо, будто извиняясь за былые шторма и трепки… А вокруг так далеко видно! Так ясно тебе и просто, так постижимо все – живи еще хоть сто лет…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































