Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
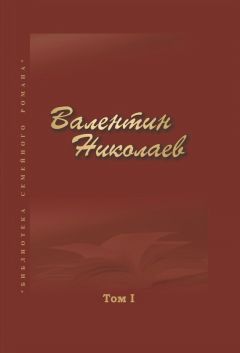
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Однажды в обед Княжев принес в барак чайник, кипятку и стал основательно устраиваться возле широкого окна перед зеркальцем. Брился он по старинке – с мылом и помазком своей опасной раскладной бритвой. Рядом с ним усаживались у других окон совсем почерневший щеками Луков, серебристо-белый с лица Сорокин, сивый Ботяков… Они брились первый раз за все время весновки и потому делали это с особой торжественностью.
Не брились только Мишка с Шаровым да Шмель. Нечего им было пока брить, и они завидовали мужикам, их праздничному настроению и той основательности, с которой те скоблили свои жесткие щетины, на глазах молодея. Побрившись, все снова пошли в столовую. И опять не торопились на реку…
Мишка думал, что пропустил что-то, недослышал, чего говорил Княжев, и теперь один не понимает, к чему идет эта подготовка. Он спросил шепотом Шарова, а тот, открыто улыбаясь, выпалил во всеуслышание:
– Сегодня же воскресенье, чудак!
И Мишка будто проснулся: «Неужели всего только одна неделя прошла!» Ему казалось, что работа и весна начались так давно, что он уже за это время стал как бы другим человеком. Он физически ощутил какое-то смещение времени – не то провал, не то нарост в собственной жизни. То, о чем говорил на реке Пеледов, не выходило из ума. Все больше казалось, что настоящая жизнь идет где-то стороной, отдельно от их жизней здесь и тем более от его собственной. И идет не туда! И никто этого не видит, кроме Пеледова. Но почему он ничего не делает? Почему никому не больно, не страшно за будущее Земли? Что же дальше?
В этот день до вечера все были свободны, и Мишка бесцельно бродил по поляне, сидел на старых сухих пнях. Сходил на ток, нашел два черных тетеревиных перышка; пригляделся, где бы построить шалаш. Лучшим местом показалась сосна, возле ее мощного ствола он и наметил «строительство». Но тетерева скоро должны были уже вылетать на вершины крайних сосен. Поэтому Мишка ушел с тетеревиной поляны, углубился в сосняк и присел возле старого муравейника. Он долго глядел на муравьиную суету и не мог понять, счастливы эти маленькие трудяги или нет. Все было непонятно. Но больше всего собственная жизнь. У муравьев жизнь была вся «в куче», а у него – разорванной на несколько отдельных жизней. Жизнь с матерью в Веселом Мысе должна была идти так, как виделось ей, матери: нужны были деньги, надо было поправлять изгородь вокруг дома, копать огород, садить картошку… А одновременно вести посевную в колхозе. Мишка понимал, что от этого нельзя было уйти, и тут не надо было ничего менять. Другая жизнь – здесь, на весновке, она была тоже вроде бы ясна, и об ней тоже можно было не думать, как, скажем, Шарову. Но Мишке, в отличие от Шарова, надлежало здесь прожить еще жизнь отца и деда и сравнить их жизнь с жизнью сегодняшних весновщиков и своей собственной. Ему надо было понять, увидеть жизнь своего рода среди этих мужиков. И Мишка не переставал надеяться, что к концу весновки все поймет: уже складывалось кое-что… И вот как гром на утре оглушили его слова Пеледова. От этих слов жизнь как бы увеличилась еще на одну самую неспокойную часть. Она была сверху, эта часть, и поэтому как бы напрочь закрывала всю прошлую жизнь, в которой он собирался, но так и не успел разобраться.
А теперь было и вовсе не до этого. То, о чем сказал Пеледов, требовало срочных мер. Надо было кричать, бить тревогу…
Мишка раньше как-то не подозревал, что, кроме его собственной жизни, есть еще жизнь всех – всех людей Земли – и что ему от нее не уйти, не спрятаться ни в каком лесу. Оказалось, что в жизни этой есть свои боли, тревоги, опасения… Мало того, теперь эта жизнь неслась в пропасть. А люди ничего не делали. И это Мишку удивляло, беспокоило больше всего. Он видел, что в бригаде об этом никто и не думает.
Как о единственном спасителе думал Мишка о Пеледове, надеялся, что он не все еще сказал, что есть у него какая-то своя сверхмудрая тайна.
Мишка сидел на крыльце, ждал темноты, когда стихнут и разлетятся тетерева, чтобы идти рубить шалаш. Нужен был топор, а Вотяков, почти каждый день от неумеренной силы ломавший шест, сейчас опять пересаживал багор. Шаров, сидя на нижних ступеньках крыльца, почему-то был сосредоточен, задумчив, он глядел на дальние вершины сосен с какой-то грустной полуулыбкой – может быть, тоже вспоминал дом свой, мать… Луков, чисто выбритый и похудевший, сидел на той же ступеньке, что и Мишка, молча курил и наблюдал за Ботяковым. Впервые за все время весновки нечего было делать, впервые ждали темноты, сна и вроде как бы уже томились бездельем, медлительным ходом времени.
Еще доворковывали, шипели в вечерней тишине на поляне тетерева, когда Яшкина гармонь заверещала на весь лес. Шмель сидел на остатке поленницы возле вагончика и, глядя на закат, оглушал округу заливистой игрой. Никто не ожидал этой его игры, все забыли уже, что лежит в бараке под кроватью гармонь. И вот она напомнила, что есть где-то другая жизнь, от которой ушли и к которой скоро возвращаться.
Мишка, дожидаясь топора, обмяк, шевелиться не хотелось, а слова Пеледова все не выходили из головы. И он сидел совсем потерянный и одинокий, запутавшись в своей жизни и понимая, что ни помощи, ни спасения ждать неоткуда.
Никто не заметил, как к бараку бесшумно подошла стайка девчат, в которой были еще и два молодых парня чуть постарше Шарова с Мишкой. Они услышали гармонь и пришли на ее зов какой-то одним им ведомой дорогой. Это были девчонки-сучкорубы из бригады вальщиков леса. Они доделывали свою зимнюю работу, жгли сучья, пока в лесу было сыро, и, видимо, уже заканчивали, потому и пришли. Мишка слышал, говорили как-то в вагончике-столовой, что работают-де тут по зимам лесозаготовители в двух или трех километрах вверх по Луху, но никто не думал, что они живут там до сих пор. И вот пришли.
Шмель воспрял духом (не кто-нибудь, а он выманил из леса девок!) и перешел с поленницы на старый широкий пень. Он устроился на нем как на престоле и рванул «русского».
И началось безудержное, отчаянное веселье. Не было ни вина, ни праздника – не было никакой причины, но все наперебой лезли в круг, дробили в исступлении ногами и наперебой выкрикивали частушки… Толкали в середину Княжева с Луковым, и даже старик Сорокин и тот потряс штанами с краю общего токовища. Но вскоре присел на сухой обветшалый пенек уже как зритель и только беззубо улыбался. Плясали с озорством и вызовом, как бы наперекор ежедневной ломовой работе и всей этой жизни вдали от деревень, людей.
Когда поостыли, пляска приняла свой степенный, издавна заведенный порядок: каждый вызывал себе «пару», кого хотел, и каждый, решившись, сначала обходил сдержанно круг, по-деловому выпинывая на сторону старые сосновые шишки, готовя себе место и одновременно подыскивая в памяти забористую частушку… Начиналось что-то вроде старой деревенской вечеринки.
Девчонки скинули свои фуфайки, остались в кофтах и свитерах. А глядя на них пошли переодеваться и Галя с Настасьей. Выходя из барака, они удивили курившего возле крыльца Пеледова тем, что у них оказались с собой даже капроновые чулки и туфли.
– Ну-у! Теперь вам до утра надо женихов завлекать, – любовно оглядев их, сказал Пеледов.
– Настасья, видимо, от избытка чувств в порыве обняла стоявшего рядом Мишку и прижала его мягкими сильными руками к своей упругой груди:
– А вот он, наш-то кавалер! Никак не влюбится хоть в одну из нас…
Мишка, не ожидавший этой ее выходки, пошатнулся и упал лицом в ее рыжую густую гриву, пахнущую дымом и какими-то кислыми духами. Он задохнулся, покраснел, подумал, что Настасья пьяная… А она как бы нехотя отстранила его от себя и, гордо закинув голову, ни на кого не глядя, пошла прямо к гулянью.
Хорошо гармонь играет
Во зеленыех лугах… —
выкрикивал Вотяков, идя по кругу и выискивая себе глазами «пару» из пришедших.
А еще лучше заиграет
У товарища в руках! —
встрепенулся на пне Шмель и заиграл с новым подъемом, от напряжения все больше поворачивая маленькое красивое лицо на сторону.
Вотяков уже остановился напротив одной из девчонок и хотел было ее выплясывать на середину круга, но Настасья, как баржа, разошедшаяся по полой воде, уже не в силах была остановиться и врезалась в круг. Теперь они должны были плясать вдвоем – кто кого перепляшет. Вотяков был силен и вынослив, а Настасья горда и красива и уступать ему не собиралась. И все глядели на них, улыбаясь, как они входили в азарт.
Наконец Вотяков понял, что Настасья не отступит, да и тяжело ему было в резиновых с длинными голенищами сапогах (а одно голенище спустилось и хлестало по головке сапога), и он вышел из круга, стал поправлять сапог.
А Настасья, будто того только и ждала, тут же наудалую стала выплясывать Степана. Он вышел, немного смутившись, и всем сразу стало ясно, что плясать как следует он не умеет. Но раньше всех заметил это хитрый Шмель. Он тут же, без всякой заминки, перешел на плавный вальс. Шмель был опытным игроком и знал, когда и что делать. Сейчас он выручал Степана, не конфузил перед пришедшими бригаду и давал отдых своим пальцам в медленной и плавной игре. А главное – ведь плясать хотелось всем, а не только глядеть, как пляшут. Поэтому все сразу закружились, замелькали в широком круге.
Шаров, как-то разухабисто подпрыгивая на поворотах, танцевал с низенькой и пухлой девчонкой из пришедших. Степан, наклонясь, что-то говорил Настасье, и та охотно подставляла ухо, сосредоточась лицом. Мишка шел в паре с Галей, чувствовал, как она легко и быстро приноровилась к нему, послушно управляет своим телом, и мысленно одобрял ее за это. А сам глядел на Настасью, думал и всё не решался пригласить ее на следующий танец. Он был обижен, что она так быстро «предала» его – выплясала себе Степана. Но когда представил: вызови она его, Мишку, – то подумал, что сгорел бы, наверное, со стыда… И все-таки ему хотелось этого. Он не мог даже на минуту забыть, как она обняла его на крыльце, и наблюдал за ней неотрывно. Но Настасья не взглянула на него и разу.
Гармонь играла допоздна, и допоздна ненасытно, не чуя усталости, плясали, пели, толкались и смеялись… Все будто лишились разума. Потом старики незаметно ушли спать, а молодые разбрелись по лесу, по поляне, будто не замечая ночи.
Мишка бездумно шел знакомой дорогой к Шилекше и слушал, как все глубже погружаются в лес, слабеют звуки Яшкиной гармони: Шмель, Вотяков и еще кто-то ушли провожать сучкорубов. Было уже поздно, а все вокруг видно и совсем не страшно одному на лесной дороге. Казалось, что ночь сегодня так и не наступит и веселье, которого будто бы только и ждали, теперь уж не кончится никогда, а так и пойдет: завтра, послезавтра… Было во всем этом что-то стихийное, первобытно-дикое, затягивающее и пугающее одновременно. Мишка шел, думал обо всем этом, пытался по-своему все объяснить, уложить степенно в уме, но как только вспоминал разговор с Пеледовым – все рушилось. «Как же так? – думал он. – Мир гибнет, катится куда-то к роковому краю, в пропасть… А они пляшут, веселятся!» Было во всем этом что-то пугающее… Нет, не сегодняшним днем, а – будущим.
Все отчетливее слышалось, как упруго, напористо шумит за соснами Шилекша, затемнел за стволами остаток штабеля у дороги, который не трогали, берегли на кобылки в случае затора, иногда оставляли тут багры до утра. Сейчас этот покосившийся штабель, казалось, обиженно, забыто дремал в лесных сумерках. Мишка осторожно забрался на него и стал слушать, как под прикрытием ночи по-деловому работает река. Пахло талой землей и хвоей, сырью отдавал лес. Было жутко и любопытно: что совершается в лесу сейчас, в тишине ночи? Иногда тенью проплывали мимо одинокие бревна, вот просвистели в вышине торопливые крылья уток, где-то монотонно взблеивал бекас… Лес отдыхал, но не спал. Одной частью своего сложного существа он еще жил и радовался, а другой уже только наблюдал и был настороже. В торжественном, лишенном суетливости приближении ночи было что-то тайно-непостижимое: чувствовалось присутствие чего-то Вечного в пространстве и времени. И не было этому ни начала, ни конца, все тонуло в едином: жизнь деда, отца, неудачи собственной жизни… Но все могло и кончиться. Если верить словам. Пеледова – человечество неудержимо, с какой-то безоглядностью рвалось к пропасти. Мишке все больше казалось, что с такой же безоглядностью летит к концу и его собственная жизнь, и надо остановиться, пока не поздно, или повернуть куда-то… Но забота об этой жизни почему-то тревожила все больше. Он уже не раз пытался «стряхнуть» все, говоря про себя: «Не хватало еще мне этой беды, пройдет, как хотят…» Но не проходило, а выплывало все требовательнее и яснее. Это было похоже на страшный сон. Мишка знал, что любые сны, даже самые невыносимые, – призрак. Они забываются, и жизнь снова летит куда-то вперед, вдаль, где обязательно есть простор и свет. Но сейчас просыпаться было уже некуда, сейчас было все наоборот: жил, будто спал, и вот проснулся.
Мишка сидел тихо, не шевелясь, завораживающе-монотонно бурлила на повороте река. Под эти успокаивающие звуки Мишка расслабился и вздрогнул, когда послышались сзади осторожные, но сильные шаги. Кто-то шел к реке – уверенно шел, знакомо. Мишка юркнул со штабеля, пригибаясь, отбежал и, присев за елочками, стал наблюдать за выходом дороги из леса… Показались двое и, не доходя до штабеля, остановились. Некоторое время молчали, стоя рядом и не шевелясь, потом приблизились. И Мишка понял, что целуются. От напряжения потемнело в глазах, силуэты людей стали расплываться, в горле пересохло… И в это время совсем открыто раздался сочный воркующий смех Настасьи. Мишка боялся даже дышать: стыд, ревность и боязнь одновременно приковали его к земле, и он готов был вдавиться в нее еще глубже, сровняться с ней, лишь бы эти двое не заметили его. А они стояли совершенно свободно, уверенные в том, что рядом никого нет. Тот, кто был с Настасьей, обнимал ее и, глядя на Шилекшу, вдруг запел. Негромко, но отчетливо:
Окра-а-сился-а месяц багря-анцем,
Где во-олны шуме-ели у ска-ал…
Мишка больше не сомневался, что это Степан. И новая волна ревности и обиды захлестнула его. Хотелось плакать. Он судорожно вздохнул, переводя дыхание: «Что же делать? Смотреть, что будет дальше? Ни за что на свете!..»
– Пойдем, посидим, – по-свойски сказала Настасья и первая полезла на штабель. Степан стал ей помогать. А Мишка тем временем шмыгнул за другие елочки, огляделся и перебежал еще, глубже в лес. «Теперь если и услышат, то уже не увидят», – с великим облегчением подумал он, вглядываясь, но людей уже не различал: мешали темные лапы сосен. Здесь, в безопасном месте, он долго ждал их разговора, но слышались только редкие всплески реки, которая глухо и ровно работала где-то внизу. Даже Яшкиной гармони уже не было слышно. Мишка еще вздохнул, выпрямился и осторожно стал отходить от реки, забирая влево, к дороге. А когда вышел к ней, захватил лапу нижнего сучка у сосны и зло потянул ее за собой. Лапа пружинила, не сдавалась… Передохнув, Мишка попятился и рванул с разбега. Как выстрел, треснул сук, Мишка полетел куда-то в темноту, в кусты. Упираясь руками в холодный сырой мох, он прислушался, ощупью отыскал шапку и, не оглядываясь, открыто пошел к бараку.
22Шмель с утра был вял, помят, и оттого казался еще меньше. Он шел на реку с сильно загнутыми голенищами сапог. Он всегда их сильно загибал в дороге и сегодня еще не успел разогнуть после вчерашних проводов. Шмель не выспался, и от этого его пухлое личико казалось обиженным, как у ребенка, у которого отняли игрушку.
Мишка приглядывался ко всем, стараясь допонять, что же такое случилось с людьми вчера. Но о вчерашнем не говорили, будто и не было ничего. Страшно было встретиться глазами со Степаном: Мишке казалось, что Степан догадывается, кто был ночью в лесу. «Только бы не пришлось работать с ним на одном штабеле».
Однако Степан ушел по реке вверх, а Мишку направили на средний кривуль, куда раньше всех отправился Вотяков.
Мишка пробирался берегом, самой чащобой и радовался, что так хорошо все получилось. Обходя затопленные кусты, он согнал Одноглазую, вздрогнул и остановился: как-то странно, будто подраненная, бежала утка по воде. И не улетала, а оглядывалась на Мишку и, как бы отводя его, плыла в сторону, за кусты… И Мишка догадался: стал внимательно приглядываться по низу стволов и скоро увидел под елью пять зеленовато-бледных яиц, совсем неприкрытых и еще хранивших утиное тепло. «Только бы никто не нашел…» – думал он, озираясь по сторонам и слегка прикрывая яйца пухом и травой с краев гнезда. Потом он крадучись бежал от гнезда, оглядываясь и запоминая место. Он хорошо знал, что надо делать в таких случаях. Вспомнил, как в старой деревне держали уток домашних, которые иногда уплывали от дома и устраивали свои гнезда на острове вместе с дикими. Не просто было выследить этих беглянок, а потом и наблюдать за ними. Только в это время, забрав еще мокрых утят, и можно было вернуть утку к дому, чтобы она не одичала вместе с потомством. Это поручали всегда Мишке, и он хорошо знал «характер» матери-утки.
Вотяков стоял на мысу и пел. Он легко, почти играючи, отталкивал от берега бревна, и видно было, что ему не нужно никакой помощи. Мишка опять подивился его крепости, здоровью (ведь они вместе со Шмелем уходили вчера в ночь провожать девок). Забредя в воду, Мишка сначала смыл с голенища прилипшие утиные пушинки, потом сказал, стараясь быть по-взрослому независимым, что послан сюда на подмогу.
– Отдыха-ай… – поглядел Вотяков в его сторону. – Тут и одному делать нечего.
К обеду они решили, что Мишка будет стоять немного выше по реке, на другом кривуле.
* * *
Само собой, но настало, видимо, то время, когда люди незаметно вышли из подчинения бригадиру и начали жить так, как хотелось каждому. Шмель с Ботяковым каждый вечер уходили по дороге куда-то в лес: не то в поселок, не то к сучкорубам. Степан дольше всех сидел у Настасьи в столовой; другие, поужинав, садились в бараке возле окна и начинали играть в карты. Они брали у Настасьи белый алюминиевый чайник с крепким чаем и, хлопая о стол разбухшими картами, то и дело наливали всяк в свою кружку. Играли, курили, пили чай, обжигаясь и ахая, иногда спорили вполголоса, а Сорокин, Княжев, Вася Чирок и многие другие уже отдыхали лежа, и Княжев почему-то ничего никому не говорил. Но и без слов все понимали: играй, гуляй, делай что хочешь хоть всю ночь, но утром пойдешь на работу, когда разбудит бригадир.
Но ничего никому не говорил Княжев и утром. Мишка с Ботяковым так и работали на двух соседних кривулях. Перекликались в обед и к вечеру – как идти домой. А утром выходили опять вместе.
Через два дня после прихода сучкорубов, Мишка не увидел Ботякова утром возле вагончиков и расстроился: Ботяков, чертом пролезая через чапыжник, мог согнать там утку, а еще хуже – набрести на гнездо. Поэтому, даже не послушав сегодня, как токуют тетерева (на прежнем ли месте, возле сосны?), Мишка схватил багор и кинулся на свой кривуль. Когда он пробегал мимо гнезда, нарочно кашлянул, чтобы проверить, но утка не взлетела.
Он выбежал на изгиб реки – бревна не плыли. «Еще не начали их сбрасывать там, вверху, – подумал Мишка. – А если и начали, так они пока не приплыли». Он посидел, послушал. «То-то-то-тооо…» – близко раскатился нижний дятел. Средний не отозвался, а верхний не скоро, но сыграл глухо, едва слышно: так он был далеко теперь. Мишка сложил у рта ладони и закричал Ботякову, но тот не отозвался. Кричал еще и всякий раз боялся, что напугает утку. Ответа не было. Уже хотел идти к нему, однако рекой поплыли первые бревна. Мишка подумал было с надеждой, что это с ночи – раскатило где-нибудь штабель, и сейчас опять будет чисто, но лес пошел гуще, ровнее, и стало ясно, что он уже сегодняшний, «рабочий». «Может, пропал человек, может, Княжеву сказать…» – отталкивая бревна, мучился Мишка. Вешка, воткнутая им по урезу воды, была затоплена – вода прибывала все больше. Мишка глядел на нее и никак не мог решить: или прибывает с верховий, или где-то внизу затор случился, – может, на Лухе… Он опять сложил рупором руки и опять закричал Ботякову. Но лес молчал. И тогда Мишка кинулся ельником по реке вниз…
Задыхаясь, выбежал на кривуль – и остановился изумленный: на повороте медленно и уверенно рос затор. А чуть пониже, на луговине, у самой воды, спал Вотяков. Он лежал на подстилке из елового лапника, положив под голову резиновые сапоги и поджав босые ноги, возле которых журчала вода.
– Затор! – закричал Мишка.
Вотяков очумело сел на лапнике и, неспешно оглядев бревна, перегородившие реку, протянул, удивленно:
– О, ё-о-моё…
Однако, сообразив, чем это все может кончиться, схватил багор и босиком кинулся по бревнам на середину затора.
– Иди скорее!.. – крикнул он заговорщицки-приглушенно Мишке. – Берем из середки. Ооо-о!.. Оо-о!
Нажимая враз под это оканье, они размолевали[8]8
Размолевать – разобрать бревна на воде в один ряд (сплавщицкое).
[Закрыть] середку, пыж зашевелился, и оба кинулись по живым бревнам к разным берегам.
– Сюда давай! – замахал Вотяков. – А то опять зажмет… – И переманил Мишку на свой берег.
Дождавшись, когда затор пронесло, утащило за ельник, Вотяков снял с куста портянки и сел на свой примятый лапник. Нащупав что-то в голенище сапога, он загадочно улыбнулся и опять заговорщицки спросил Мишку:
– Опохмелиться хочешь? – И, как бы в доказательство своих слов, вытащил из голенища бутылку. – Только не говори никому, понял? Я ведь на утре пришел, прямо сюда, на реку. Гляжу, несет хорошо, вода полная… А спа-ать хочу… – он рассмеялся. – В глаза хоть спички вставляй! Закрываются и все.
Говоря, он распечатал бутылку, попил прямо из горлышка, достал из кармана фуфайки рожок копченой колбасы. Сдунув с колбасы хвойный мусор; откусил чуть ли не половину этого рожка и, когда разжевал, счастливо повел глазами вокруг:
– Во-от чего ей не хватало! С утра просила… Вчера в поселке спирту выпил, кино так и не доглядел. Девку одну провожал, прижимаю – не дается. Ну, думаю, хрен с тобой, побегу. А дорога!.. Темнота, грязь… Замучился, больше не пойду. Попей? – протянул он одной рукой бутылку, а другой колбасу.
Мишка застеснялся, загордился про себя, что ему запросто, как взрослому, предлагают выпить, и ответил с радостью:
– Зачем, ведь не праздник, – и, чтобы не обидеть Ботякова, взял колбасу.
– Ну да, верно. Ты же не с похмелья… Давай ешь, у меня и хлеб есть, – и он из другого кармана достал обломанную краюху хлеба. И на нее сильно дунул и погладил рукой, сметая с сухого мякиша мелкие можжевеловые иголки.
Затем, обув один сапог, Вотяков не спеша закурил и опять влюбленно оглядел мир. Видно, хорошо ему было и после сна и после выпитого, и Мишка позавидовал ему, его силе, самостоятельности и полной свободе.
– Ты чего разулся? – спросил он наконец Ботякова.
– А я хитрой, – Вотяков засмеялся. – Меня хрен, обманешь. Думаю, елки-девки, усну – а вдруг запыжит?.. Разулся, портянки и сапоги вон просушил, – отметил он, с удовольствием похлопав по обутому сапогу. – А сам лег босиком-то к самой воде. Нет, думаю, меня не проведешь, если «козел» будет, так босые-то ноги воду сразу учуют… А он вон где собрался, выше меня… Не рассчитал!.. – Вотяков опять захохотал, зажмурившись, с удовольствием замотал головой, выражая полное удовольствие и радость, что все уже кончилось – «козел» разобран, благополучно ушел вниз.
И Мишка опять позавидовал его душевной свободе и той легкости, с какой он и пил, и гулял, и работал… И все у него было хорошо.
А в вагончике в это время Настасья, сидя перед раскрытой печкой, мучилась, дочищала картошку. Жара морила ее, и она все ниже наклонялась над баком, наконец безвольная рука выпускала нож. Брызги летели Настасье в лицо, она испуганно просыпалась и шла скорее на улицу.
Чтобы отогнать сон, принималась колоть дрова, с треском отдирала друг от дружки красными руками поленья и кидала их в кучу.
Поляна рокотала тетеревиным пением, и Настасья, ранее не замечавшая этого, теперь прислушалась и отметила про себя с загадочной мечтательностью: «Птички поют…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































