Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
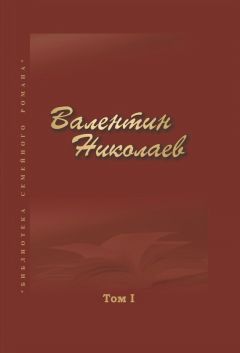
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
– Во-он оно как… А мне не сказали.
– Да разве скажут, ты что! Я так и то до последних ден не знала… Тебе велел отдать. Заходи, заходи.
Катерина выговорилась, умолкла. В салоне было уже сумеречно, но света не зажигали. «Нет, не все, видно, я о них знаю, – думал я. – Жил, работал, а до конца так и не узнал. Да разве кто узнает…»
– Сама-то теперь где? – спросил я.
– Да в караванке! Дежурю. Смотрю в окошечко… Всех вижу, все идут, моего только нет, Демьяна Евсеича…
Как ножом полоснули меня эти ее слова. Я скорее отвернулся к иллюминатору. Вода казалась еще чернее, была взрыта волнами. Берег с темневшим вдали лесом будто отодвинулся еще дальше и уже не был так разительно бел возле самой воды. «Неужели и вправду его больше нет? Куда я плыву, зачем?.. Холод, зима, ночь…» Казалось, навеки заглохло здесь все, осиротело без Евсеича, будто потеряла река живую свою душу.
Теплоход зачем-то стал грубо забирать вправо и вдруг властно, требовательно загудел – входили в затон. Я выскочил на палубу. Теплоход еще голосил, еще валился на правый борт. И могучий голос его разлетался окрест – упруго заполнял собой все тесное пространство между водой и небом, будил реку и траурно притихшие в предзимье леса, будто призывал их вместе с людьми беречь и любить эту землю.
1981 г.
Шумит Шилекша
1В лесу больше не дуло, и сосны стояли глубоко задумавшись. Старая сосна с краю поляны опять видела людей, которые идут к ней по размытой апрельской дороге. Люди всегда приходили сюда в апреле и всегда спешно начинали свое дело.
Зимой на поляне никого не было, гуляли только ветры, мели метели, и сосна постепенно привыкла к их протяжному вою.
Но вот наконец потянул теплый ветер и, усиливаясь, шумел над вершинами четверо суток кряду. Изредка стихал, и тогда принимался шептать мелкий моросящий дождь, незаметно переходя в сплошной белесый туман. И сосна поняла, что люди уже идут. Нынче она ждала нового человека, и ей смутно грезилось, что его жизнь будет долго связана с ее жизнью.
Тянулась ночь, было тепло, дремотно и совсем тихо. А на переломе ночи под плотную шубу леса стал прокрадываться осторожный морозец. На коре и игольчатых лапах сосен он высушивал холодную влагу, превращал ее в тонкую и прозрачную, будто лак, ледяную пленку. Мороз проникал в ноздреватые поры осевшего снега, под густую шатровую нахлобучь еловых лап – медленно, но уверенно забирался в самую сердцевину леса.
Старый тетерев, с вечера дремавший под большой разлапистой елью, почуял мороз и надвигающийся рассвет. Он сладостно потянул по очереди каждое крыло, вытягивая одновременно в ту же сторону и каждую лапу. Послушал… Успокоившись, встряхнулся и по-хозяйски вышел из-под еловой навеси. Еще послушал. И, разбежавшись, взлетел. Несмотря на темноту, тетерев летел быстро, ловко огибая встречные вершины сосен. Он уже слегка различал их на фоне бледнеющего неба. Виднее в эту сторону было еще и потому, что лес тут расступался, открывая место широкой заснеженной поляне. Снизившись над поляной, тетерев описал над ней широкий бесшумный круг, но не сел, а взмыл к вершине одинокой сосны. Он не нарушил ее древних дум, она знала, что он прилетит, ждала. Тетерев бездумно уселся на самой ее вершине, слился заодно с темной хвоей, затих. Сосна была высокая, величественная и потому безопасная со всех сторон. Молодые сосенки, дружно подраставшие на поляне, были ее самыми молодыми детьми. С каждым годом сосенки поднимались все выше, и все больше мешали тетереву. Раньше, когда они почти полностью скрывались под снегом, тетерев садился на поляну сразу. Но теперь осторожничал. Мало ли кто мог затаиться в этом молодом сосняке: лиса, куница, хорек…
Тетерев не впервые наблюдал за поляной с ночи. С трех сторон поляну непроницаемо окружал лес, а с севера реденько, вперемежку с ельником, росли молодые березки. Среди этой лесной подрощи неуклюже возвышался большой старый барак, всегда вызывавший у тетерева любопытство. Сейчас барак тоже будто дремал заодно с лесом. Тетерев не знал, что в бараке ночует человек, тихо прошедший вчера вечером через поляну. Это был комендант Сергей Артемов.
Артемов приходил сюда каждую весну. Но по лени своей вставал поздно и тетереву никогда не мешал.
Все отчетливее выявлялись вершины елей, сосен, темная громада барака. А в лесу было по-прежнему беззвучно, сонно. Но тетереву уже не терпелось. Он сорвался – будто упал с вершины, по привычке проваливаясь вниз, чтобы загородить себя сосною, – гулко хлопнул несколько раз короткими крыльями, выровнялся и, облетев поляну еще раз, принастился среди верхушек молодых сосенок, образовавших на большой поляне свою маленькую полянку. Замерев, он снова слушал, поворачивая голову то к лесу, то к бараку. Потом не спеша начал прохаживаться по твердому насту. Иногда распускал черные крылья и важно волочил их по белому снегу. Будто испытанный генерал, распахнув полы своей генеральской шинели, изучал он поле предстоящей битвы.
Из леса в сторону барака полетела через поляну ворона, и тетерев услышал, как шумели в тишине ее крылья. Потом она заорала на весь лес, и лес многократно повторил ее крик. Тетерев не стерпел, подпрыгнул, зло с присвистом прошипел и принялся токовать. Он развернул веером черный хвост, расперился весь, заурчал и, вытянув по низу разбухшую шею, начал азартно и мелко перебирать мохнатыми седыми лапками по твердому насту. Он не слушал больше ворону, ничего больше не слушал, кроме себя, и распалялся все больше и больше. Весенняя страсть, давно копившаяся в нем, лишила его осторожности и птичьего благоразумия. Несмотря на ночь, он все быстрее бегал от сосенки к сосенке, круто повертывался, бил себя крыльями – ворковал в полном самозабвении и счастье.
И весь лес, все сосновое племя услышало его и с облегчением будто вздохнуло, прошептав: «Вот и вессна-а…»
Тетерев по опыту многих весен хорошо знал, что вокруг поляны уже собрались в вершинах сосен другие тетерева, затаились молодые тетерки – все с нетерпением ждут, когда он начнет, разбудит лес своим сильным голосом. И вот он пел.
Разворковавшись, он не заметил, как широко и ярко заалело над вершинами, как проснулись и начали подавать голоса синицы, дятлы, рябчики. Из леса ему уже отвечали другие тетерева – так же шипели и били себя крыльями – и вот-вот должны были вылететь к нему на поляну, и он не понимал, злился, почему они не летят.
Но вот понял – услышал и учуял всем своим существом – лесную округу наполняло какое-то странное сплошное гудение. Он смолк, высоко поднял голову и замер. Из леса, с той стороны, где была опасная для зверей и птиц дорога, облюбованная людьми, нарастал железный, угрожающий рев. Он близился к поляне явно по этой человеческой дороге. Тетерев уже знал, куда надо будет лететь, и ждал… Дробясь в соснах и снова сливаясь, рев наполнял всю округу, и уже не было слышно ни дроздов, ни дятлов, ни синиц… Напрягшись, как пружина, тетерев не шевелился до тех пор, пока не увидел снизу напористо выкатившее на поляну черное, страшное своим грохотом существо. Оно неслось напролом, подминая под себя кусты и молоденькие сосенки, грозно стреляя черной копотью. Токовик подпрыгнул и низом, низом, тенью обогнув старую сосну, нырнул в спасительный лес.
Остальные тетерева, что сидели вокруг поляны, затаились в вершинах и молча глядели и слушали, что будет дальше.
2Морозы в этом году заглянули в апрель, и ток у тетеревов долго не разгорался.
И люди, и птицы измучились, ожидая тепла…
Но все разрешилось разом. В лесах еще лежали высокие, февральского величия сугробы, а с юга уже катилась упруго могучая струя теплого воздуха. Одолев кавказские хребты гор, она ринулась в полынные просторы степей, выбилась к Волге и по ее ледяному желобу легко устремилась на север, в царство хвойных лесов.
Однако как ни сильна была эта теплая струя воздуха, но, проникнув сюда, в угрюмые хвойные чащобы, туго набитые снегом, она обмякла, умерила свой пыл. И местная неуступчивая зима, как последний протест, подняла по всему лесу могучее испарение.
Два дня тетерев не видел своей поляны. Из-за густого тумана он отсиживался на вершине старой сосны и слушал влажный шорох леса, погруженного в парную дремоту.
Такой же туман висел и над деревней Веселый Мыс. Деревня эта, почти в сорока верстах от поляны, стояла на горе, на высоком знобком мысу, над крутым изгибом Унжи, впадающей в Волгу. Почти всегда тут гуляли ветры – зимой сметая снега с крутых лбов убережья, а летом принося речную прохладу. Но с туманом и здесь стало удивительно тихо. И люди не шумели, не суетились, будто боялись спугнуть редкую тишину и долгожданное тепло. Зима давно измотала всех: замерзали в овечьих хлевах новорожденные ягнята, обмораживали гребни робкие инкубаторские петухи, потрескались от частой и жаркой топки печи, на исходе были корма для скота, подстилка, кое у кого дрова… Все ждали весны.
И вот она подошла. «Настоящая ли? – гадали человек, зверь и птица. – Не обовьет ли опять землю сплошной белой метелью?»
Иван Княжев, каждой весной набиравший бригаду на весновку, был в особенном замешательстве: по срокам пора было уже отправляться в дорогу, а по снегам и морозам – жди еще хоть неделю, полторы… Но как только навалился на деревню туман, он оповестил всех своих людей, что в воскресенье ночью выходят.
Проснувшись затемно, он первым делом пошел на улицу. Потоптался у крыльца, с удовольствием похрустел валенками по мерзлому снегу и, озябнув, веселый вбежал в избу.
– Собирай! – коротко бросил он жене и стал переобуваться в резиновые сапоги с длинными голенищами.
Вскоре один за другим начали зажигаться по всей деревне огни. Взлаяли собаки, морозно заскрипели редкие уверенные шаги.
* * *
Мишка Хлебушкин смутно представлял, что его на этой весновке ожидает. Ему шел семнадцатый год, и он считал свою жизнь погубленной навсегда.
Жили Хлебушкины в Веселом Мысе всего пятый год. Они были переселенцами из маленькой лесной деревушки, которая совсем захирела вдали от главных дорог и больших деревень.
Заснул он в эту ночь поздно и спал плохо, потому что с вечера долго собирали с матерью рюкзак в дорогу – искали рукавицы, сапоги, портянки…
Мать начала его трясти за плечо, казалось, среди ночи, когда постучали с улицы в окно.
Стучал бригадир Княжев. Мать приникла к стеклу, и он махнул ей с улицы рукавицей:
– У магазина собираемся.
Так исстари уходили по весне люди из Веселого Мыса в дальнюю дорогу. Их собирали основательно, почти как на войну, хоть и не голосили, но провожали дальше околицы. Бывали случаи, кто-то и не возвращался с весновки… Рискованный это был сплав, на удалую голову.
Мишка совсем мало поел, не хотелось со сна, а мать упрашивала, и он сердился. Ему было жаль ее и страшно за себя – сумеет ли работать наравне со всеми, и потому не терпелось скорее уйти.
Мать наставляла его, советовала, а он отмалчивался: нельзя было обижать ее напоследок. Выйдя на крыльцо, они постояли немного, как бы прощаясь и привыкая к темноте. Было еще по-зимнему глухо, темно и морозно, но морозно уже по-новому, колко-юно и настороженно-чутко, как бывает только весной. Воздух был так отзывчив, что слышались все шаги по деревне: глухие вдали, и с мерзлым отчетливым скрипом уже близко, возле магазина. Резко скрипели двери, слышался неясный осторожный говор, в дальнем конце деревни взлаяла собака и тут же осеклась, смолкла. Отовсюду народ тянулся в середину деревни, к магазину. Послушав и успокоившись, что не опоздали, пошли и они. Мать несла сзади Мишкин рюкзак и что-то шептала. Перед тем как свернуть с дороги к магазину, он все-таки обернулся, пытаясь отобрать у нее рюкзак.
– Еще успеешь, оттянет он тебе плечи-то, – старалась она удержать рюкзак.
Мишка опять почувствовал раздражение, но снова сдержал его. Однако так настойчиво потянул рюкзак, что мать оступилась с дороги в снег и молча отдала ношу.
Возле магазина под единственной на всю деревню электролампочкой уже темнели фигуры людей, слышался неясный говор. Сплавщики стояли отдельными, казалось, независимыми друг от друга группами по три-четыре человека, и Мишка не знал, к которой из них подойти.
Под столбом, в самом светлом месте, на утоптанном твердом снегу были сложены дорожные рюкзаки. Мишка приставил к ним свой и, облегченно вздохнув, начал приглядываться к людям, ни к кому не подходя. Так же в одиночестве стоял в стороне ото всех старик Сорокин, утвердив перед собой белый прямой шест и держа его на отлете правой рукой. Мишка удивился: «Неужели он потащит его в такую даль? Будто там, в лесах, нельзя будет вырубить себе любой шест».
Морозило все крепче, и Мишка понял, что вот-вот начнет светать. Ему казалось, что кто-то еще не пришел, и бригада опоздает с выходом.
Но к трем часам, как и было договорено, собрались все – девятнадцать туго подпоясанных, изготовившихся в дальнюю дорогу мужиков, Княжев был двадцатым.
– Топоры взяли? – крикнул он поверх голов не громко, но так, что услышали все.
– Я прихватил, – отозвался крепкий приземистый Ботяков.
– Есть, хватит… – ответил еще кто-то с магазинных ступенек.
– Деньги, спрашивай, взяли ли, – добавил стоящий рядом с Мишкой сухопарый цыганского обличья мужик и подмигнул Мишке, как давно знакомому, хотя Мишка его почти не знал. Знал только то, что он из соседней деревни и что фамилия его Луков.
Приглядевшись, Мишка уже успел подумать, что половина людей была из соседних деревень.
– Тогда пошли, – опять негромко, но раздельно сказал Княжев и первым, не оглядываясь, пошел от магазина к дороге. За ним двинулся Сорокин, положив свой белый шест на плечо. И все зашевелились, заговорил громче, начали разбирать мешки, потянулись друг за другом.
Женщины, старики и подростки шли сзади.
Смотри хорошенько. Больно-то не налегай, надсадишься, – на ходу говорила мать, опять передавая мешок Мишке.
– Все будет нормально, тетка Анна, – как бы заступаясь за всех, по-взрослому ответил ей Витька Шаров, такой же молодой, как и Мишка. Они были новичками в бригаде, бывшими одноклассниками.
За деревней, на краю поля, женщины остановились и наконец замолчали, слушая затихающий хруст подмерзающей дороги. Потом мужики растаяли в темноте поля вовсе, и только иногда доносился их удаляющийся говор. Но женщины все не уходили, будто мужики, дойдя до ближней деревни, вот-вот вернутся. Постепенно разговор у хозяек завязался свой, о своих женских делах и невзгодах, которым не было конца. Они топтались, приговаривали по очереди: «Аи, бабы, холодно, иззябла вся! Домой надо…» А сами все стояли и говорили, говорили… Так и простояли до рассвета: хорошо стала видна соседняя деревня, которую давно миновали мужики, обозначились дымы над крышами, березы по угору, розово заалело заречье… Всплеснули хозяйки руками, дивясь неожиданности дня, и побежали скорее по домам растоплять печи.
А мужики одолевали навстречу заре уже третье поле. Сначала они шли кучно, иногда напирая друг на друга, но постепенно разделились попарно, по трое, растянулись во все поле и каждая группа шла как бы уже сама по себе. Впереди шел Сорокин, и его никто не обгонял. Следом за ним, чуть отступя, чтобы можно было переговариваться, шагали Княжев с Луковым. Мишка с Шаровым шли не последними, но все же в конце бригады.
Они не спешили и не останавливались ни в поле, ни в деревнях. Шли одинаково ровно, потому что переход этот был как бы уже началом самой работы.
Княжев думал о далекой поляне, на которую шли, прикидывая по прежним весновкам время, и один переживал за всех: не отдали ли работу другой бригаде – шли нынче позднее условленного срока.
3Токовик, сорвавшись с поляны, только вначале летел низом. Углубившись в лес на безопасную глубину, он взмыл на одну из высоких вершин, уселся там и не выпускал трактор из виду.
Тракторист, призывник Пашка, газовал во всю силу. Леспромхозовский мастер Чекушин разбудил его еще в темноте и наказал к восьми утра вернуться в гараж. Два зеленых вагончика на бревнах-полозьях надо было утащить на поляну еще вчера вечером, но вечером Пашка возил дрова к чекушинскому дому, а потом гулял в клубе и по поселку – нагуливался последние дни, потому что скоро должен был идти по призыву в армию.
Пашка не выспался, проклинал Чекушина, себя и потому катил напролом, будто виноват был трактор и эти два вагончика, которые он тащил по снежной целине.
Подъехав к бараку, он отцепил по очереди оба вагончика, закурил, оглядываясь вокруг… Никого не было, заря алела над лесом, вокруг – морозно и тихо. Но любоваться было уже некогда, и Пашка, запрыгнув в кабину, загрохотал скорее в поселок – завтракать перед началом рабочего дня. Когда трактор готов был скрыться в лесу, дверь барака медленно отворилась, и появился Сергей. Он постоял, оглядывая вагончики и что-то соображая, чихнул на весь лес и снова изнутри закрыл дверь.
Тетерев, сидя на высокой вершине в глубине леса, все это видел и слышал, но здесь уже ничего не боялся. Когда дверь барака закрылась, он переступил мохнатыми лапами на суку и попробовал ворковать. Потом он улетел еще глубже в лес, опустился там среди вытаявших можжевельников на солнечной опушке и до полдня ходил, не спеша приглядываясь к осевшему синеватому снегу и склевывая с него сморщенные прошлогодние ягоды можжевельника.
* * *
Дорога вела мужиков неизменно вдоль берега реки все дальше на север.
Часам к десяти в полях на широких разливинах растаял хрупкий ледок, и южный ветер уже рябил чистую синюю воду. К дороге, возвышавшейся над полем твердым укатанным хребтом, приплывали волоти соломы и сена, оброненные с возов зимой.
В некоторых местах дорожную хребтину промыло упрямой водой, и бурный журчащий поток преграждал бригаде путь.
Сорокин молча снимал с плеча свой шест, ощупывал им дно промоины и начинал переходить. За ним – остальные.
Изредка с широких полевых разливин взлетали уже вернувшиеся чирки и кряквы, с недовольным, но радостным для мужиков покрякиванием они устремлялись вперед, тоже на север. Только грачи, расхаживая по дороге, подпускали мужиков совсем близко, а взлетев, снова садились на дорогу, но уже сзади бригады.
4Мишка не представлял, что за работа, что за жизнь теперь его ожидают. Ему было и страшно и любопытно: справится ли как все, каковы те леса, где работали дед, отец? Как там?
Он любил и ненавидел лес. Любил его давно, с детства, с той самой поры, когда однажды отправились с отцом за сосновыми шишками. Было это тоже в апреле. Может быть, чуть пораньше вот этого времени. Выехали затемно. Хотя как выехали? Шли пешком прямиком по насту. Тащил отец за собой легкие санки, к которым была привязана корзина, а в ней лежал порожний мешок. Иногда на эти санки садился и Мишка, под гору катился один, вперед отца. Позванивал наст под полозьями санок, светло было вокруг, просторно. А еще не вставало солнце, и заря едва поднялась выше деревни.
Не углубляясь в лес, они одни гуляли по опушке, отец не спеша обрубал нижние сучья у сосен, а Мишка обрывал с них холодные твердые шишки и бросал их в свою корзиночку. Звенел топор в надежных руках отца, дятлы дребезжали на весь лес отщепами, и рокотали, заглушая друг друга, тетерева. По всему лесу цвиркали, свистели и тенькали синицы, стрекотали сороки, перелетали дымчато-малиновые ронжи. И лес, чуткий и молодой, звонко отзывался на всю эту веселую кутерьму. Все было торжество и счастье, все молодо-чутко. Это так поразило Мишку, и особенно то, что вся эта необычная чистая жизнь гуляет каждое утро по лесам совсем рядом – в-за поле.
Но совсем обомлел Мишка, когда оглянулся и увидел, как из-за деревни, спокойно, у всего мира на виду вылезает огромное малиновое солнце. Родная деревня, тихая и безмолвная, четко рисовалась на матово-алом небе каждым домом, и над каждой крышей величественно плыл в чистое поднебесье неторопливый важный дым. Впервые видел Мишка такой свою деревню и впервые узнал, что такое апрельский лес. Все это казалось какой-то нечаянно подсмотренной тайной, о которой люди пока не догадываются.
С тех пор и заболел Мишка весной, лесами, дальними дорогами по звонкому зоревому насту.
Теперь, идя вместе с бригадой в далекий незнакомый лес, Мишка хотел бы не думать о работе, а больше думать о том, сколько таких зорь, утр ожидают его впереди.
Он знал, что леса там глухие, таежные, об этом не однажды вспоминали и отец, и дед. Разговоры о весновке запомнились Мишке хорошо. Когда собирался на весновку отец, накануне, вечером, обязательно приходил дед.
– Ну как, весновальщички? – улыбаясь, говорил он, разглаживал бороду и двигался по лавке к столу. Долго пили чай отец с дедом, вспоминали те верховые леса, реки, дороги по лесам, бараки… Дед припоминал свою молодость, советовал, наставлял Мишкиного отца. А Мишка лежал на печи, слушал их, завидовал и думал с горечью, когда же наконец придет то время, когда он тоже пойдет вот так весновать.
И вот шел.
Но радость была уже не та: и жизнь была другая, и все было другое.
* * *
Жизнь у Мишки не задалась сразу. Окончив восемь классов, он поступил в строительный техникум. Никогда не думал туда поступать, но отослал документы, потому что так хотели отец с матерью. Во-первых, это было близко, в ближнем городе, всегда можно было приехать домой, или отец с матерью могли навестить в выходной. А второе – это уж сообразил отец – коль сын выучится, то и квартиру себе отхлопочет как строитель.
Поступить Мишка поступил. Но это было не более, чем любопытство: как будут спрашивать на экзаменах, сумеет ли пройти по конкурсу, каковы будут первые дни учения, каковы будут студенты, аудитории, учителя?.. Первое время и было интересно – было как-то свободнее, нежели в школе. А потом пошло почти то же: домашние задания, ежедневные опросы в начале урока. Мишка стал прислушиваться к старшекурсникам, заглядывать в их кабинеты, расспрашивать о проектах, генпланах, сметах… И все это вскоре стало вызывать у него скуку, чувство ненужности, мелочности всего этого. Ему было непонятно, зачем строить дома во много этажей и все похожие, прямые, будто квадраты. Никакой красоты и хитрости он в этом не видел и удивлялся, что люди занимаются этим всерьез и даже учатся четыре года. Все это напоминало детскую игру взрослых. Конечно, он стеснялся говорить об этом вслух. Но думал: «Вот если бы учили тут, как рубить дом деревянный, с наличниками, крыльцом, с двором и сеновалом. Какими инструментами работать, как…» Вот тут бы он и сам мог что-то подсказать, что видел у отца и деда, или понять, что они делали что-то не так. Но о плотницком деле в техникуме никаких речей не было. И Мишка понял, что все это не для него. Его и жить не тянуло в таких домах, хотя уже жил – общежитие было в пять похожих этажей, и на пустыре перед ним были воткнуты, как вешки, молодые тополя – на отрост. И деревья эти Мишка не любил – скороспелые, пустые. И в домах, и в деревьях виделась ему какая-то убогость городской жизни: не то безразличие, не то оскудение. Все это давило, наводило еще большую скуку. Он часто путал этажи в своем общежитии, на балконах бывать не любил, становилось неловко глядеть на людей сверху, и часто думал про себя: «Неужели не хватает на земле места, ну строили бы хоть в два, три этажа. Но зачем девять?»
Ни в техникуме, ни дома с отцом и матерью мыслями своими он не делился. Но с каждым днем все больше чувствовал, что куда-то несет его совсем не в ту сторону, что с ним делают совсем не то. Преподаватели и мать с отцом – будто бы все уже давно решили, как ему жить, не спрашивая его, уверенные в себе. И за это Мишка затаил в себе обиду на всех взрослых, за их своеволие распоряжаться чужой судьбой.
Кончилось все тем, что он из техникума ушел. Сам, ни с кем не посоветовавшись (все равно выгонят – решил про себя). И ушел в самое неподходящее время.
Была зима, декабрь, скучные подслеповатые дни. Уже полтехникума перемогалось, болел гриппом и Мишка, чего с ним раньше никогда не бывало. Будто в бреду он собирался домой. И целый день шагал от последней автобусной остановки по пустынному заснеженному большаку. Еды с собой почти никакой не взял, старый домашний чемодан оттягивал руки, перед глазами плыло, а впереди необозримо белели безжизненные поля. Мишка совсем выбился из сил: дорогу замело напрочь, а болезнь, видимо, все усиливалась. К вечеру едва дотащился до леса. Но это был уже свой лес, куда ходили с отцом за шишками. Сколько раз вспоминал его Мишка в городе. И как только дошел, привалился к широкому шершавому стволу сосны и забылся. Так хорошо было. Сосна глухо шумела, иногда стряхивала на Мишку мягкие комки снега, а он сидел и улыбался как блаженный в горячечном полубреду. Стало как-то невесомо легко, будто и не бывало города, техникума. Он не думал о предстоящей ночи: знал, что доберется, пусть ползком (чемодан можно оставить в лесу, никто не тронет). Домой и тянуло, но и боязно было. Что сказать отцу с матерью? И лучшим местом показался сейчас лес: тут можно обдумать все. Мишка наломал сухих сучьев, разжег старой газетой костер и, сев на чемодан, стал греться. Ах, как по-родному трещали сучья, как удивительно пахло дымом! В чемодане была домашняя кружка и пачка сахару. И он решил, как делают охотники, вскипятить чай. Сидел, подкладывал в кружку снег, сахар и помешивал сухим сучочком. А потом пил и пил. Он выпил подряд три кружки сладкой воды, пропотел и забылся коротким сном, сидя на чемодане перед догорающим костром. Спал, потеряв ощущение времени, но удивительно сладко, облегчающе. Может, и сидел-то недолго, но в лесу стало уже смеркаться. Он подхватил чемодан и двинулся дальше. Шел и все дивился: болезни вроде бы уже не было. Была какая-то непонятная легкость и в душе и в теле. И он боялся остановиться, чтобы не потерять всего этого.
К дому подходил в густых декабрьских сумерках. И даже рад был этому: никто не встретит, ни о чем не спросит. По деревне уже горели огни. Со знакомым до боли скрипом открыл он дверь родного дома. Боялся встречи с матерью, чтобы не напугать ее, но она сама вышла на мост, всплеснула руками.
– Совсем?
– Да… – понурил голову Мишка.
– Отцу не говори, – сказала она, будто роковую черту перешагнула. – Умрет, наверно… Как жить-то теперь будем?
Эти слова оглушили Мишку. Невесомо, как во сне, вошел он в избу и увидел отца на кровати, лежащего на спине с закрытыми глазами.
Отца с неделю как привезли на машине. Поздним вечером раздался в мерзлое окно осторожный стук. Мать напугалась, глянула в окно и узнала Княжева. С лесосеки, где отец попал под падающую сосну, его увезли на тягаче в медпункт, а потом отправили домой, и Княжев еще в дороге понял, что везет его умирать.
Мишка не знал, как теперь быть. Отец редко приходил в сознание и ни о чем не спрашивал, а только глядел на Мишку – подолгу, как бы о чем-то молча разговаривая. Он пожелтел, зарос щетиной, исхудал. Все дни в доме было тихо, только изредка мать или Мишка протяжно вздыхали. Медленно тянулся рассвет, а потом так же долго смеркалось, словно и не было дня, а только переход одних сумерек в другие.
Изредка приходила фельдшерица, делала уколы отцу и тихо, будто виноватая, уходила.
Пришел март, в окно заглянуло солнце, и отец повеселел. Мать с Мишкой обрадовались, решив, что пойдет он теперь на поправку.
Но прижали свет снова метели, и однажды ночью, никому ничего не сказав, отец умер.
…Ныли санные полозья, переваливаясь через сугробы, усатая от мороза лошаденка, попыхивая паром, усердно тащила сани с сосновым гробом на сельское кладбище. Как просто и буднично совершался этот извечный обряд. У Мишки не было даже слез, душа, казалось, пропитана болью насквозь, как осенняя полынь горечью. Он считал себя виноватым во всем, считал, что все началось с его ухода из техникума, и боялся взглядывать на мать. Мать видела все это, понимала, но сил жалеть Мишку у нее уже не было. Пытаясь успокоить его, она неожиданно переходила на грубый истошный вой, сгибаясь, закрывала лицо руками, будто пряталась от жизни. А куда спрячешься?
И они скоро поняли это оба. Сиротство заставило обоих по-новому взглянуть вокруг. Удивляясь друг на друга, уже через неделю деятельно взялись они обеспечивать свою жизнь. Будто отодвинули горе и слезы на другое, более позднее время. С утра до вечера пилили дрова, возили на санках солому с фермы, вымыли избу…
Однажды, как раз в сорочины, возвращаясь из села с кладбища, встретил Мишка своего бывшего одноклассника Витьку Шарова. Шаров, окончив восемь классов, жил с матерью, работал в колхозе. Ни уезжать из деревни, ни поступать куда-то учиться не собирался. Жил да и все, особо ни о чем не задумываясь. Даже десять классов не торопился оканчивать. Увидев Хлебушкина, он обрадовался, лихо хлопнул его по плечу и тут же набросился на Мишку, не дав ему опомниться.
– Ты чего тут, на каникулах?
– Да не-ет… В общем, да, – замялся Мишка.
– Ну и правильно! Плюнь на всю учебу, пошли весноваты Скоро котомки на спину, голенища от сапог в руки – и повалили! Через неделю сары[1]1
Сары – деньги.
[Закрыть] в кармане звенеть будут. Идешь? Ракешки[2]2
Ракёшка – водка (жаргон жгонов, пимокатов).
[Закрыть] в лесах попьем, погуляем.
Шаров рассуждал так, будто ему и леса те, и реки, и сама весновка давным-давно знакомы и будто работа эта не более чем прогулка.
– Иди к Княжеву, запишись, и скоро отвалим, – советовал он Мишке все с той же бесшабашностью, улыбаясь широким веснушчатым лицом.
За два поля, которые одолел Мишка против ветра, добираясь до Веселого, он окончательно решил зайти к Княжеву сразу же по пути – благо, жили в одной деревне.
Княжев в свою бригаду не очень-то брал и далеко не всех. Отложив в сторону резиновый сапог, он вздохнул, как-то украдкой оглядел тощую фигуру Мишки и сдался.
– Ладно, собирайся. Как-нибудь… Без отца теперь. Ученье, значит, бросил? Гляди где лучше-то, выбирай. В лесу тоже ребра ломит, еще покрепче, чем в колхозе.
Княжев значился бригадиром сезонников уже больше десяти лет, втайне гордился этим, потому что в деревне был на особом счету: имел право набирать себе, кого захочет.
С отцом Мишки, Андреем Хлебушкиным, они гуляли вместе в парнях. Дружбы особой не водили, но и по праздникам морды друг другу, как это частенько бывало здесь, не били. Уважали один другого на расстоянии, по-мужицки, и никогда эту условную межу, разделявшую их, не переступали.
Княжев и с Мишкой нянчиться не собирался, пусть видит все сам и соображает.
* * *
Они уходили все дальше от родных мест, и Мишке казалось, что теперь он навсегда удаляется от прежней жизни, навсегда отрывает себя от детства и всех неправильностей, что были с ним. Миновали поля, овраги, перелески, колокольни церквей в селах… Не останавливались даже у магазинов, хотя наверняка кому-то и надо было кое-что купить. Княжев думал об этом, но боялся: вдруг соблазнятся, купят водки, а этого в дороге никак нельзя. Надо было идти и идти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































