Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
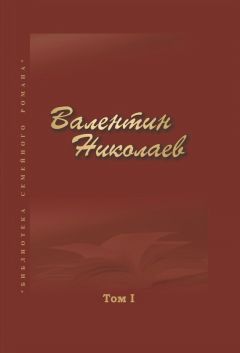
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц)
– Так продавать-то все равно не надо было! – вновь начал набирать тон Паня.
– Нельзя?.. Дак умирать, что ли, мне? Я двое суток с кровати не вставал, помирал уж. Еды никакой, и пособить некому. Хорошо вот Серега-то на лодке приехал. Я ему пакли тючок, а он мне и сахару, и хлеба, и чаю – всего привез. Вот спасибо-то, уж удружил дак удружил. Как тут не давать! Вы что… Как здоровьишко-то, Василий Степаныч? Ничего? Не хворай. Ой, дак нехорошо, скажу тебе. Я думал, что все – помираю. Только вот сегодня и сбрел. – И Тришка, которого совсем высосала болезнь, неожиданно улыбнулся своей обычной улыбкой.
Тришка о своей болезни не врал. В самую середину лета, когда стоял он под погрузкой в Костроме, его скрутило основательно. Прямо с баржи увезли его на операционный стол. Отрезали там половину желудка и сказали, что плавать, пожалуй, хватит. Баржу в затон увели без него, и начальник поставил на нее временно другого шкипера. Хотя как временно: такую болезнь, как у Трифона, скоро не излечишь, а навигацию можно ли остановить?
Шел уже август. В короткие беззвучные ночи остывала земля, просветлялась вода в реке. Как-то вечером, когда мы вышли из нашего «речного клуба», увидел я, что капитаны окружили кого-то.
– Откуда?! Пешком прибежал? Качать его!.. О-гой! – и кого-то легко, будто пустую одежку; начали подбрасывать вверх.
Когда все стихло, я пробрался в центр круга.
– Гы-гы… Ребята!.. Убежал, там не житье. Как узнал, что баржа опять в Костроме, так и побег. Наукрадку, вечером, а то разве бы отпустили. – Тришка передохнул и опять с удовольствием рассказывал. – Помаленьку ем уж, яички, молочко… Ничего – примает, супчик жиденький можно. Может, поправлюсь…
Как его высосала болезнь! Он был худ как подросток. Среди капитанов стоял в полосатой больничной пижаме, в таких же обвислых штанах и тапочках на босу ногу. А они, дивясь его странному наряду, дергали его то за рукав, то за полу, поворачивали в свете луча, бьющего из дверей сарая, и взрывались всеобщим хохотом. Тришка смущенно и счастливо гладил свою побелевшую лысину и шатался от каждого подергивания.
В больницу он больше не заявлялся, а обменять больничную форму на свою шкиперскую посылал кого-то из знакомых капитанов. Баржи он не бросил и уходить на берег не собирался. Его и не гнал никто. За ранними холодами на реку неожиданно снова прикатило тепло, и Трифон с этим поздним теплом опять стал наполняться жизнью.
Тихим сентябрьским вечером, когда над носом Тришкиной баржи толклись в теплом воздухе комары, сидели мы с ним на крышке люка и ждали катер. Катер, отработав дневную смену на запани, должен был отбуксировать нас и отвести в затон. И ожидание это, и сама буксировка были делом нехитрым и нехлопотным. И ремонт требовался Тришкиной барже тоже невелик: приварить оторвавшиеся стойки лееров, выправить или заменить погнутые – вот и все.
Мы сидим с Трифоном, поглядывая на стихающую реку, провожаем день. Трифон плетет корзину, ловко похлестывает таловым прутом по крышке люка, крутит остов корзины, «кости»-стойки поправляет. Хорошо плетет – чисто, гладко.
– Трифон Северьяныч, где ж ты так ловко научился?
– О-о, Ва-аня!.. Поживешь с мое – не тому научишься. Я ведь еще до войны плавал, как ты, молодой был.
– И в войну плавал?
– Нет, не плавал. А первую-то зиму так всю на барже просидел.
– Как это просидел?
– А я тогда все лето в верхах был. И не знал, что война началась. До осени простоял, все жду да жду, а катера все нет да нет. Телефонов тогда в верхах не было, в глухомани-то. А народ те-омный, епельки. Груз какой-то в бочках у меня был, не помню уж и какой, знать, живица. Что делать? Зима скоро. Дай, думаю, своим ходом пойду.
– Самосплавом?
– Ага, поднял якорь, и понесло. Подумываю – если катер пойдет за мной, так увижу, встретимся, река-то узкая там. Плыву помаленьку, а на реке пустота, никого нет, один я. Чего-то, думаю, неладно. День плыву, ночь стою. Долго так-то, есть надо чего-то. Схожу ночью-то в поле, картошки накопаю наукрадку, и снова плыву. Потом пристану, да грибов пойду искать… Вот так и спускался.
– Так неужели уж тебе не сообщили, что война?
– А как? Забыли, видно, обо мне. Война – суматоха поднялась, до меня ли! Катера нет, а судно-то не, бросишь. Ох, Ваня, настрадался я тогда! Правда, баржонка была махонькая, поменьше еще вот этой, но ядреная. Вот в ту пору и научился всему. Плыву и плыву, правлю чуток, чтобы стрежнем-то, а далеко-о еще. Неужели, думаю, не вспомнят? Заморозки уж стали прихватывать. Сало несет середкой, а я все плыву… Ну, думаю, нечего делать, к зимовке место выбирать надо.
Приметил заливинку тихую, потолкался шестом к берегу и бухнул якорь. Деревня недалеко, если что, думаю, с голоду помереть не дадут. Три дня ждал, когда лед установится, окрепнет, потом пошел в деревню-то. Иду, и качает как на качелях, – Тришка усмехнулся. – Совсем оголодал, силы-то нет. Кое-как добрел до риги, в овине, помню, полежал на снопах льняных, уснул – поотдохнул маленько. Тогда уж и дошел до крайнего-то дома. Накормили меня. Сказали, что война. Опять у меня слабость.
А село большо-ое у них, базар даже был. Сижу я на барже, дров наготовил, печка есть, а кусать нечего. Картошку в полях уж вырыли, да и снег выпал. Гляжу, остров недалеко по реке, ниже-то меня, пошел я туда да такого, чудак, тальнику, виц нарезал. Ох, и накатал! Как, думаю, тащить-то теперь? Два пучка принес, а больше не могу. А дай, думаю, санки сделаю – попробую хоть. Сходил в лес, кокори вырубил, катыш березовый у меня был на копылки-то. И сделал! На них, на санках-то, все и перевозил. Сижу, корзинки плету, печку топлю. А как воскресенье – я корзины на санки и на базар!.. На деньги-то муки накупил, картошки, луку, мяса даже. Потом рыбу из лунок стал дергать. Что ты, зажил! Разузнали, прямо на баржу стали приходить за корзинками-то, только давай! Иное воскресенье дак прямо с санками заберут. А я и санки уж научился делать – берите, не жаль, так до весны и жил. А весной со льдом спустился прямо к затону. Во как!
– На фронте-то был?
– Нет, на действительную не взяли. А на трудфронт Пригодился – ходил, как же: копал!
Трифон уже заканчивал свою корзину, обрезал с готового дна хвостики талинок. Корзиночка была гладкая, пузатенькая, той незаметно-вместительной и красивой формы, которую особенно любят грибники. Катера мы так и не дождались в тот вечер, легли спать.
В маленькой каюте было тепло и тихо. Мне трудно было привыкнуть к тому, что рассказал Трифон. Как-то не вязалось все это с его разбитным характером, со всем его бесшабашным обликом. Будто рассказал он все это ком-то другом, а не о себе.
Я старался представить, как много всего видел он на этой реке, сколько навигаций прошло с той далекой довоенной поры… Но не висит это все на нем грузом, не давит, не тяготит. Живет он каждый день – будто жизнь свою начинает заново.
Буль-БуляВ марте, когда постихла метель, меня послали в Загривье. Поселок этот в двадцати километрах от нашего был тоже речным, и там тоже зимовали некоторые наши суда. Пора было и их ремонтировать к навигации.
Приехали мы туда к вечеру, и всей бригадой «определились на постой к шкиперу Буль-Буле, брандвахта которого зимовала там в Загнутом озере. Конечно, это было не озеро, а старица, иначе как бы туда Буля попал. Но звали озером.
Встретил он нас без особого восторга. Его вообще мало что волновало. На мир он смотрел просто и, кажется, немного устало. Всю жизнь он был шкипером и знал, что это с ним будет всегда, пока он ходит и дышит. Его не тяготила и не радовала эта работа, и, казалось, воспринимал он ее естественно, как воздух, как вечное течение реки. Если бы невзначай спросили Булю, работает ли он, вряд ли бы он сразу ответил утвердительно: он жил на реке, воспринимал ее заботы и радости как должное, и все это – без глубоких раздумий, волнений. Был он из тех втянувшихся шкиперов, которых нельзя уже переводить на другую работу (все равно он до конца дней останется шкипером), нельзя ставить и на новое судно. Сколько раз бывало: списывают старую посудину на дрова, а шкипер (как правило) без радости идет на пенсию. Разломали, испилили полугнилую баржонку, смотришь – умер и шкипер.
Но Буля был далеко еще не старик, еще трудно было и сказать, когда она к нему, старость, придет.
Бригада моя, разобрав несколько машин для ремонта и получив необходимый для прожиточного минимума аванс, устроила лихой праздник с пляской. И с продолжением… Пришлось срочно провести собрание.
Был на нашем собрании и Буля. Он стоял в полуоткрытых дверях и в особо острых моментах нашего разговора предупредительно (а может, одобрительно) покашливал. Но говорить, как и положено по штату, не решался. После собрания страсти поулеглись, жизнь наша и ремонт продолжались.
У каждого шкипера есть странность. Была она и у Були. Он очень любил сорок.
Стояли звонкие зоревые утра. Уже крепок был наст, и не только на открытых луговых гривах, а и в лесу. Дятлы так яро зноздили по вершинам сосновых сухар, что заглушали голос диктора и музыку физзарядки, которую ежедневно доносил из поселка радиодинамик.
В такие утра, поднявшись всех раньше, Буля подолгу стоял на верхнем обносе брандвахты, слушал и смотрел в кусты, где с треском перелетали сороки и ронжи. Что его привлекало в этих птицах, не знаю, но когда я подходил к нему, он тыкал в сторону кустов твердым скрюченным пальцем и говорил азартно.
– Вон, вон она… Жар-птица, смотри! – и широко улыбался, показывая крепкие желтые зубы. Смотреть он на них мог целый день, как ребенок, а сам – будто из камня. Косолап, приземист, широк в кости и, неповоротлив. В беседе не говорит, а булькает что-то, любит всех угощать, поэтому почти к каждому слову прибавляет: Ты будешь чаю-то? Бушь? Приходи давай, если бушь». Может, за это «бушь» его и прозвали Булей.
В отличие от многих шкиперов Буля не пьет и не курит, не ловит рыбы, хотя уху любит. Рыбу он покупает. Конечно, если быть до конца справедливым, он еще страшный лодырь. И лень у него какая-то особенная: спокойная, деловая, пожизненная… Одним словом, шкиперская. В этом отношении его ничего не брало: ни то, что по летам на его брандвахте жил диспетчер флота, ни мое постоянное присутствие вот сейчас. Говорить ему тоже было как будто лень. Однако он любил, когда что-то говорили другие, с удовольствием выслушивал, даже если его ругали. Стоит, переминаясь с ноги на ногу, и чем больше его ругаешь, тем шире улыбается. Потом скажет что-нибудь, булькнет «ни к селу, ни к городу», покашляет и пойдет к себе, спать. Тяжелый, подолгу не бритый, ходил он как-то очень прочно, рассохшиеся половицы под ним стонали. Как и многие шкипера, Буля прижимист. Больше всего на свете он бережет свою кладовку – шкиперскую. Никогда туда никого не пустит, сходит сам, принесет что надо, и опять повесит замок. А замок – с лапоть, как говорит Строповна. Ну, это и понятно: в шкиперской у Були все – белье, чайники, кружки, одеяла, спецовки, радиоприемники, веревки, скатерти, лампочки… Да мало ли что там может быть у шкипера! На то она и шкиперская. О содержании шкиперской не знает никто, кроме самого шкипера да еще ревизора и то лишь в момент инвентаризации.
Закончив ремонтные дела, бригада наша уехала обратно, и на брандвахте у Були стало тихо. С началом навигации ушел от него и я, жизнь моя переместилась на катера. Вернулся я к Буле уже летом, когда начался молевой сплав и брандвахту его перевели из заводи в реку – поближе к запани. Все это время каюту мою он держал на запоре и, когда я появился, с радостью открыл ее. Отдохнув немного от весенней суматохи в этой тихой угловой каюте, я снова стал пропадать на теперь уж не на катерах, а на сплоточных машинах. И получилось так, что, наблюдая за другими, судами и машинами, я совсем забросил собственную брандвахту, на которой жил, то есть брандвахту Були. А беспорядок у него был страшный. Как жил он зимой спустя рукава, так и теперь продолжал в том же духе. Попутно я ему не раз говаривал, что надо, мол, навести порядок хотя бы на палубе, но Буля только улыбался, и я все откладывал серьезный разговор с ним. Наконец меня прорвало.
Накануне на запани сломались сразу две сплоточные машины. Я бегал к телефону, звонил в затон, потом ездил туда сам, привез запчасти, несколько электромоторов, редуктор… Вторые сутки мотался без сна, к Буле пришвартовался на катере утром и сразу зашел в котельную, чтобы передохнуть тут, подытожить все в прохладной тишине. Поотойдя немного, я оглядел котел, насосы, в каком это все виде оставлено на лето. Не ахти как, но главное Буля сделал: закачал воды в котел, вычистил топку, перекрыл, где надо, краны. Но по всей котельной валялся мусор от дров, зола, окурки, старая ветошь. Измученный заботами и бессонницей, а главное от сознания того, что такой непорядок у меня под боком и виновник всего этого стоит рядом, не испытывая никакого угрызения совести, я набросился на Булю:
– Лодырь!.. Два месяца котел не топишь, а не можешь прибраться тут. Окурки хоть бы вымел!..
Буля слушал, глядел мне в глаза и улыбался.
– Чему радуешься?
Переступив, Буля сказал:
– Вот метлу наломаю, тогда вымету… Нету метлы-то.
– А лесу на берегу тебе мало? Или дня не хватает нарубить да связать ее?
Буля не уходил, и я распалялся все больше.
– Что ты ходишь, как во сне? Чтоб завтра все чисто было! И в каюте у меня… Ведь как арестанта содержишь! Ни занавесок, ни радио! Воды напиться не из чего.
От усталости я еле стоял на ногах, а Буля блаженно улыбался, показывая широкие, как у бобра, зубы. Это совсем вывело меня из терпенья, и, чтобы не натворить беды, я хлопнул дверью и пошел к себе. Меня шатало, и я тихонько отталкивался от стен, идя в конец длинного, как туннель, коридора к своей каюте. Только тут я догадался, что шатает меня не только от усталости, но и от голода: уже целые сутки я ничего не ел.
Я открыл дверь и остановился: пол в каюте был мокрый, по нему только что прошлись шваброй, на окнах висели легкие голубые занавески. Стол был накрыт новой скатертью, а на скатерти в самом центре круглого стола из пузатой трехлитровой банки с водой разлаписто торчали огромные ветви сосны. Они были стары, наломаны крупно, безо всякого вкуса и разбора, будто медведь все это делал. На тумбочке, покрытой зеленой салфеткой, стоял полный графин воды и пыльный стакан. Я прошел на середину каюты и встал, ощущая прилив стыда и сдерживаемой нежности к Буле за его неожиданное внимание.
А Буля (он пришел следом за мной) робко переминался у раскрытой двери и ждал. А я не знал, что говорить. Тогда он вздохнул и, ткнув пальцем в центр каюты, сказал:
– Вишь, букет тебе наломал… Повеселее будет. Буке-ет, – ткнул он еще раз в сторону стола, будто я не видел. Так и не решившись ступить на мокрый пол каюты, добавил. – Бушь ли ухи-то? Приходи, если бушь… – Тяжело повернулся, и половицы в коридоре заскрипели.
– Буке-ет… – повторил я медленно и рассмеялся.
* * *
Лето мы с ним прожили мирно. В конце июля к Буле приехала дочка Марина. Скуластенькая, с узким разрезом карих внимательных глаз, она очень смахивала на самого Булю. Четко выстукивала по палубе босоножками на толстых каблуках под расклешенными светлыми брючками. Училась она где-то в Костроме, не то в техникуме, не то в училище, и теперь была на каникулах. С ее появлением не только Булина и моя каюта преобразились, а и вся наша брандвахта как бы посветлела. Сам Буля стал чаще бриться и прилежнее относиться к порядку. Может, она ругала его, а может, ему стыдно было, но Буля скоро соорудил две метлы и даже швабру новую начал делать. В каюте моей, как и в Булиной тоже, вместо обсыпающихся сосновых лап появились букетики из скромных луговых цветов. Когда я заходил к Буле, у него из старенького многоволнового приемника с хрипотцой выплывала неясная музыка или лирическая песня. И Буля с робко-радостным почтением приглашал меня пообедать. Если выпадало время и я оставался, то все мы были довольны. В такие редкие часы в каюте у Були поселялся как бы тихий семейный уют.
* * *
С весны до осени Буля ходил в излюбленной своей форме: в кирзовых сапогах и в ватной с бараньим воротником тужурке – одежке, представляющей собой что-то среднее между пальто и фуфайкой. На ней, этой фуфайке, застиранные пятна краски, смолы, попахивает от нее керосином, соляркой и даже рыбой, хотя Буля ее и не ловит. Буля не очень доверчив к теплу и поэтому снимает свою униформу только в самую жару, когда на бортах брандвахты вытапливается смола, а в реке начинают купаться самые последние трусы. В такое благодатное время Буля, положив черный шевиотовый картуз на колени, весь день сидит на палубе в застегнутой наглухо косоворотке.
Загорелые парни и девки, разбегаясь по сходням, с уханьем кидаются за борт, а Буля наблюдает. Время от времени улыбка с его скуластого лица исчезает, и он кричит вдогонку несущемуся парню:
– Куда ты летишь?! Башку-то раскроишь!.. Я тут якорь положил. – Но замечание его всегда опаздывает, последние слова он произносит, когда над палубой мелькают две розовые ступни и взлетает фонтан брызг… Буля стирает со своего картуза капли и опять широко улыбается.
* * *
Это была та навигация, когда осень настала рано. В конце октября почти все суда были уже в затоне. Рекой несло сало, замерзли в лесах озера, серебряными гирляндами обвис веревочный обнос нашей брандвахты.
Всю ночь нас спешно тащили к затону два катера. Один буксиром, второй толкачом. На запани лес кончился, делать теперь здесь мне было нечего, поэтому я перебирался в затон вместе с Булей. Мы не спали всю ночь. В непроницаемой сплошной темени ломался, шуршал вокруг брандвахты лед. В отопительной системе у Були сломался в последние дни подкачивающий насос, заменять его было некогда да и не имело смысла, поэтому на всей брандвахте царил холод почти как на палубе.
Буля, прохаживаясь по палубам, ежился в своей извечной тужурке, кутался в бараний воротник, проверял, как заделаны чалки и буксирный конец. И не зря проверял – ждал, значит.
В середине пути лопнул буксирный трос, и мы в кромешной темноте выбирали его, распутывали, наскоро связывали узлом…
Привели нас в затон в полночь, и оба мы, измученные дорогой, разошлись по своим каютам. Раздевшись при, свече, я положил поверх одеяла запасной матрац и шмыгнул в постель, как в нору. Не скоро, но согрелся, уснул, однако все время чувствовал на себе тяжесть, будто медведь придавил меня сверху.
Проснулся я от холода и ощущения бесконечной тяжести. Выглянул из-под матраца – было еще сумеречно, дыхание обращалось в пар. И все равно я почувствовал себя совершенно счастливым: «Сейчас пойду в поселок, позавтракаю, куплю себе сигарет и отправлюсь к коменданту. Он выделит мне в общежитии комнату, и я начну перетаскивать туда свои холостяцкие пожитки». Но главная моя радость была, конечно, в другом: и даже сам об этом подумывал с опаской, чтобы не сглазить. В эти дни должна была приехать она, моя девушка. Все лето мы писали друг другу письма, а она все собиралась приехать и все откладывала: «Приеду с последними пароходами», – наконец написала она. «Может быть, сегодня, – подумал я, – и тогда мы вместе будем устраиваться на берегу, как все люди».
Вставать было еще рано, да и не хотелось оставлять нагретое место. В предчувствии близкой радости я снова уснул спокойно и расслабленно, как всегда в конце навигации, когда нет уже срочных дел.
И вот кто-то осторожно постучал в мое окно, вкрадчиво так, почтительно.
– Кто? – крикнул я, не высовываясь из-под матраца. – «Не она ли? Вдруг…» – и я не стерпел, выглянул, заслонив робкий дневной свет, в проеме оконной рамы стоял Буля. Он улыбался и загадочно звал меня пальцем.
– Иди… Жар-птица! Под самое окно пожаловала, – пробулькал он сквозь мерзлое стекло.
– Тьфу, черт косолапый! – выругался я. – Опять сороку увидел.
– Что ты выдумываешь! – закричал я на него. – Дай хоть здесь отоспаться, какая еще жар-птица!
Буля отошел от окна, а я подумал: «Не она ли? Может, вчера и приехала? У этого чудика хватит ума, еще отошлет обратно». Досадуя на то, что не спросил как следует сразу, я лежал, неловко опершись на локоть, и уже устал держать на себе тяжесть матраца, когда Буля, словно тень, надвинулся на стекло снова.
– Вон, вон она! Плавает у самого борта! Тебя ждет, давай скорее! – махал он за стеклом.
Я понял, что это утка. Вскочил и, скоро надев каленные холодом штаны и фуфайку, выхватил из шкафа ружье. Один патрон сунул в ствол, два других про запас – в карманы, схватил чайник, чтобы напиться, но вода в нем замерзла, и я, зло бросив его на стол, выскочил на палубу.
– Где?
– Вон, вон плавает!.. – шустро шел по обносу брандвахты Буля и тыкал перед собой скрюченным пальцем. Теперь уж я не сомневался, что это была какая-то дичина.
В парящей полынье, метрах в сорока от нашей брандвахты, плавал маленький нырок из породы морской чернети. Спокойно оглядевшись вокруг, он нырнул и тут же снова появился в середине полыньи. Я поднял ружье. Выстрел в морозном воздухе прозвучал коротко, будто тявкнул, резко, грубо толкнул меня в плечо. Я сразу почувствовал, что стрельнул зря. И правда, прежде чем дробь сморщила черную воду, вместо утки расходился в полынье плавный кружок. Сунув новый патрон, я прицелился пониже, нажал – и опять зря.
Буля стоял рядом и улыбался.
– Жар-птица… – поглаживая твердую небритую скулу, заметил он мне, когда я поспешно совал в ружье очередной патрон. Мне даже показалось на миг, что Буля заранее знал все и вызвал меня из каюты так, чтобы просто потешиться, потому совершенно и спокоен за свою жар-птицу. «Ну нет! – входил я в азарт, – знаем мы как надо…» Когда утка вновь показалась из воды, я коротко крикнул и одновременно прихлопнул по перилам брандвахты ладонью. Утка сразу нырнула, а я спокойно поднял ружье и замер. Едва она выявилась из воды я нажал на спуск. И конец бы всему, торжествуй моя душа! Но от поспешности я сдернул прицел, и утка опять булькнула невредима. Буля довольно покашлял и торжествующе переступил с ноги на ногу. «Скажи еще – жар-птица!..» – с мальчишеской обидой подумал я и прислонил пустое ружье к стене. Патронов больше с собой у меня не было. Надо было идти за ними в каюту. А стоит ли? – подумал я, – вся-то утка с галку, ну чуть побольше… Какой от нее прок». Только теперь по-настоящему я огляделся и увидел, как крепко мороз заковал затон темным полированным льдом. Накрепко, будто в конце ноября, схватил льдины и шугу, набитые сюда ночью. Однако с реки доносился еще приглушенный шорох – это на повороте шарило ледяным салом о твердеющий берег.
И я снова подумал, что навигации конец, вот-вот станут на прикол пассажирские суда, и если приехать ей, так только сегодня.
Затонские пассажиры, собравшиеся в город, уже стояли на причале и, облокотившись на перила, наблюдали за моей стрельбой. Бревенчатый причал был рядом, и им хорошо все было видно. «Потратить, что ли, еще патрон, – подумал я. – Конечно! Приедет она – а у меня и дичь готова!» Эта мысль так подогрела мое воображение, что я решительно двинулся в каюту.
Когда стрельнул я еще раз (и, конечно, мимо), уточка поднялась и, к удивлению пассажиров, села совсем недалеко от причала.
– Давай сюда, рядом! – замахал мне с причала какой-то парнишка. Я стоял и раздумывал, идти мне туда и опозориться на всем миру окончательно или унести ружье в каюту. Все охотники знают этих уток и знают, что от стрельбы по ним толку мало. «Но ведь людям разве докажешь?» – думал я. А доказать, уж коль снялся, так и подмывало… Но тут, видимо, уловив мою нерешительность, лихой наш плановик Максим Снопихип, бывший среди пассажиров, крикнул мне:
– Подожди, не шугай! – и опрометью кинулся в поселок. Скоро он вернулся к причалу на мотоцикле с двустволкой и с младшим сыном. Заглушив машину, он подошел к краю причала; старушка, стоявшая тут, молча посторонилась, и Максим выстрелил. Уточка лихо скрылись под водой, а на причале возник легкий смешок. – Ишь какая молодец!..
– Сейчас… – оправдывался Максим, заряжая оба ствола. – Бивали и не таких! Но в следующий раз первый ствол у Максима дал осечку, а второй он так же, как и я, видимо, сорвал.
На причале уже все окончательно отошли ото сна и смеялись легко и весело. Уйти от всего этого в каюту было невозможно, и я медленно пошел по затвердевшему песку к причалу, придерживая на плече ружье.
Разгорячась, плановик палил раз за разом, и весь причал после каждого выстрела оживал, ликуя. А утка будто игру затеяла: легко скрывалась и выныривала, возбуждая всеобщее одобрение. Но вот из затона пошел полным ходом перевозный катер, по тонкому льду побежали темные трещины, лед начало корежить, сдвигать к берегам и в самую полынью. Уточка с тревогой заозиралась, крутясь на одном месте, и вдруг легонько шутя как-то взлетела и низом потянула из затона к реке.
И тут совсем буднично хлопнул выстрел, и она словно споткнулась о хлопок, легонько плюхнулась край полыньи.
– Ай! – вскрикнула вместе с выстрелом старушка. – Да что это ты, милая, оплошала-то как! – сказала она так, будто никого, кроме нее, на причале не было. Оглянулась и смутилась.
Но все молчали, будто еще не верили, ждали… Перевозный катер сбавил ход, и матрос, выйдя из рубки, багром достал с воды утку. Тихим ходом подошел катер к причалу, и утку подали плановику в руки. Он положил ее на поручни как бы для всеобщего обозрения и стал закуривать. Никто не подошел, не потрогал белоснежных перьев завернувшегося крыла, с которого стекала розовая сукровица. Все глядели будто бы мимо, куда-то вдаль.
Доходил уже десятый час, по расписанию теплоход давно должен был подойти, но его все не было. Докурив, плановик бросил окурок за борт, взял нырка за темные лапы и молча прошел мимо всех к своему мотоциклу. Так же молча они уселись с сыном в трехколесную машину и, постреливая выхлопом, укатили по песчаной смерзшейся дороге в поселок.
И никто не обернулся на них, а по-прежнему все глядели на черную пустоту полыньи. Иногда в нее соскальзывал со льда коробленый дубовый лист, ветерок подхватывал его, и он весело, как детский парусник, скользил все дальше от ледяного края. Как-то разом, онемело вокруг, надолго замкнулось, и никто из стоящих не пытался нарушить эту немоту. Редко, медленно пошел первый снежок – совсем неожиданно, будто во сне. И опять никто не удивился, ничего не сказал, а так и стояли все по-прежнему покорно, будто лошади у коновязи, глядя, как все медленнее, тяжелее скользят по белеющему на глазах льду дубовые листья. Теперь они уже не добегали до воды, а, обессиленные, останавливались среди льда, и сразу возле них начинало расти и шириться белое пятно снега.
Скоро все сделалось однообразно буднично, как зимой. И всем стало ясно, что теплоход сегодня не придет, как не придет он и завтра и послезавтра – началась зима.
Медленно, ничего не говоря, все пошли от причала и, горбясь, задумчиво потянулись по белой земле к поселку.
Оставшись на причале один, я наконец, со всей ясностью осознал, что она ко мне не приедет никогда. Я стал думать о том, как мы с ней познакомились, как долго ходили по улицам ее города, рассказывая друг ругу о себе. Она работала лаборанткой в НИИ, гордилась своей близостью к ученым и инженерам, была убежденной горожанкой, любила свой город, театры, кафе, любила ходить по магазинам и в гости. А когда я рассказал ей о своей работе на реке, о баржах, матросах и шкиперах, она как-то надолго замолчала, и видно было, что это ее поразило и даже напугало. Я ждал ее, надеялся, что она увидит все и поймет и, может быть, изменит свое мнение…
Теперь я отчетливо осознал, что делать ей здесь, действительно, нечего. «Что ей до меня, до этих людей, барж, брандвахт, замерзающей реки…» Я вдруг увидел ее всю, целиком, в ее уютной городской квартире, в кругу друзей, удобств…
Снег все валил и валил. Затон уже был белый, мрачно чернела только полынья да извилистый след во льду после катера.
Устав ждать меня, тяжело пришел на причал и Буля. Постоял немного рядом, поглядел вокруг, спросил:
– Убили?
– Плановик перехитрил.
Он собрал с поручней причала снежок, подержал его в руке, сминая, бросил к ногам и протяжно вздохнул.
– Не приедет она, – сказал я ему.
– Конечно, не приедет, – ответил он так убежденно и просто, что у меня совсем не осталось никакой надежды, и обида сдавила мне горло. Я стал думать о долгой зиме, которая вот уже наступила, и которую придется коротать одному.
– Зима, – сказал я с кротким примирением Буле.
– Знамо, зима, – ответил он опять как-то твердо. Потоптался немного, собираясь уходить, и вдруг выпалил со злом, обидой:
– Вскочил! Расстрелялся!.. Спал бы да спал. А то…
– Но не я… Ты же сам!
– Сам, сам!.. Не ты бы, дак ничего и не было. Этот живодер кого хоть убьет… А то вскочил, расстрелялся.
Он пошевелил крутыми плечами, поднял воротник и медленно тяжело пошагал опять на брандвахту.
Снег уже совсем придавил застрявшие на льду листья. Я дождался, когда скрылся под белым покрывалом последний оранжевый, похожий на птичий клюв кончик листа, стряхнул с рукава снег и пошел к коменданту в поселок, забыв о висящем на плече ружье.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































