Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том I"
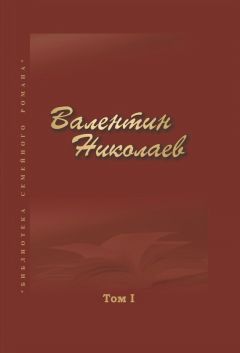
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)
Не хватало всего этого и Константину. Когда однажды я зашел к нему, то удивлен был его видом: он постарел, осунулся, стал просто старик, а не шкипер. Не было уже в нем прежнего задора, победной уверенности в себе… Что-то сломалось в нем. Он сдался. Всегда это больно видеть в человеке, тяжело было смотреть и на Константина. Его ничего не интересовало, о брандвахте он говорил мало, без охоты. Одно только его беспокоило:
– Надо переделывать отопительную систему. С этим котлом на берегу нельзя, сгоришь…
Как узнал я после, говорил он об этом не раз, и не только мне, а всему начальству, какое бывало у него. Но стояло лето, нужды в отоплении не было. И самое главное, не было теперь у брандвахты хозяина: из списка судов ее уже вычеркнули, а береговым властям так еще и не передали, не оформили актом. Как-то я заикнулся об отоплении у начальника в присутствии технорука. Они переглянулись и сделали вид, что говорить об этом не стоит.
– Осенью что-нибудь придумаем, – сказал технорук. И я понял, что вопрос этот у них уже решен. Как это часто бывает, мы тянули время, ждали осени, чтобы Константин у нас доработал навигацию. А там… А там видно будет, пусть новые владельцы и заботятся сами… Примерно также, наверное, думали и береговые хозяева нового жилья.
Но подошла осень, и новые заботы захлестнули всех. Нам надо было думать о стягивании флота в затон, о расстановке судов на зиму, о подготовке их к ремонту, об отпусках плавсоставу… Тут уж о Константиновой брандвахте забыли вовсе: ему-то ледостав больше не угрожал. А потом поднялась канитель с топливом, затеянная Боцманом, – там и вовсе стало не до Константина.
* * *
Октябрьские праздники большинство судов встречало уже в затоне. Как обычно, на эти дни был назначен по затону старший дежурный. Нынче им оказался наш плановик Максим Снопихин, известный всему затону как азартный охотник и игрок в карты.
Когда в клубе закончилась торжественная часть и люди устремились к своим праздничным столам, Снопихин из-за стола уже вылезал. Как главный страж флота, он помнил свое дело и знал, когда его надо вершить.
Еще накануне он забрал со склада у Чугунова списанные за истечением срока сигнальные ракеты. Теперь, посадив за руль мотоцикла своего старшего сына, приехавшего на праздник из института, Максим будто в розвальни ввалился в коляску, запахнул шубу и скомандовал: «На берег!»
На полной скорости мотоцикл с ревом летел вдоль спящих судов, плановик палил из ракетницы в черное небо, и огни, отпугивая тьму, освещали кресты мачт.
– Вон плановик пыль в глаза начальству пускает, – говорили люди, расходясь от клуба.
«Задав страху», Снопихин на той же скорости вернулся к застолью. Потом играл с домашними в преферанс. Дома было жарко натоплено, и Снопихин в эту свою празднично-рабочую ночь еще дважды выезжал на моцион, освещая салютом полночные суда.
Долго еще потом вспоминали об этой пиротехнике. Оно, может быть, и не вспоминали бы, не смеялись так, если б наутро, придя в затон, не увидели все, что одна из брандвахт, стоявшая у другого берега, ушла под воду по самую крышу. Стали искать Максима, нашли его дома, спящим глубоко и праведно возле колоды карт на стуле.
Шкипер затонувшей брандвахты, наверное, единственный человек, ночевавший в эту ночь на своем судне, слегка подмок, но выбрался на берег. Выбирался уже на затопленной лодке. Роковым образом не везло ему в эту навигацию! Весной он утопил свой катер, а теперь, в самом конце навигации, затонула и брандвахта. Напуганный, он до утра сидел на берегу, с надеждой глядя в сторону караванки. Он даже кричать не решался, а терпеливо ждал рассвета.
Не успели мы опомниться от этой беды, как из главной конторы позвонили: «Ночью сгорела ваша брандвахта на берегу у дороги!» Сердце во мне упало – это была брандвахта Константина.
Мы выехали туда втроем: начальник затона, я и милиционер Паня. По смерзшейся дороге грузовик рвался сквозь притихшие перед зимой леса. Паня, придерживая на коленях прыгавшую сумку, о чем-то сосредоточенно думал и иногда загадочно улыбался, глядя в глубину леса. Мы не разговаривали. Начальник сидел в кабине с шофером.
Часа через полтора выехали из леса и остановились на краю бора, на самом возвышенном месте. Река открылась нам пустынной, безжизненной, с пологими скучными берегами. Не было на ней уже запани, никакого движения – не наша теперь была эта река, не навигационная.
Видна была как на ладони и брандвахта Константина, вернее, то, что от нее осталось. На сахарно-белой Палестине прибрежья, как сгоревший пирог на скатерти, чернело пожарище. А от него, слабым пунктиром испятнав скатерть, будто бы бежали прочь два обгорелых черных паука. Они отбежали одинаково и, застигнутые жаром, как в предсмертной судороге, вцепились всеми лапами в холодный песок. Это были теперь уж окончательно никому не нужные якоря на цепях врастяжку. В воздухе, стояла осенняя, как бы стеклянная, ясность, голы были кустарники в лугах, скупо блестели среди них озерины, отражая холодный блеск уже низкого солнца. По очереди оглядывая пожарище, мы молча передавали бинокль из рук в руки, вздыхали и притопывали зазябшими без движения ногами. Возле пожарища никого не было, только два человека сидели на бревне поодаль и глядели на овально-черный дымящийся след брандвахты. Конечно, это были Константин и Павла. Они терпеливо ждали своей дальнейшей участи.
– Чисто! – сказал начальник со скорбным, будто на похоронах, лицом и, шагнув, положил бинокль в кабину.
На берег мы пошли пешком, по панелям. Увидев нас, Константин не удивился, не вышел из своего равнодушно-печального состояния.
Мы спросили, нет ли жертв. Слава богу, их не было; только один капитан, ночевавший у Константина, прыгая с верхней палубы, сломал ногу. Его увезли, в больницу.
– Кто поджег? – спросил Паня.
Константин молчал. Павла тоже не знала, но ответила, что брандвахта загорелась в полночь и поднялась суматоха.
Паня обошел пожарище большим кругом, вглядываясь в следы на песке. Потом, наступив хромовым сапогом на лапу якоря, что-то писал, а вернувшись к нам, сказал, строго глядя на Константина:
– Допрос сымать там буду. Обоим зайти ко мне.
– Я говорил, что сгорю, – сказал Константин.
– А ты вроде рад! – рассердился начальник.
– Как хошь… Рано или поздно все равно бы сгорел.
– Разберемся… – неопределенно ответил начальник.
Василий Степанович и Паня еще спрашивали Константина, выпытывали у него, но он так и стоял молча, виновато сутулясь в своей фуфайке. От пожарища тянуло жаром, хотя почти уже все сгорело. Только безобразно почерневшими скелетами выпирали из груды углей железные остовы коек, торчали трубы и радиаторы отопления.
– Пошли? – кивнул начальник в сторону бора. – Надо еще в контору зайти.
Они с Паней ушли, а я остался наедине с погорельцами: как-то еще не верилось мне, что брандвахты этой больше не существует. Но что можно было теперь придумать?
– Поехали? – сказал я им. – Чего теперь ждать-то?
– Езжайте, мы доберемся, – неохотно ответил Константин.
– У нас машина там, – указал я к бору.
– Да надо нам… – робко вступилась Павла, глянула на Константина и добавила: – Колечко у меня сгорело… Обручальное. Сняла на ночь-то, в тумбочку. Дак поищем. Вон она, наша-то каютка, – слабо махнула она на груду углей. И стала пальцем утирать слезы. – Почти сорок лет хранила.
«Эх, что теперь там найдешь», – подумал я, глядя на угли.
– И документы сгорели? – спросил ее я.
– Да какие документы! Все в кадрах, в конторе.
Я поспешил догонять своих. Шел, оглядывался. Они опять сидели рядком. И что-то сиротское было в их печальном единении. Сидели они среди голых грив, на песке, жались друг к другу на бревне, как пара припозднившихся с перелетом куличков-перевозчиков. «Что им теперь осталось? – думал я на ходу. – Только старость, только воспоминания. Со всем прощаются…»
Виновных пожара так и не нашли. Говорили, что поджег какой-то парень из-за ревности к девчонке. Но это только разговоры. Панино расследование тоже ничего не дало.
Зимой и о следствии и о самой брандвахте вспоминали особенно часто. И почему-то многим было смешно.
Так за нее никто и не отвечал. Ее просто списали.
«Подводник» Кашкин– Ну, ну… Расскажи давай, как это ты ухитрился. Двадцать лет на реке работаю, а такого не слыхивал – чтобы катер у берега стоял и утонул.
– Утонул…
– Утонул, утонул! Да знаю, что утонул, а как дело-то было? Ведь это смешно: стоял, ночевал, раз – и ко дну!. Так-то и сам когда-нибудь утонешь. Воды, что ли, много в корпусе накопил? Труба дейдвудная слишком пропускала? Ну?..
– Трезвый был.
– Тьфу!.. Опять двадцать пять. Тогда рассказывай.
Была весна. Торжественно, с музыкой выходил из затона караван. Унжей вовсю несло лед, и поэтому караван шел кучно. Передом двигались сильные крепкие катера с толстой обшивкой. Следом за ними тащилось шесть «псов». На одном из этих, низкобортных плоскодонных катеров ПС стоял у штурвала Кашкин. Был он не последним капитаном в затоне, работником, но не ладилось у него в личной жизни. Жена с дочерью жила в деревне за двадцать с лишним верст от затона, и поэтому в зимние заносы Кашкин наведывался к ним редко. Машины туда не ходили, а пешком по бездорожью отмахать почти пятьдесят верст в свой выходной день не каждый решится. Раз, редко два в месяц заявлялся Кашкин к своему семейному очагу. Коротая долгие зимние вечера в затонском общежитии, незаметно пристрастился он к вину, втянулся в это пагубное дело, а когда однажды, месяца через полтора приехав домой, увидел, что жена с малолетней дочерью ушли жить снова к матери (в этой же деревне), то и совсем пал духом. Домой ходить перестал вовсе, обиделся.
Хотя, если рассудить трезво, чего им было, двум женщинам, в эту лютую морозную зиму палить дрова на два дома. Они правильно сделали, сбившись в «кучу». Но Кашкин за личной обидой не разглядел этого, а запомнил ее слова: «Живи один, раз так, я с матерью проживу».
Спор этот возник у них давно. В колхозе Кашкин, как жена, работать не хотел, выучился на судоводителя, но оставить прочный обшитый тесом деревенский дом с садом, с ухоженным огородом тоже было жалко. Так и жил на два хозяйства.
Летом было неплохо: неделю плавай на катере, и вторую живи дома – коси, огород выхаживай, ходи за грибами… Но чистым наказанием становилась зима. Особенно если не давали на самое бездорожье отпуск. Как в эту зиму.
В феврале, вернувшись из деревни в затон, Кашкин запил еще горше. Это заметил мастер, и Кашкина вызвали в контору.
– Брось, – сказал ему начальник Василий Степанович, – хуже будет: и работу потеряешь и жены лишишься навсегда. А так – вернется она, никуда не денется.
Кашкин вроде соглашался, но отстать от вина сразу не мог: уже тянуло, не проходила тоска, и только выпив, он чувствовал облегчение.
И все же весной начальник не стал рубить с плеча, поставил его на прежний катер, но сказал: «Вот весновка для тебя – главное испытание. Выдержишь – оставим и на лето, не сможешь – переведем работать на берег. Смотри сам».
Шли уже часа два. Кашкин правил следом за караваном и думал, что теперь, с навигацией, всему прежнему конец. В рейс вышел он трезвый, побритый и даже с собой не взял никакой посудины, хотя с открытием навигации вроде бы и положено. «На весновке заработаю денег, куплю гостинцев и поеду домой». – Он стоял за штурвалом и представлял, как явится к жене с дочерью, нарядный, трезвый, поговорит как следует, объяснит все, и жизнь опять вернется в прежнее русло. В затоне не знали, что выпивать он начал еще дома, в деревне, после недельной вахты. С этого и жена взъелась, с этого и началось все. Тогда, чтобы не наводить ее на грех, он стал потихоньку прикладываться на работе, а приезжая домой; терпел до следующей смены. Однако время сделало свое дело – выпить тянуло уже каждый день. А капитан он был работящий, дельный, Потому и не снял его начальник этой весной с катера.
На исходе дня достигли Мантурова – головной сплавконторы, где должны были узнать, кому, и куда плыть дальше. Первый переход был позади, двигатели у всех работали хорошо, своего начальства рядом теперь не было, поэтому вечером многие решили «разморозить рули». Лишнего себе не позволяли – на воде все же – но и от традиции отступать не хотели. В сумерках почти во всех кубриках сидели собравшись человек по пять, говорили о воде, о плотах, о погоде. Не было среди капитанов только Кашкина. Хотя ввечеру он и ходил вместе со всеми в магазин и купил там бутылку водки, но лишь для отвода глаз, чтобы не вызывать лишних разговоров, чтоб не приставал никто, не упрашивал.
Придя на катер, он спрятал эту бутылку подальше и лег спать. Матроса у него нынче не было, их вообще в затоне не хватало, и начальник умышленно обделил Кашкина этой весной: чтобы не было у него соблазнителя в его важный период жизни.
На вторые сутки, преодолев немало ледовых заторов, караван пробился к верховым плотбищам. Здесь было уже свободнее ото льда, а малые лесные речушки и вовсе очистились. В одну из таких речек с бригадой сплавщиков плыл Кашкин. Их было двое, два «пса», откомандированные на это плотбище. Мишка Соловьев, капитан второго катера, был товарищ надежный, честный. Кашкин радовался такому напарнику. В первый же день они быстро и удачно соорудили запань на речушке – протянули с берега на берег перетягу из толстого троса, поставили корни под ворота, привели боны, наметили ими коридоры… Работали весь долгий день до сумерек, а потом рабочие попрыгали в баржонку и Мишка на буксире поволок эту баржонку в поселок.
На другой день продолжали плотить – делать первый плот. Но работали вяло, уже без того азарта и удовлетворения, с каким ставили вчера запань. Обедать в поселок не поехали, а расположились прямо на бревнах на воде. Кашкин сидел у себя на катере в тепле, поглядывал из иллюминатора на плот. Сплавщики не спешили с едой, тянули время, и Кашкин понял, чего они ждут. Не зря перед обедом Мишка Соловьев на полном газу упалил в поселок: его послали за водкой. «Значит, вчера вечером всей бригадой они отметили там начало сплава, – думал Кашкин. – «Клюкнули», видно, хорошо». Это было заметно по тому, с какой тяжестью с утра принялись все за работу. Но бригадир спуску никому не давал, и вот только теперь, в обед, были разрешено им, кто хочет, опохмелиться. Кашкин, сидя в своем катере, представлял, как все это будет.
После обеда работу опять начали с подъемом. Мишка Соловьев летал на своем водомете будто на крыльях, сплавщики его окликали как давнего друга, любовно называли Мишей, и сам бригадир издали махал ему рукавицей: «Михайло! Помощник ты наш, тяни!..» Кашкину было завидно смотреть на их дружное рабочее веселье, на общее согласие, которое, понимал он, началось еще вчера за общим столом, где не было только его, Кашкина. Конечно, если бы сплавщики знали всю историю Кашкина, наказ начальника и его обет начальнику и самому себе, было бы легче. И его мучил вопрос, знают ли они все это, рассказал ли им вчера Мишка, может, наоборот, скрыл, чтобы не было никаких разговоров и подозрений. Уж лучше бы рассказал.
К вечеру все сильно устали, приутихли, но плот вырос хорошо: работа была налицо. Едва бригадир дал команду кончать, как все устало повалились на баржу, на катер к Мишке, три сплавщика залезли и к Кашкину.
– С Мишкой езжайте, – высунулся из рубки Кашкин, – я здесь останусь.
Боялся Кашкин ехать в поселок. Он знал по опыту прошлых весен, что там опять будут «соображать», конечно, не все, но кто-нибудь найдется. А выпивать придут на катер, и для него это будет чистой мукой. Его уже тянуло, тянуло неудержимо, и он вроде как бы оттягивал время, решив для себя, что, если уж станет совсем невмоготу, попробует немного, но один, на своем катере, чтобы никто не видел, даже и Мишка.
С другой стороны, его добровольную ночевку у запани одобрил и бригадир: мало ли что может за ночь натворить река – вода сильно поднимется, или нагонит сверху льду, может порвать запань – и тогда есть человек, который мигом прилетит в поселок.
Они уплыли, а он стал готовиться к ночлегу. С разгона вылез, носом на луговину и заглушил двигатель. Берег был крутоват, корма катера глубоко осела в воду. Но Кашкину это даже понравилось. Он знал, что в ночь вода прибудет, и утром он легко снимется с берега. Он выпрыгнул на луг с тросиком в руке, но зачалиться было не за что. Пришлось вернуться на катер и взять ломик. Загнав этот ломик глубоко в луговину, он повесил на него петлю чалки – и все дела были приделаны. Оставалось немногое – походить по гриве, поискать дровишек про запас, если будут, и спать в теплом кубрике до утра.
Покойно было в пустых голых лугах. Птицам, уже вернувшимся в родные места, никто здесь не мешал, и они перекликались в тишине, радуясь новой весне. Долго перелетал с места на место чирковый селезень, поцвиркивал над лугами, тенью мелькал, ныряя в кусты. Какой-то бойкий куличок все храбрился, без конца вопрошал в тихие сумерки: «Чаво-чаво-чаво?..»
– Вина, вот чаво, – улыбнулся Кашкин, залезая на катер. У него были в запасе хлеб, консервы, сахар, масло, и он мог поужинать на катере не хуже, чем там, на берегу. Одно его беспокоило: еще днем он думал поднять слани и поглядеть, много ли воды накопилось в корпусе катера, почему-то казалось, что вода прибывает сильно. Вот еще и по этой причине он не пошел со всеми в поселок.
Он растопил печку, поставил на плиту кастрюлю с супом, чайник и стал дожидаться, когда все закипит. Не раздеваясь, прилег на диван и подумал, что сейчас самое бы время вычерпывать воду из корпуса: катер стоит наклонно, вся вода слилась в одно место к корме.
Он лежал, думал так, а печка накалялась все больше, и кубрик наполнялся ровным мягким теплом. Уже позванивала крышка на кастрюле, будила его, и он слышал это, но не вставал: ждал, когда закипит и чайник. Когда он наконец, засипел, стал поплевывать из носика на плиту, Кашкин поднялся. В кубрике было уже жарко, и Кашкин снял сапоги, потом, собираясь сесть за стол, снял брюки и фуфайку. Достал припрятанную бутылку и с улыбкой водрузил ее на середину стола: «Хоть полюбуюсь». Попробовал мясо в кастрюле – оно было еще жестковато, надо было доваривать. Пришлось кастрюлю поставить снова на край плиты.
За иллюминатором было уже сумеречно, и не хотелось теперь выходить из тепла снова на палубу. «Отолью завтра, – подумал Кашкин о воде, – много не должно накопиться, ведь только что из затона. Все равно нечего делать утром, пока их жду, вычерпаю». Теперь в тепле он почувствовал такую усталость, что, казалось, нет сил даже поесть. Он снова прилег на диван, поджидая, когда доварится мясо, и все думал, сомневался: «Выпить или не выпить?» А усталость медленно и ласково заволакивала его сознание полусном. Сказывались две недосланные ночи. «Сейчас, встаю, сейчас», – говорил он сам себе, так и не решив главного вопроса: «выпить – не выпить»? Гукнул на реке буксир, Кашкин вздрогнул – напугался, что уснул, и тут же обрадовался, что сейчас встанет. Все явственнее слышался шум пароходных плиц, все ближе подходил пароход к устью той речки, где ночевал одинокий катер Кашкина. Кашкин мысленно видел, как идет этот буксир ночной рекой наугад, без огней судоходной обстановки – тянет в верха тяжелую баржу с удобрением для колхоза или еще с чем. Капитан светит на берега прожектором, вглядывается через бинокль – не знает он толком эти места: волгарь, а не унжак. Вот он, Кашкин, провел бы судно в любую ночь. «Сейчас надо прижиматься к правому берегу, а не к устью, не ко мне, – думал Кашкин, – чего лезет сюда, на гривы. Давай влево, влево… Вот так, не бойся, иди рядом с берегом – тут основное русло… А теперь переваливай, да не круто, а полого: тут остров, пески затопило…» Может быть, впервые за последний год Кашкин спал с таким душевным покоем, легкостью и ничуть не сомневался, что жизнь наладилась, пить он перестал совсем, поэтому и ведет сейчас пароход в верха – работает лоцманом – и капитан им доволен, слушает его…
Уже давно прошел этот пароход устье сплавной речушки, давно стих шум его плиц, и опять плеснуло из кастрюли раз и другой на плиту, зашипело, но Кашкин не проснулся. Напротив, он чувствовал себя уверенно там, на ходовом мостике буксира, а шум этот был привычен – это кочегары постарались, и машина спускает лишний пар. Все в порядке.
Долго ли «плыл» Кашкин по Унже, свидетелей тому нет, но проснулся он от стука, непонятного шума и почувствовал, что съезжает с дивана вперед ногами. В кубрике было темно и влажно от пара, на плите что-то шипело, уже успокаиваясь. Присутствие беды Кашкин почувствовал мгновенно. Он запахнулся в фуфайку, пошарил возле дивана сапоги, сунул туда босые ноги и кинулся наверх. Почти так же непроницаемо темно было и наверху. Катер медленно, как-то непонятно весь шевелился, одновременно оседая на корму. Кашкин ощупью кинулся к корме и сразу почувствовал, что сапоги бредут по воде. Слышалось, как бурлила эта вода – то воздух вырывался из-под крышки трюма. Схватившись за поручни, Кашкин запрыгнул на крышу рубки, вглядываясь в берег. В это время катер совсем сполз с крутой луговины, и вода с урчаньем кинулась в раскрытый кубрик. Катер выровнялся и вроде бы замер, но вся палуба была уже под водой, и тогда Кашкин ясно понял то, с чем еще не хотел согласиться: «Тону!».
Он решительно схватил из-под ног полосатый шест-намётку и, сунув ее в воду, как прыгун с шестом, перенес себя через воду на берег. Катер все сопел воздухом, фыркал пузырями, хотя вроде и не шевелился.
Но вот белая крыша его наконец растаяла, растворилась в черной воде, и сделалось тихо.
На воде плавали теперь только два белых спасательных круга да полузатонувший шест багра. Все довольно быстро двигалось вдоль берега, постепенно отодвигаясь в стрежень. Кашкин подбежал с наметкой к самой воде и принялся по очереди и шест и круги прижимать к берегу. Он успел, вытащил все на гриву, и на воде стало чисто будто ничего тут и не было. Просто были ночь, вода, луговина. Кашкин стоял с багром, долго, недвижно глядя перед собой на черную воду. На поверхности большой беды, которую он еще не успел пережить, были маленькие радости, что все прошло удачно: что вот успел надеть сапоги, потом ловко, не замочившись, спрыгнул с крыши на берег, успел поймать оба круга и багор – все делал, как надо. Вроде бы и потерь никаких не было, потому что все остальное было в сохранности тут, рядом, просто ушло под воду. Но вот он представил, как приедут утром сплавщики, увидят его на гриве и спросят: «А где катер?» Как ответить? Не поверят, засмеют. Спросит об этом начальник в затоне, каждый встречный капитан… Потом – вся река. И тут его охватил стыд, страх. Он вспомнил о жене: «Узнает ведь и она». – «Допился, алкоголик». Все это его будто оглушило, и он не хотел верить, что катер утонул на глазах, вот только что, здесь. Как хорошо, если б это было опять во сне… Он по-прежнему глядел перед собой, в то место, где только что стоял катер, а теперь текла холодная непроницаемая вода, такая же, как и по всей реке. И тут ему сделалось смешно, но невесело, а мстительно-злорадно. Он смеялся над начальником, над своей женой, над самим собой, над задумкой бросить пить – смеялся над своей судьбой, которую, как теперь он догадался, не надо было пытаться обхитрить. Мысленно он уже согласился с тем, что ему больше не плавать и что человек он пропащий. Как только подумал так, стало легко и просто – он готов был на все: на любой штраф, на любой позор, готов был идти хоть под суд – все равно. Стало неожиданно легко еще оттого, что наконец-то сама собой подвелась черта под всей его бестолковой и мучительной жизнью. Он не собирался ни перед кем оправдываться, доказывать, что не пил, что не виноват… Вспомнил, как звали его вечером ночевать в поселок, и как он жил тут наособицу, будто специально задумал утопить катер, чтобы никто не видел. Так оно все и получилось.
Он вздохнул и отвернулся от воды, словно собирался куда-то идти вдаль по гривам. Но куда было идти? Смутно белел снег в ближних кустах, переливалась-шумела вода на запани – ночь шла извечно просто и невозмутимо. Не морозило, и не таяло, не было ни луны, ни звезд, не покрикивал больше куличок, не искал подругу чирковой селезень. Ночь наступила для отдыха, для успокоения всем – и зверью, и птице, и человеку – всем, кроме него.
Он еще не думал о том, как будет коротать ночь до приезда бригады, но когда подумал, похолодел – у него не было, наверное, даже спичек. Он осторожно по очереди похлопал себя по всем карманам и убедился, что это так. Только тут увидел и самого себя: без шапки, в распахнутой фуфайке, в черных резиновых сапогах и белых кальсонах стоял он среди гривы возле двух кругов и двух шестов (багра и наметки). Уже зябли босые ноги в настывшей резине сапог, зябли уши и голова… А впереди была целая ночь. Куда идти? Он знал, что этот луговой берег со всех сторон окружен водой и сейчас представляет собой остров. Да хоть бы и не остров, так что делать теперь там, одному в лугах, в лесу, если повсюду вода, бездорожье. И Кашкин наконец ясно и отчетливо осознал, что уже нет у него больше ни теплого кубрика, ни печки, ни дивана, и не будет всю эту весну. Толстый, свитер, брюки, курево со спичками и, что особенно обидно, нераспечатанная бутылка водки – все осталось там, считай, погибло. Теперь он догадался, какой стук его разбудил: то упала и скатилась со стола на палубу бутылка. «Интересно, разбилась или нет? – подумал он. – Нет, не должна, ведь стол невысокий, да и палуба – не железо». Ему показалось, что он помнит даже, как она катилась по полу к другому дивану. «Но, может, это я только вообразил себе сейчас, хотя чего теперь об этом говорить, – мысленно сказал он самому себе. – Не все ли равно». Он прошелся по гриве взад-вперед и подумал, что нет, не все равно: до утра еще долго, и бутылка была бы сейчас как раз кстати. И тут ему в голову пришла дерзкая мысль. «А что если раздеться и нырнуть, кубрик открыт, там найду ее ощупью, попью на берегу, разотрусь водкой – и никакой простуды. И никто не узнает», – он обрадовался этой мысли, хотел уж раздеваться, но представил, что в кубрике темно, вдруг потеряешь двери, сразу не вынырнешь. «Случится что-нибудь – судорога или сердце схватит. И найдут потом голого там, скажут: допился дружок, вместе с катером утонул…» Он зябко поежился и отогнал эту мысль напрочь.
Идти было некуда, часы на руке показывали полпервого, а рабочие могли приехать только часов в шесть, не раньше. Слегка начинало морозить. Запахнувшись потуже и подняв куцый воротник фуфайки повыше, Кашкин начал бегать по гриве кругами, чтобы согреться, запыхавшись, пошел вприсядку на одном месте и вдруг замер. Потом снова несколько раз подпрыгнул: глухой звук повторился. Осторожно, будто птенец сидел у него за пазухой, полез он туда правой рукой и схватил через материю твердую спасительную коробочку – спички! Он забыл о них, вернее, привык уже. Коробка эта лежала в потайном кармане под мышкой, завернутая в целлофановый пакетик, уже целый год. Он зашил ее там еще в прошлом году перед весновкой на всякий неожиданный случай. А случая не было, и он так и не вынимал ее. Даже испарина прошибла его.
С радостью кинулся он в глубь гривы, к кустам, наощупь ломал там сушняк, рвал высокую прошлогоднюю траву, тащил все это на берег, потом искал возле воды бересту, щепки… И осторожно, экономя спички, стал поджигать.
Когда огонь хорошо взялся, Кашкин положил друг на друга спасательные круги, сел на, них, будто на широкий пень, и, протянув руки к огню, стал думать о своей жизни. Но что можно было придумать. Ночь была бесконечной. И он то дремал, наклоняясь к теплу, то вставал и бежал в глубь грив за сушняком. Хоть и у костра, но мерз, проклинал ночь, свою жизнь, обдумывал, примеривался, как быть дальше. То, что с реки уйдет навсегда, было уже решено. Беспокоило другое: как рассчитаться за катер. Не утащит ли его под водой течением? Подумал, что если бы зачалился за дерево или еще за что прочное, катер не скрылся бы под водой, затонула бы корма только. И это бы не было так глупо и насмешливо, как сейчас, никто бы и осуждать особо не стал. Но сейчас-то что? Съехал с луговины на дно, будто утюг, и не видать ничего. «Нет, это судьба! Непутевая, насмешливая, как и все в моей жизни».
Утром приехавшие рабочие, как и предполагал Кашкин, не поверили, что катер утонул. Бригадир, почему-то не придав значения этой новости, тут же распорядился приступить к работе. Кашкин был рад, что так быстро все кончилось, залез к Мишке на катер, скрылся в кубрике.
Накрывшись Мишкиной шубой, он спал там в тепле на диване, и его никто не будил. Есть такой неписаный закон на реке и на море: не будят уставшего до смерти человека, не тревожат, пока не встанет он сам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































