Текст книги "Война, мир и книги"
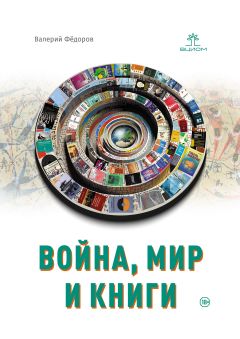
Автор книги: Валерий Федоров
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Культура и медиа
Роже Шартье
Культурные истоки Французской революции
М.: Искусство, 2001[22]22
Рецензия опубликована в журнале «Историк» (№ 108, декабрь 2023).
[Закрыть]

Двухсотлетие Великой французской революции, отмечавшееся в 1989 г., прошло в тени более актуальных событий – перестройки в СССР и «бархатных революций» в Восточной Европе. Тем не менее юбилейная дискуссия о событиях 1789 г. имела место, ведь значение этой революции для мировой истории настолько огромно, что каждое новое поколение исследователей старается внести свой вклад в ее изучение. Французский историк Роже Шартье в своей книге, увидевшей свет в 1990 г., сфокусировался не на причинах или движущих силах революции, а на ее культурных истоках, то есть тех условиях, которые сделали ее возможной. «Возможной же она стала потому, что стала мыслимой». По сути, речь идет о связи между Просвещением и Революцией: действительно ли первое идеологически подготовило вторую, как мы привыкли думать, или же все сложнее? Шартье считает, что ответ не так прост, как кажется. Возможно, все было наоборот: Революция, нуждаясь в идеологической легитимации, поставила себе на службу Просвещение, приписав его деятелям собственные цели и ценности, назвав их своими предтечами и провозвестниками.
Для этого революционерам «пришлось осуществить строгий отбор литературного и философского наследия и привести совершенно различные мнения и позиции к общему знаменателю». В реальном Просвещении соседствовали реформаторы и утописты, умеренные и радикалы, монархисты и республиканцы. Вместо этого многообразия и сумбура была искусно сконструирована совершенно другая картина. Просвещение предстало в глазах потомков как «свод однородных, всеобщих, неизменных идей и твердых убеждений». Как же так вышло? Дело в том, что усилиями деятелей Революции был создан «пантеон» мыслителей и написана «родословная» революции, для чего пущены в ход все доступные тогда методы культурно-информационной борьбы: речи, праздники и рисунки. Это получилось не сразу, ведь всякая из враждующих революционных партий имела свое видение мира и свой образ Просвещения, призванный подвести под него базу, но все-таки получилось. Однако почему же все-таки нельзя считать Просвещение подготовкой к Революции?
Шартье называет натяжкой «выводить поступки и политические воззрения из мнений, мнения – из круга чтения, а понимание текстов – из самих текстов». Считается, что поток обличительных текстов, порожденных Просвещением, подорвал легитимность «старого порядка» и побудил французов к свержению режима. Тексты эти, однако, не только сами по себе крайне разнообразны и противоречивы, но, что важнее, чаще всего дают возможности для самых разных интерпретаций. Интерпретация смысла подпольной литературы зависит не только от того, что вкладывают в свои произведения авторы, но и от ожиданий и запросов их аудитории. Отход французов от почитания монархии и «старого порядка» в целом, считает историк, это не результат широкого распространения «философических книг», а наоборот, условие и залог их популярности. Жизнь общества и его запросы серьезно изменились к тому моменту, как деятели Просвещения «пошли в народ». Если бы этого не произошло, ни на какую популярность их смутные и путаные писания претендовать бы не могли. «Война памфлетов», разразившаяся за полтора десятилетия до революции, упала на хорошо унавоженную почву: процесс десакрализации монархии и всего с ней связанного Шартье скрупулезно прослеживает вплоть до начала XVIII века.
Конфликт между французской монархией и влиятельным католическим движением «янсенистов», проповедовавшим строгие моральные ориентиры, в свое время побудил короля провести размежевание государственных интересов и моральных суждений. Первые были признаны единственным критерием правильности действий государя, мораль же оттеснена в область приватного. Сначала это помогло королю диктовать свою волю вопреки моральному осуждению религиозных авторитетов. Но когда кризис в стране стал очевидным, критерий соответствия действий короны государственным интересам обратился уже против монархии! Вот тут-то и разразилась «война памфлетов», в конечном счете дискредитировавшая монархию. И эта война стала возможной благодаря долговременному (он занял почти полтора века) процессу развития «литературного поля» страны. Литература при поддержке короля и его приближенных постепенно превратилась во влиятельный общественный институт. Сформировался рынок независимых суждений, и «общественное мнение в конце концов стало более могущественным, чем сам государь».
Парадоксальным образом изменения в культуре, подготовившие революционный перелом, связаны не с упадком монархии, а, наоборот, с ее могуществом. И Просвещение, и Революция – оба этих явления не более чем элементы общего исторического процесса. Это распад традиционного и становление современного общества. В этом процессе выдающуюся роль сыграли и абсолютная монархия («старый порядок»), резко усилившая центральную государственную власть в противовес местным деспотам, и революция, освободившая нацию от покорности династии и религии. Монархия объединила страну и создала арену, где позже развернется битва за волю нации, и сделала возможным появление языка, на котором будут обсуждаться общественные проблемы и формулироваться революционные программы. Просвещение было не более чем непреднамеренным последствием развития французского абсолютизма, когда уверенная в себе династия и высшая аристократия допустили развитие литературы и появление поля независимых суждений, подорвавших впоследствии их собственную легитимность.
Роберт Дарнтон
Поэзия и полиция
Сеть коммуникаций в Париже XVIII века
М.: НЛО, 2023[23]23
Рецензия опубликована в журнале «Историк» (№ 114, июнь 2024).
[Закрыть]

Считается, что мы живем в информационном обществе, которое отличается невиданным обилием информации, легкостью и скоростью ее распространения. В этом преимущество нашего века и, возможно, залог светлого будущего… Увы, «чудеса технологий коммуникаций последнего времени создали неверное представление о прошлом». На самом деле наше общество было информационным всегда, и это можно надежно доказать! На базе источников давностью в несколько столетий это делает американский историк, профессор Гарварда Роберт Дарнтон. Специализируясь на изучении интеллектуальной и культурной истории Франции, он воссоздал устройство парижской коммуникационной сети середины XVIII века. Тогдашняя инфосфера строилась преимущественно на устном общении, но все-таки оставила после себя некоторые важные артефакты. Дарнтон отталкивается от изучения судьбы шести стихотворений, сочиненных парижскими студентами, нотариусами и священниками и попавших в руки полиции. Стихотворения носили сатирический характер и содержали критику короля и его новой фаворитки маркизы де Помпадур. Клевета на короля считалась государственным преступлением, поэтому полиция озаботилась поисками авторов и распространителей крамольных стихов. Позднее эти стихи стали доказательствами на судебном «процессе четырнадцати», завершившемся ссылкой и другими наказаниями для его участников.
Именно материалы этого дела позволили историку «обнаружить сложную сеть коммуникаций и изучить, как распространялась информация в полуграмотном обществе». Выяснилось, что стихотворения прошли через руки целого ряда молодых парижан. Автор найден не был, ясно только, что он был выходцем из образованного среднего класса. Но, по-хорошему, это было коллективное творчество: по мере удаления от источника распространители добавляли строфы и меняли текст по собственному вкусу. Сеть трансляторов опутала самые известные коллежи (школы) Парижского университета и вышла за пределы Латинского квартала. «Передача информации шла через запоминание, записки и цитирование в местах дружеских встреч». По данным полиции, «повсюду оказывался кто-то читающий или поющий едкую сатиру на двор и короля. Это безобразие распространялось среди молодых интеллектуалов внутри духовенства». Происходила игра более опасная, чем это казалась ее участникам, – они ведь чаще всего просто хотели блеснуть остроумием. Но при этом стихи вполне отражали господствовавшие в этой среде настроения. В 1749 г. дела во Франции шли не лучшим образом, общество волновалось. Стихи были носителем, а стихосложение – процессом формирования и распространения общественного мнения. Получается, что «это явление уже существовало двести пятьдесят лет назад. Десятилетия набирая силу, оно нанесло решающий удар» в 1789 г.
Тем не менее за 40 лет до революции никакой серьезной опасности для старого порядка парижские рифмоплеты не представляли. Архивы указывают на чрезвычайную распространенность стихов на бытовые, моральные и политические темы в Париже тех лет. За рамки среднего класса – в городские низы – они переходили очень часто. Для этого использовался корпус популярных мелодий, на которые ложились каждый раз новые стихи. «Популярная песня стала гибким носителем, способным вобрать предпочтения разных групп и расширяться, чтобы включить все, что интересовало общество в целом». Поэзия, положенная на музыку, распространяла сообщения по всему обществу. Поэтому король постоянно интересовался, о чем поют сейчас горожане, и был крайне чувствителен ко всему, что говорилось о нем, его фаворитках и министрах. Шеф полиции постоянно предоставлял ему отчеты о «сплетнях и злословии» парижан. Отсюда – частые попытки придворных интриганов использовать народные песенки как орудие воздействия на суверена. «Двор мог внедрять сообщения в сеть коммуникации и получать их из нее… Большая доля стихов, распространяющихся по Парижу, была написана в Версале». И это был не просто элемент придворной культуры, а способ свалить фаворита или фаворитку, отомстить за лишение поста в правительстве и/или милость государя, побудить его к определенным решениям или отказу от них. Дарнтон прослеживает связь между «процессом четырнадцати» и главной придворной интригой 1749 г. – попыткой отставленного первого министра Морепа очернить новую фаворитку Людовика XV мадам де Помпадур, чтобы король отдалил ее от себя.
Подданные абсолютной монархии отлично знали, «что победа в будуаре может привести к большим переменам в политической расстановке сил». Мишенями стихов были король и фаворитка, и полиция сбилась с ног, чтобы схватить клеветников. Но рукой, которая водила парижскими стихотворцами, явно был сам Морепа (либо его приближенные), рассчитывавший вернуться в правительство. Итак, «политика двигалась интригами двора, но все же двор не был замкнутой системой. Он был подвержен внешним влияниям. Французский народ мог заставить свой голос звучать в закоулках Версаля». Особенно громко в тяжелые времена – как в 1749 г., отмеченном неудачным для Франции завершением войны за австрийское наследство, позорным выдворением из Парижа последнего Стюарта – претендента на британский престол и всеобщим недовольством по поводу введения нового налога на недвижимость. Происходили стихийные протестные выступления, множились критические стихи и песни. Вскрытая полицией «сеть четырнадцати составляет лишь крошечный сегмент огромной сети коммуникаций, проникающей во все слои парижского общества». По сути, сформировалось именно то сочетание элементов, которое через 40 лет привело старый порядок к краху: огромный госдолг, попытки правительства ввести новые налоги для его покрытия, сопротивление парламентов и уличные волнения, негативно настроенное к властям общественное мнение, выраженное в песнях и стихах.
Это мнение формировалось в коммуникационной сети, «столь плотной, что весь Париж гудел от новостей о государственных делах. Информационное общество существовало задолго до интернета». Благодаря сложившимся цепям коммуникации новости получали определенную окраску и значение. Со временем общественное мнение, которым прежде пренебрегали как капризом переменчивой и необразованной толпы, стало важным фактором для философов и публицистов. Они начали взывать и апеллировать к нему как к высшей инстанции. Правительство оказалось вынуждено принимать его во внимание. Тем не менее «Месье ле Публик» как сила, исходящая от улиц, существовал задолго до его признания философами. По утверждению Дарнтона, он «существует по сей день, каковы бы ни были успехи социологов, пытающихся занять его место». Его генеалогия становится понятной благодаря работе историков, овладевших методом детективного расследования, – именно так автор называет свой подход, основанный на анализе данных полицейских архивов. В середине XVIII века Париж еще не был готов к революции, но в нем уже сложилась «эффективная система коммуникации, информирующая общество о важных событиях и дающая постоянные комментарии к ним. Коммуникации позволяли сплотить общество благодаря актам передачи и получения информации, построенным на общем ощущении вовлеченности в государственные дела». И «процесс четырнадцати» позволяет нам изучить этот важнейший процесс с короткой дистанции.
Ги Дебор
Общество спектакля
М.: Опустошитель, 2020

Знаменитый французский леворадикальный мыслитель и художник Ги Дебор (1931–1994) в 1967 г. подарил нам важную метафору, описывающую современное общество, – «спектакль». Речь идет прежде всего о том, что мы не актеры, а зрители, наблюдающие за тем, как жизнь проходит мимо нас, и довольствующиеся этим наблюдением. Нашу пассивность Дебор объясняет вполне по-марксистски – как следствие отчуждения трудящихся от средств производства. Зато само устройство «общества спектакля» автор описывает весьма остро, свежо и ярко. По его мнению, наша жизнь сегодня – это «необъятное нагромождение спектаклей. Все, что ранее переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление».
Развитие процесса специализации людей зашло настолько далеко, что мы получили автономный «мир образов, где обманщик лжет себе самому». Увы, форма и содержание спектакля подчинены единственному императиву – оправдать цели и условия существующей общественной системы. Спектакль не говорит нам ничего, кроме того, что все вокруг – благо и ничего кроме блага. Он – «солнце, никогда не заходящее над империей современной пассивности». Спектакль говорит от имени других, как «дипломатическое представительство иерархического общества перед самим собой, откуда устраняется всякое иное слово». Это «непрерывная речь, которую современный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог». Поэтому общество спектакля – общество зрительское, и в этом качестве «спектакль есть основное производство современного общества».
Почему это плохо? Потому что спектакль есть утверждение видимости – и всякой человеческой жизни как видимости. По сути, это «отрицание жизни, ставшее видимым». Это экономика, развивающаяся ради самой себя, а не ради человека. Начиная с устранения «быть» ради «иметь», она трансформирует «иметь» в «казаться». Кроме того, спектакль занимает у людей основную часть времени, проживаемого ими вне рамок производства. Чем больше человек созерцает, тем меньше он живет! Мы попали в «дурной сон современного общества, который в конечном счете выражает только его желание спать. И спектакль – страж этого сна».
Спектакль зиждется на разделении и пролетаризации мира, он – «циклическое производство разобщения». Все блага, которые мы получаем от спектакля, постоянно упрочивают условия разобщенности масс, превратившихся в «одинокие толпы». В спектакле одна часть мира представляет себя всем миром и объявляет себя высшей по отношению к нему. Чувственный мир искусственно замещается набором разрешенных образов. Это «мир товара, господствующий над всем, что переживается». Экономика преобразует мир, но преобразует его только в мир экономики! Итак, «спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом». В его мире «сконструированный и выбранный кем-то другим образ становится главной связью индивида с миром, на который он прежде смотрел сам».
В «Комментариях к обществу спектакля», написанных двумя десятилетиями позже (1988), Дебор дает еще одну формулировку спектакля: это «неограниченное правление рыночной экономики, достигшее статуса никому не подотчетного суверенитета, и система новых технологий управления, сопутствующих такому правлению». Волнения 1968 г., в которых автор принял активное участие как идеолог «Ситуационистского интернационала», по его признанию, не смогли поколебать основы спектакля: «он выучился новым приемам защиты, как это обычно случается с властью, которая подвергается нападению». Более того, под владычеством спектакля выросло новое поколение, подчиняющееся его законам. Началась конвергенция двух соперничающих форм спектакля – сосредоточенной (тоталитарной) и рассредоточенной (либеральной). Первая выдвигает на первый план идеологию, сфокусированную на какой-нибудь авторитарной личности. Вторая побуждает людей выбирать между огромным многообразием товаров и услуг. Но от каждой из этих форм часть потенциальных зрителей ускользала.
На смену им идет третья, «включенная» театрализация, интегрирующая наиболее эффективные элементы двух предыдущих форм. В ее центре не располагаются ни вождь, ни идеология. В отличие от предшественников, от «включенной» формы не ускользает никто: «спектакль стал составной частью любой действительности, проникая в нее подобно радиоактивному излучению». И как результат – «ни в культуре, ни в природе больше не существует ничего, что бы не было трансформировано и загажено сообразно средствам и интересам современной индустрии». Управляемый спектакль распоряжается и нашими воспоминаниями, и всеми проектами, формирующими будущее. Он создает представление о себе как «хрупком совершенстве», которое поэтому не должно подвергаться никакой критике, ибо она, с одной стороны, разрушительна, а с другой – вредна.
На стадии «включенной театрализации» общество характеризуют пять главных черт: непрерывное технологическое обновление, слияние экономики и государства, всеобщая секретность (спектакль имеет целью вообще устранить историческое познание и мастерски организует неведение относительно происходящего, а затем – почти сразу забвение того, что все-таки могло быть понятым), безоговорочная ложь (ложное стало неоспоримым, а истинное сводится к состоянию гипотезы, которую почти невозможно доказать) и «вечное настоящее» (то, о чем спектакль перестает говорить в течение трех дней, уже не существует, ибо в это время спектакль говорит уже о чем-то другом). Создание настоящего «достигается за счет непрестанного кругооборота информации, в каждое мгновение возвращающегося к очень краткому перечню одних и тех же мелочей, со страстью провозглашаемых как важные новости, тогда как по-настоящему важные известия… приходят теперь редко».
Важную роль в этом играют лживые СМИ (естественно, каждое из них имеет хозяина и сознает, что в любое время может быть заменено на другое, более угодливое и сервильное) и услужливые псевдоэксперты («где индивид больше ничего не узнает сам, его неведение официально укрепляет эксперт»). На службу системе поставлена и наука, от которой больше не требуется ни понимать мир, ни улучшать его – ей следует только оправдывать происходящее. Такой механизм становится тотальным и абсолютно бесконтрольным, поскольку «теперь не рискует получить никакого иного ответа… Ибо Агоры больше не существует, нет и повсеместных общин, ни даже ограниченных сообществ», нет вообще мест, где обсуждение истин, касающихся людей, могло бы хотя бы временно освободиться от давящего дискурса СМИ и других инструментов спектакля.
«Включенная театрализация» доводит беспомощность и паралич своих зрителей до предела: «повсюду, где царит спектакль, единственными организованными силами являются силы, его желающие», на остальных распространяется закон молчания и бездействия. «Считается, что зритель ни о чем не знает и ничего не заслуживает. Тот, кто всегда лишь смотрит, чтобы узнать последствия, никогда не будет действовать, – но ведь таким и должен быть зритель». Зрелищный дискурс просто замалчивает все, что ему не подходит, а от демонстрируемого «всегда отделяет окружение, прошлое, намерения и последствия». Он воспитывает людей как невеж, не умеющих мыслить и разговаривать, распознавать главное и второстепенное, важное и не относящееся к делу – «такая болезнь намеренно была привита населению в большой дозе». Воспитанный таким образом индивид с самого начала ставится на службу общественному порядку, что бы он о нем ни думал.
Глобальная деревня, в которую превратило планету развитие средств массовой коммуникации, как и деревня настоящая, всегда находится «под властью конформизма и разобщения, мелочного надзора, скуки, всегда повторяющихся сплетен об одних и тех же немногочисленных семьях». Идеальный враг такой системы – терроризм, ведь по сравнению с ним все остальное кажется допустимым и приемлемым. Из всех социальных преступлений ни одно здесь не считается серьезнее «непонятного притязания желать еще что-то изменить» в этом идеальном обществе. И нетрудно догадаться, что правящие обществом спектакля деятели экономики и менеджмента ведут мир к огромной катастрофе.
Рональд Инглхарт
Неожиданный упадок религиозности в развитых странах
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022

Последняя книга замечательного американского социолога Рональда Инглхарта (1934–2021) посвящена драматическим изменениям в общественных установках человечества. Вопреки популярным не так давно рассуждениям о возрождении религии автор утверждает, что «Рост экзистенциальной безопасности и культурные изменения, связанные с модернизацией, приводят к снижению значимости религии – и в странах с высоким уровнем дохода населения этот процесс недавно достиг переломной точки, в которой секуляризация ускоряется». Если до недавних пор секуляризация только набирала темпы в большинстве стран мира, то теперь Рубикон перейден, и даже такая «отсталая» в смысле религиозности страна, как США, вышла на траекторию быстрой секуляризации. Более того, начиная с 2007 г. США секуляризируются быстрее, чем большинство других стран. В чем же дело? Базируясь на огромном массиве разнообразных опросов, охватывающих 90 % мирового населения в период с 1981 по 2020 г., Инглхарт показывает, что виной всему – изменение ситуации с выживанием и безопасностью. «В течение многих веков в большинстве стран сложился стройный набор норм, помогающих поддерживать высокий уровень рождаемости, которые предписывают женщине производить как можно больше потомства, осуждают разводы, аборты, гомосексуальность, контрацепцию» и др. Мировые религии поддерживают подобные нормы как «помогавшие в прошлом выживать обществам, в которых была высокой младенческая смертность и низкой – продолжительность жизни».
Но сегодня нормы рождаемости перестали влиять на выживание общества! Чтобы выживать и развиваться, нам больше не нужно 8-10 детей на семью. Таким образом, экзистенциальная необходимость таких норм отпала, и они стали уступать место новым – нормам «индивидуального выбора, поддерживающим тендерное равенство и толерантность к разводам, абортам и гомосексуальности». Отказ от традиционных норм «подтачивает» религиозность. Быстрая смена базовых норм «создает поляризацию между теми, кто придерживается традиционных мировоззрений», и адептами новых. Результат – появление политических сил и фигур типа Трампа, «Альтернативы для Германии» и т. д. Это вызывает сильный политический конфликт и ставит под вопрос стабильность старых западных демократий. Интересно, что сейчас в мире религиозных людей больше, чем полвека назад, поскольку мировые религии поощряют многодетность, а секуляризация подавляет ее. Поляризация коэффициентов рождаемости – важный факт современности, но он не должен затенять другой факт, а именно то, что секуляризация продолжает наступать. В том числе и в странах с низкими доходами, по мере их модернизации. Именно «модернизация приносит благосостояние, приводит к снижению уровня насилия и улучшению здоровья населения, уменьшая таким образом спрос на религию». Секуляризация развивается прежде всего там, «где достигнут высокий уровень экзистенциальной безопасности, и может повернуть вспять там, где продолжительное время безопасность будет подвергаться эрозии».
Россия представляет собой именно такой «возвратный» случай. Инглхарт рассматривает ее как часть группы «посткоммунистических стран», чье население пережило в 1990-х годах сильнейший шок вследствие ломки привычной общественной системы. «Безопасность имеет как психологический, так и физический аспекты. Коллапс системы убеждений может уменьшить ощущение безопасности в такой же степени, как война или экономические трудности». Коммунистическая идеология носила квазирелигиозный характер, вселяя в людей «уверенность, что мир находится в руках непогрешимой высшей силы, гарантирующей тем, кто следует ее правилам, в конце концов благополучный исход». Крах коммунизма «привел к масштабному снижению субъективного благополучия среди жителей бывшей советской империи». Это и позволило «религиозности и национализму заполнить идеологический вакуум». Как результат, в посткоммунистических странах произошло возрождение религии. Они в большинстве своем до сих пор остаются на обочине секуляризационного процесса. Однако в тех из них, где экономические трудности оказались быстро и эффективно преодолены (например, в Словении), рост религиозности уже прекратился, и движение сменило свой вектор. Теперь бал там правят постматериалистические ценности свободного выбора, что ведет к снижению религиозности, но с определенным лагом по сравнению с другими странами с высокими доходами.
Еще одним известным исключением из процесса секуляризации до последнего времени были США. Если в целом по миру рост доходов и повышение безопасности вели и ведут к распространению норм индивидуального выбора, что снижает уровень религиозности, то в Америке это было не так. Однако в последние годы и здесь ситуация радикально поменялась. «В 1990 г. жители Швеции были первыми, кто достиг переломной точки, в которой поддержка норм индивидуального выбора превысила поддержку норм рождаемости; в дальнейшем к шведам присоединились жители почти всех богатых стран, последней из которых не так давно стали США». Драйвером здесь, как и везде, стала смена поколений. Если в 1982 г. 52 % американцев сказали, что Бог очень важен в их жизни, то в 2017 г. – только 23 %. Доля тех, кто никогда не посещает богослужений, выросла с 16 до 35 %. Когда доля людей, придерживающихся норм индивидуального выбора, достигает критического уровня, вектор изменений меняется на противоположный, и приверженцы традиционных норм оказываются в меньшинстве. Это ведет к культурному и политическому расколу, который, однако, не может остановить дальнейший дрейф в сторону секуляризации. Вопрос о США правильнее формулировать так: почему эта богатая страна так долго оставалась в стороне от общего тренда?
По оценке Инглхарта, это происходило по причине пониженной по сравнению со странами Европы и Японии экономической безопасности. В США отсутствует современная общественная система медицинского обслуживания, крайне жесткие нормы трудового права, сильное антипрофсоюзное законодательство и т. д. Именно поэтому большинство американцев до недавнего времени находили в религии защиту от трудно предсказуемых и неуправляемых рыночных сил. В других странах с высокими доходами такую защиту обеспечивает государство всеобщего благосостояния. Но означает ли снижение религиозности наступление царства аморальности и гедонизма? Наверное, это самый серьезный вопрос всей книги. Консерваторы, приходящие в ужас от забвения молодым поколением норм рождаемости, освящаемых религией, именно так и думают. Автор же полагает, что это не так. Будущее мира, по его мнению, лежит в распространении североевропейской общественной модели, наиболее ярко представленной Скандинавскими странами и Нидерландами. Здесь религиозность близится к нулю, но уровень преступности крайне низок, а уровень взаимного доверия, вовлечения людей в демократическую политику, альтруизма, толерантности, наоборот, рекордно высок. Конкурирует с североевропейской моделью не американская, которая сейчас переживает эрозию, а китайская – тоже секулярная, но гораздо более авторитарная. Автору она несимпатична, и он находит множество аргументов (правда, не основанных на данных) против нее. Крах религии открывает перед миром самые разные возможности, а какая из них реализуется – зависит от всех нас.
Од де Керрос
Современное искусство и геополитика
Хроники экономического и культурного доминирования
М.: Кучково поле, 2022

Есть ли связь между искусством и жизнью, насколько она тесна, является ли одно– или двунаправленной? Или творчество и реальность – совершенно не связанные и далекие друг от друга области? Спор об этом идет веками. Французская художница и искусствовед Од де Керрос на материале современного искусства показывает, что такая связь не просто существует – она определяет успех или поражение целых течений в искусстве. Именно в реальном мире экономические и политические элиты одни культурные течения объявляют правильными и открывают им все двери, другие же обрекают на забвение и нищету. Последние сто лет реальность, диктующая волю искусству, стала реальностью геополитики. Соперничество мировых держав протекает теперь не только на силовом, дипломатическом и экономическом фронтах, но и в культурно-идеологическом пространстве. Особую актуальность борьба за умы приобрела после мировых войн, когда планета разделилась на две системы – капиталистическую и социалистическую, – схлестнувшиеся в мирном (по большей части) соревновании. Все средства в их борьбе были хороши, и одним из них стало «правильное» искусство. Началась борьба за право решать, где будет твориться современное искусство, кто будет задавать его стандарты, получать от этого прибыль и зарабатывать на этом идеологические бонусы. «Совриск» стал объектом внимательного кураторства и финансовой поддержки со стороны Госдепартамента и ЦРУ США.
И это дало результаты: «Холодная война культур была выиграна при помощи махинаций со смыслами». Падение СССР воссоединило мир под эгидой капитализма, более не сдерживаемого никакими противниками и условностями. Наступил век глобализации, и все словно с цепи сорвались. «Всемирно признанными и ликвидными оказались три вида материальных ценностей: сырье, финансы и… искусство» (про технологии автор забывает, но художнице это простительно). Не требующее перевода, современное искусство транслирует нужные идеи и стирает все границы. Его стоимость произвольна и изменчива, что превращает его в востребованный «финансовый инструмент, очень кстати не облагаемый налогами, нерегулируемый, неуловимый». Уже в конце 1980-х начались «умопомрачительные рекорды арт-рынка» – разумеется, рекорды финансовые. Повсюду, где велика концентрация миллионеров, распространились аукционные дома. Они «стали определять стоимость арт-объектов благодаря новым способам секьюритизации». Двухуровневая структура арт-рынка – внизу галереи, вверху аукционные дома – рухнула. Возникла новая финансовая технология: «крупнейшие коллекционеры стали заранее кооптировать художников, которым предстояло прославиться, затем содействовали проведению их выставок на престижных площадках и лишь после этого выставляли работы на аукционах, где известность их авторов становилась всемирной, а цены – космическими».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































