Текст книги "Тадзимас"
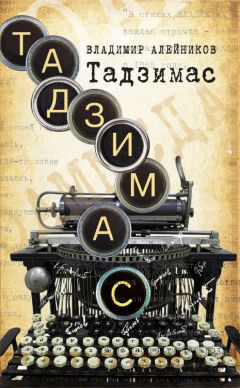
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
В мире так все устроено разумно, между прочим, что и у человека две ноги, а не одна. Потому и нас в мире двое. Никакая это не уравниловка, Саша, боже упаси. И у нас есть свои недостатки. Но я говорю о позиции, а не о позе, о жизни, а не о пристраивании, о сущности дарования, наконец. В поэзии не может быть одного лидера. Но могут быть – двое, трое, пятеро… То есть именно плеяда. Это не спортивные соревнования. Это – душа и кровь.
Масштаб твоей поэзии таков, что все, не вошедшее, из-за „избранности“ вынужденной, кричит, вопиет, требует своего места на типографской бумаге, – под солнцем-то, к счастью, есть у него место.
Нелепейшая, бредовая ситуация с изданиями, отравлявшая жизнь и ранее, приведшая к болячкам, драмам, заставлявшая прежде всего самим себе доказывать, что ты еще прочен, что есть этот самый порох, что стоек ты, вопреки всему, так и норовящему подкосить эту стойкость, что выстаивал, поднимался ты из бед и в прежние годы не напрасно, и еще выстоишь, и поднимешься, и в работе найдешь спасение, и скажешь еще свое слово, и действительно скажешь его, и сызнова скажешь, и останется это слово, как и встарь, на бумаге, в рукописи, в лучшем случае в самиздате, в этих наших бесчисленных сборниках самодельных, читаемых в основном людьми самиздата, надежными и достойными, это так, и круг этот вроде широк, но изданий нормальных все нет, и когда они будут, неясно, хоть должны ведь когда-нибудь быть, и опять восстаешь, и работаешь, говоришь свое слово, движешься дальше, глубже, вперед и ввысь, а года идут, и растет пресловутый „корпус“ писаний, и чего-то светлого ждешь, а его все нет, – продолжается.
Очень удобно всяким субчикам не замечать нас, делать вид, что нас вроде и нет на горизонте, хотя мы есть и, знаю, еще увидим свет при жизни, а уж в другой, пожалуй, жизни и водой не разольешь, тогда и наверстаем упущенное, потому что нечего бояться, и придется жить, и здесь, и там.
То-то некоторые премудрые иностранные слависты и грамотные сограждане удивляются: что же это, мол, ни про тебя, Володя, ни про Величанского никто и не пишет, не говорит, не упоминает нигде (имеются в виду Айги, Рейн и прочие эгоисты, выезжавшие в западные страны).
А я спокойно отвечаю:
– Мало ли как бывает, мало ли кому нынче утвердиться надо любой ценой, – а что касается нас, то Саше я, слава богу, цену знаю – и уверен, что и он обо мне помнит всегда.
Качают иностранцы и сограждане головами, чудно им все это, привыкли они в основном на бумаге читать, кто есть кто и какие имеет заслуги перед русской словесностью.
Вон Айги, все базу подводит под собственное творчество (а существует ли он в стихии русской речи? простой вопрос!), парижское издание: треть объема – трактаты и толкования о нем, чувашская книжонка – шестнадцать стихотворений и куча цитат, какой он великий.
Когда Рейну нужна была книга, и я помог ему с изданием, то поначалу, покуда все решалось, я у него в Ангелах ходил, когда же рукопись поставили в план – то вдруг оказалось, что, когда ни позвони ему, он все занят и занят, и не до встреч ему, не до разговоров, то есть не до меня, поскольку дело-то сделано, и книга выйдет с гарантией, и зачем я ему теперь, он вполне без меня обойдется; ну, ему и было высказано, соответственно, не больно пусть губы-то раскатывает.
Кстати, покойный Губанов, человек действительно талантливый (я вчитался в его тексты), с невероятным вниманием – из всех, им читанных, писаний современников – читал и даже внимательно, сознательно изучал (он мог это делать, поверь, не такой уж он был спонтанно-завихренный, как некоторые считают) только мои и твои стихи, по-школьному, что ли, ревностно, по-мальчишески немного, и потом сам всегда кидался в бой, то есть писал свое, доказывал, что и он не промах. Было, было. Как жаль его. Вот перечитывал здесь мюнхенское его собрание стихов, перечитывал, потому что это все мне было знакомо, и видел, какой он был трагический человек, и знаешь, что я подумал? Боже мой, сколько буйного нетерпенья, а надо бы, хоть немного, терпенья. Смирение тоже оружие, когда сам христианин, когда стихи духовны. У Лени, несмотря на постоянное упоминание Храма и Бога, преобладало языческое, стихийное, младенчески-школьно-изумленно-пугающе-втягивающее какое-то, не могу выразить, начало. Но вообще даже я не читал еще полностью оставленного им свода, и ко всему следует подойти серьезно.
По-настоящему серьезный поэт – Николай Шатров, многое из его архива сейчас у меня, и я приведу это в порядок, ты еще почитаешь и, думаю, оценишь. Хотя был он и старше тебя и меня (1929–1977) – увы, вместо всего-то одной даты, рождения, приходится теперь указывать и вторую, грустную, дату, – но я принимаю его к нам двоим, есть причины. Какой поэт!
Скажу, положа руку на сердце, да и просто, без всяких жестов, что, как бы там ни складывались в былые годы судьбы и биографии, чего бы там ни пришлось выдержать, вытерпеть, пройти, перебороть, сколько бы ни было позади, на пути, утрат и обретений, что бы там еще ни предстояло преодолеть впереди, один Бог это знает, но кое-что действительно толковое, стоящее, и даже не кое-что, а немало, да, немало, и это так, все-таки у нас в отечестве, за тридцать прошедших лет, написано, и это и есть литература, и ты, полагаю, тотчас же согласишься со мной.
Тружусь постоянно, много. Бывает, что и прихварываю. Восстаю – из любых состояний. Надо – жить. И надо работать.
Отсутствие чеканного стиля, французистой логики, аглицкого толка афоризмов, изысканных оборотов, озадачивающих парадоксов, цитат на семи языках, включая и греческий, вкраплений максим и всяческой философской мешанины в дружеском письме, пожалуй, понятно для тебя, – ни к чему все это, и нам-то в особенности, посему – просто, как и раньше не раз бывало, говорю с тобой – издалека.
Славно было бы, если бы ты познакомился и подружился с находящимся ныне в Москве и решившим остаться в России Соколовым Сашей, – надеюсь, он приедет к тебе, – об этом написал я ему недавно. Сообщаю его телефоны. Увидитесь – буду рад.
Каково мне здесь нынешним летом, у себя, на родине речи?
Прежде всего – привычно. Хорошо – для души. И – грустно. Почему? Объяснять не стану. Потому что еще и светло.
Моему другу, эрдельтерьеру Ише (Ивасику), исполнилось два месяца. В доме нашем обитают еще три собаки и котенок. Ишка носится везде, куда только заносит его энергичное и юное изумление перед миром. Поэтому вчера отправились мы с детьми и с ним на реку, и там я нарезал полыни, для него, Ишастика, чтобы защитить его, по народному способу, от блох. Сейчас друг Ишка, нагулявшийся и довольный жизнью, лежит на полу, рядом со мной.
Маше с Олей, моим дочерям, здесь очень хорошо, они растут, хорошеют, набираются сил на приволье, играют себе, вместе с дочкой брата младшего моего, в свои какие-то игры, общаются по-своему, читают, рисуют, накормлены, веселы и наверняка счастливы.
Отец и мама на пенсии, кое-что делают по хозяйству, я помогаю им, и материально, и физически. Дом есть дом.
Людмила осталась в Москве. Я без нее скучаю. Жду встречи. Вдвоем нам с нею надежнее как-то, праздничнее, справедливее в мире быть.
Ритмы жизни моей меняются. Возраст? При чем тут возраст. Пусть и немолод я. Вроде бы. Силы при мне. И немалые. Время дорого. Вот что. Время. Потому и работаю.
Иногда и грустно становится. Ну зачем, например, я начал переводить украинца? Опять самому приходится писать практически все. Сдавать готовую рукопись надо в августе. В переводы втянулся – и сам не рад. Не от хорошей жизни взялся за это дело. И не только ведь я один перевожу эту самую поэзию народов СССР. Эпопея моя переводческая – история непростая. И все лучшее – так и не издано, как всегда. Хотя сделано – много.
Перепечатываю помаленьку том стихов семьдесят четвертого – семьдесят восьмого годов „Ночное окно в окне“. В нем – слишком хорошо известное всем нам, отечественное, махровое безвременье, которое побеждал я Словом.
Не знаю, действительно ли ты написал вступительное слово к „Отзвукам праздников“. Лучше никто не напишет, знаю. Сам ты всегда и во всем можешь на меня рассчитывать твердо.
„Удел“ разослал я хорошим людям. Отправил и Марии Николаевне Изергиной в Коктебель. Первого июля поеду с детьми и с отцом к ней, двадцать первого июля снова буду в Кривом Роге.
Теперь ясно, что оба мы писали, каждый свою, большую, огромную книгу, единую. Увидим ли? Помнишь: „И тогда я открыл свою книгу в большом переплете…“
В округе полно горлиц, живут они в моих стихах. Сковорода писал: „Счастiе, где ты живеш? Горлицы, скажите!“
Все здесь знакомо и дорого. Почва, родина – здесь.
Из элегии давней моей: „…а горлица – о друге…“
Не пью ничего спиртного, даже в мыслях этого нет. Может, отпили свое? Попиваю чаек. Привык. Или – соки домашние вкусные, порою. Но больше – чай.
Третий день собирается дождь, никак не соберется. В небе набухает, ворочается влажная, сизоватая облачная масса, происходит некое роение, брожение, сгущаются цвета, и воздух закручивается пружинами, спиралями, и ветер налетает, а потом затихает, и вновь сквозит по листве, по ее густоте зеленой, и терпко, пронзительно пахнут цветы, и птицы поют во всей округе без умолку, и дни полны шелеста, шорохов, звуков, отзвуков, призвуков, переплесков и вспышек света, шума, гула, журчанья воды в садах, мыслей, музыки, песен, загадок, недомолвок и тайн, обещаний, открытий, наитий, и мир остается древний, в новизне своей неизменной, непреложной, самим собою, и земля хороша родная тем, что силы дает мне жить и дышать, – а дождя мы еще дождемся.
Югославы (Миливое Йованович и другие) просят меня составить для перевода толковую антологию лучших нынешних русских поэтов, – уж я составлю, можешь быть уверен.
Подлечиться тебе, окрепнуть – просто необходимо.
Я – держусь. На упрямстве. На воле. Энергия – все-таки есть.
Завершаю свое послание. Лизе – привет. Надеюсь до отъезда нашего в Крым весть от тебя получить.
Бог тебе в помощь, Саша. Всего тебе самого светлого.
11 июня 1989 года».
…В девяностом году, в августе, я вернулся с детьми из Коктебеля в Кривой Рог, в родительский дом. И решил написать Саше Величанскому, поздравить его, пусть и с некоторым, небольшим, запозданием, с днем рождения, с юбилеем, с его пятидесятилетием.
Александру Величанскому – неотправленное, незаконченное письмо.
«Дорогой Саша, драгоценный Леонидыч!
Я поздравляю тебя с твоим золотым пятидесятилетием от всего сердца. Желаю тебя света, здоровья и творчества. Будь крепок и крылат. Ведь ты Дракон, ты Лев с его солнцем. И это прекрасно.
Пишу тебе из отчего дома.
Восьмого августа, в твой юбилейный день, я с детьми находился в дороге – возвращался сюда из Коктебеля. И там, в дороге, все принимался мысленно тебе писать, с тобою говорить, длилось это долго, да и вообще, видимо, это вошло у меня в привычку – находясь вдалеке, разговаривать с человеком, о котором думаешь и которому веришь.
Можем ли мы считаться друзьями – мы, знающие друг друга двадцать шесть лет, порою общавшиеся частенько, порой не видавшиеся годами, умудрившиеся пройти эти годы каждый по своей дороге? А что значит – можем ли? В тебе, едва ли не первейшем из всех моих современников, – по открытости взгляда, чистоте души и высоте духа – вижу я и чувствую светлого друга.
Алмазной ясности и крепости русский поэт, богема и отшельник, дитя и мудрец, – всегда ты рядом, всегда.
Бог тебе в помощь. На всех путях – с Богом!
13 августа 1990 года».
Лиза!
Здесь письмо прерывается: что-то вдруг заставило меня позвонить Толе Лейкину – и я узнал тяжелейшую весть…
Вечер, ночь, утро – осознание утраты.
И понимание – чести, достоинства, Слова.
14 августа 1990 года.
(…И добавить мне к этому – нечего…)
…Поэт и читатель. Извечные – и неразлучные двое. Собеседники, единомышленники. Исповедующийся – и исповедник. Читатель, о котором поэт мечтает, в которого верит, которого ждет. И поэт, открыв которого для себя однажды читатель жаждет понять как можно глубже, «до самой сути», войти в его мир, будучи доверительным и внимательным путешественником в прекрасном, открывателем, ценителем и хранителем самых дивных сокровищ, которые только можно найти на земле – сокровищ человеческой души. Столь достойная и серьезная тема вызывает целый вихрь ощущений, подобный шопеновскому фортепианному взлету, или стае птиц, взметнувшихся в высокое, полное красоты и значения небо. Сколько в этой теме возможностей для размышлений над книгами любимых поэтов, наедине с поэзией, сколько поводов для самых разнообразных сопоставлений и аналогий! Подлинное понимание, истинное постижение поэта – дело нешуточное. Это большой труд, приближающийся иногда по затратам умственных и сердечных сил к труду, затраченному автором стихов при их создании. Чем больше, значительнее читаемый поэт, тем значительнее и ответственнее, тем почетнее труд читателя. Русским поэтам повезло. У них всегда, на протяжении всей истории русского стихосложения, был, есть и будет свой, благодарный им читатель. Поэзия всею сущностью своей устремлена прежде всего к людям. Она создается для них, адресована им и в момент рождения, и через десятки и сотни лет. Поэт и читатель всегда движутся навстречу друг другу. Они ищут друг друга – и находят. Это взаимное притяжение ничем невозможно удержать. Оно сокрушает все преграды, ему неподвластно даже время. История – союзница читателя и поэта.
Что говорят обо мне – мои читатели?
Голоса их – перекликаются.
Голос мой одинокий – сквозь гул этот въявь различим.
– Владимир Алейников, вне всякого сомнения, самый одаренный поэт своей плеяды, а может быть, изначально, один из самых одаренных поэтов своего времени, – говорит Александр Величанский. – Возникнув в момент перехода от одного безвременья к другому, поэзия Владимира Алейникова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что, в существе своем, заключает тайну единовременности всего сущего. – Такой совершенно правильный вывод он делает. И далее высказывает целый ряд важных соображений. – Энергия дарования Алейникова остается энергией самосозидающей, тем не менее, личностно принадлежащей ему самому. Лишь причастность к этой энергии дала Алейникову возможность противостоять трагедии, навязанной ему безвременьем. Алейников сохранил и свои стихи, и себя самого, состоявшись поэтому как поэтическое явление. – И угадывание его продолжается. – Среди бескрайнего безвременья гул алейниковского потока был для его современников живительно влажным. Так в пустыне обезумевшему от жажды грезится шум воды, «застенчивой воды», ее же не напьешься. Или же этот гул воспринимается как отзвук благовеста, который еще не прозвучал, ибо в поэзии Алейникова всегда грезится отсвет некоей благодати. Трудно сказать, откуда возникает такое ощущение. Возможно, это то свечение, которое дает распад недореализованного, но дарованного свыше вдохновенья. То есть, строго говоря, хоть благодать и не пресуществилась в стихах Алейникова, но, возможно, на фоне нынешних времен, на фоне воинствующей безблагодатности или тщеславной имитации «боговдохновенности» нынешних поэтических изысков, гармония Алейникова, «до скончания ума» искренне стремящаяся к познанию таинства поэзии, воспринимается как реализующееся предчувствие благодати, и главное, как безотчетное стремление к ней. Такого рода константа духовных устремлений определяет целостность того явления, которое мы называем поэзией Алейникова. Потому не следует удивляться уникальной для своего времени невозмутимо спокойной благожелательности, совершенно не соответствующей контексту временных обстоятельств. Такого рода душевную ясность не следует сводить только к самоотчуждению автора в отношении своих стихов. Она – следствие искупительной способности к мужественному и проницательному самосознанию. – И еще говорит он вот что, ибо знает – что говорит: – Поэзия Алейникова – поэзия озвученного безвременья, причем алейниковский звук не вторил гражданскому набату, но, как сказано, был эхом некоего грядущего благовеста. Уже на собственной заре поэзия эта состоялась как законченное явление, и для того, чтобы оценить ее уникальность, необходимо прежде всего исторически удалиться от ее феномена. Внешне бросающиеся в глаза, как бы неточно смоделированные смысловые лакуны еще не наполнились той ассоциативной материей, которую «отдаст» только время – кровный враг и кровный должник Алейникова. – И далее: – Поэзия Алейникова, давно признанная его аудиторией, вскоре будет по-настоящему широко оценена и, видимо, сначала, прежде всего – поэтами, теми, для которых минет необходимость глядеть на творчество Алейникова сквозь призму собственных самоутверждений. И, как это ни парадоксально, восприятию уникальности алейниковской поэзии будет способствовать именно заключенный в ее структуре механизм осуществления культурной преемственности в процессе усвоения поэтических ценностей эпохи. То есть порой слишком тесная связь Алейникова с усвоенными им поэтами, обернется связью с поэтами, которые будут усваивать его произведения. Таким же образом его «блаженное бессмысленное слово» станет доступней и неискушенному читателю. Говоря об усвоениях в поэзии Алейникова, следует сказать и о том влиянии, которое уже оказали его стихи на формирование поэтической ситуации в отечественной словесности. Можно было бы привести примеры прямого влияния Алейникова на современников, но, по большей части, такое влияние было следствием несамостоятельности и увлеченности испытавших его. Значительно важней тот факт, что Алейников сумел заключить именно в своей имперсональности, безличности целое поэтическое течение, где звук, наполняясь собственным содержанием, превращает безвременье в нормальную вечность.
И я говорю:
– Трудно, Саша, мне быть – одному. В плеяде ли своей, в других ли каких сообществах, собраниях, сборищах, среди людей, особенно – пишущих, среди литераторов – так называемых, в основном, потому что причастность их к литературе – мнимая, это просто игра такая, привычка, инерция, необходимость – как за соломинку, цепляться за эту самую их якобы причастность к литературе отечественной, и все больше становится это с годами – просто игрой, неким времяпровождением в тусовках, где есть необходимый элемент игры, все реже, впрочем, различимый – посреди всеобщей меркантильности, в страшную пору притворства, цинизма, расчета везде и во всем, смены масок, личин, привыкания к лживой подмене ценностей и основ – драным антуражем вроде бы карнавального, а на поверку – просто повального хаоса, где слово брошено на произвол судьбы, где речь вывернута наизнанку, где понятия поставлены с ног на голову – и все это длится, длится, тянется, продолжается, без всякой меры, без правил, без малейшей оглядки на правду, мечется, как заведенное, или, скорее, запрограммированное и осуществленное кем-то, кто не виден и не слышен там, но чье незримое и жуткое присутствие всегда там ощутимо, – вот и морок, и бред, и развал, все – в обнимку, все – разом, все – в стае, ну а лучше сказать бы – в стаде, вот и все, что живет – распадом, разрушеньем, плодится, длится, процветает в своем ничтожестве, хорохорится, фраерится, начинает мнить о себе уж такое – куда там! – всем им недосуг разобраться в себе, в том, что пишут, что натворили, в том, что всюду они говорят – механически, без раздумий о причине кошмара, без мыслей о последствиях каждого шага, без догадок о будущем их – то есть полном отсутствии, полном, такового, – но что с них взять! – о, скольжение их по наклонной, где-то там, в завитке спирали, – средь волокон узла тугого, – не дано им его развязать.
В одиночестве давнем своем – там ли, среди безвременья, когда все мы еще хоть как-то, пусть изредка иногда, но зато уж по-человечески, с толком, с сердцем, с душой, общались – виделись, говорили, читали друг другу стихи, потому что внимание – было, да бывало и пониманье, – ныне ли, в междувременье, в отдаленье от какбывременной ахинеи и белиберды, на грани века безумного, на кромке тысячелетия, на краешке милой земли, у моря, здесь, в Киммерии, – привык я как-то справляться с отчаяньем и с тоской, привык вспоминать о прошлом – и видеть в нем что-то хорошее, и слышать в нем тайную музыку веры, надежды, любви, привык я думать о днешнем и принимать его, все, целиком, такое, как есть, – а как же иначе? – привык я видеть такое, чему выраженье – в слове, в речи своей, находить стараюсь, насколько возможно, как уж там получается, и все это – рядом со мной, во мне самом, в ежедневном, ежеминутном ритме – творческом, безусловно, затворническом – так уж вышло, жреческом – полагаю, провидческом – иногда, певческом – неизменно, отшельническом – пусть и так, но это – мое, и с ним я дышу намного свободней, нежели там, в скопленьях людских, в суете мирской, и все это – жизнь, в которой и радость порой приходит на смену хандре и грусти, и свет на пути встает.
Быть может, опередил я век свой, вырвался в завтра – и вот взираю оттуда на все, что прозрел давно. Быть может, планида такая – и что мне поделать с нею? – жить, как и жил, смиренно, ждать – вниманья к себе. Жертвенность, гордость, крепость! Вызолочен на синем легкий листок в пространстве, чтобы, сквозь время, – в лет! С новой весною – новый легкий листок на ветке зазеленеет, новый свет различит щедрот. И то, что в тягость мне – схлынет, уйдет навсегда, исчезнет, растает где-то, затихнет, – лишь слабый отзвук вдали порою оттает, вздрогнет, поймет: его не забыл я, – и молча глядит оттуда, как будто из-под земли.
Вижу Сашу Величанского – рослого, длинноногого, худого, даже очень худого, но не анемичного, а как раз мускулистого, жилистого, подтянутого, с короткими кудрями, с глазами, раскрытыми в мир, то веселыми, с искорками, то сощуренными, глядящими куда-то внутрь себя, в такую глубь, куда никому, даже приятелям, доступа не было, вижу его все время в движении, в постоянном движении – резко встающего с места, срывающегося с места и устремляющегося неизменно вперед, стремительно идущего по улице, мгновенно реагирующего на любую сказанную фразу, динамичного, порывистого, задумывающегося – так всерьез, говорящего – так уж интересно, переполненного энергией, молодого, после службы в армии поступившего в университет, – осенью шестьдесят четвертого, среди листьев и окон, днем, в сентябре.
Он сам подошел ко мне – чтобы познакомиться. Происходило это на «психодроме», во дворике МГУ, на Моховой.
Тогда, как ни странновато это сейчас звучит и как ни грустно мне говорить об этом, был я уже известен как поэт. Меня знали в Москве. Да и здесь, в университете, ко мне постоянно подходили – знакомиться, звали куда-нибудь – почитать стихи, просто хотели – пообщаться. Я уже стал даже к этому привыкать. Приятно, конечно. Известность. Впрочем, было это лишь самое начало давней моей известности. Я не носился с собой, как с писаной торбой. Нос вовсе не задирал. Был таким, каков есть. Просто – самим собою. Выгод никаких из этого и не думал для себя извлекать. Наоборот, нередко испытывал неловкость. Даже смущался. При всей своей тогдашней общительности – внутренне оставался замкнутым.
Сашу же тогда еще никто не знал. Ну, может, почти никто. Были ведь у него приятели, знавшие о том, что он пишет стихи. Но те люди, с которыми я постоянно общался, его пока что не знали. Ничего. Вскоре – узнали. Я постарался его со многими познакомить. Сашиной известности в ту пору еще только предстояло быть. Она едва начиналась. Но она состоялась. И я этому только радовался.
Итак, Саша подошел ко мне – знакомиться. Мы пожали друг другу руки. Разговорились. И вдруг показалось мне, что я давно, хорошо его знаю. Более того – доверяю ему. Принимаю его – таким вот, каков он, Величанский, есть, полностью, без всяких оговорок.
Важно, что буквально на следующий день и Саша сказал мне напрямую, что сам он тоже ощутил какое-то особое родство со мною. А что тут удивительного? Все дело было в поэзии и в том, что оба мы жили ею.
В тот раз, в день знакомства нашего, мы, конечно, читали друг другу стихи. Но как же – без этого? Было это, наверное, что-то вроде визитных карточек. Почитали друг другу – и многое стало ясным. Само по себе. И слов никаких лишних не потребовалось.
Ах, что это за время было – когда стихи жили в устном исполнении, воспринимались – с голоса! Орфическая пора. Такое – не повторится. Хорошее бывает только раз.
Он почитал мне – свое. Я почитал ему – свое. И началось – общение. Творческое. Настоящее. Да нет, наверное – дружба. Особая. Дружба поэтов. Отчасти – соревнование. Больше – потому, что не общаться мы просто не могли. Конечно, это судьба. Разумеется, этого просто не быть не могло. Свыше было сказано – быть! Вот поэтому оба мы и восприняли это как должное.
Величанский был старше меня на пять с половиной лет. Разница в возрасте вроде бы и подразумевалась, но не декларировалась. Мы всегда общались на равных. Да еще, если вспомнить, как рано я начал писать стихи и как быстро сформировался как поэт, разница в годах и вовсе исчезала, за ненадобностью. Жили мы – настоящим.
Саша был человек совершенно московский. И хотя и родился он в Греции, оторвать его от столицы было невозможно. Парень из благополучной советской семьи. Из московской золотой молодежи. Отец – журналист-международник, со своими заграницами, положением. Английский язык – ну прямо как русский. Повадки, замашки. Компании. Пьянство – масштабное, крупное. Помимо университетских занятий на истфаке – неутомимое самообразование.
Многое приходилось ему наверстывать после армейской службы где-то в Белоруссии, в лесной глухомани, в ракетных частях, где московская Сашина компания – Петя Шушпанов, Вадик Гинзбург, еще кто-то – пребывали как в потустороннем мире, держались дружной, сплоченной стайкой, выживали, как умели, как получалось, пили самогон и прочие напитки, пили регулярно и крепко, так, что, например, когда выпадала возможность побывать в соседнем селе, то Шушпанова, уже надравшегося так, что больше не было смысла добавлять, дабы он не потерялся где-нибудь по дороге, они просто зацепляли его собственным ремнем за забор, вывешивали, так сказать, на воздух, а сами отправлялись в свой поход, и по возвращении в воинскую часть проспавшегося Петю с забора снимали, – впрочем, о периоде армейской службы московских приятелей куда лучше сказано в романе Шушпанова «Вброд через великую реку», до сих пор неизданном, а давно бы надо сочинению этому славному свет увидеть, – итак, после армии нужны были Саше – знания.
Он очень много работал. Помню его ранние сборники, подаренные мне. Стихи короткие, жесткие.
– Сегодня возили гравий. И завтра – возили гравий. Сегодня в карты играли, и завтра – в карты играли. А девочки шлют фотографии, и службы проходит срок. Вот скоро покончим с гравием и будем возить песок.
Ну, это все знают. А вот:
– Выточил финку себе из напильника. Мне не в новинку – снова напился я. В клубе строителей хилому фраеру к радости зрителей в ребрышки вправил я…но светит мне – и не зацапали даже в свидетели.
Или такое:
– Трубят трубы гарью, над городом горечь. Идут хулиганы – за корешом кореш. И в черных машинах, зашторив оконца, кто делал ошибки – садовые кольца?
Что это? Каково? Столичный интеллектуал. Дома – гора книг на английском языке. А тут – прямо от Холина что-то. Ну, пусть от старого Кропивницкого. Но все-таки…
Были это – подступы к самому себе. Пробы. Именно так назвал Саша крошечный этот раздел ранних стихов в сборнике «Удел», изданном с помощью друзей много позже.
– Как в отсутствие Одиссея Пенелопа себя вела? – женихи ее так и сели, так и бросили все дела. Только солнышко над Элладой – ткет старуха что было сил, а им теперь ничего не надо – лишь бы выпил и закусил.
Саша много писал и неуклонно двигался вперед. Рос. Да, безусловно. Собственные интонации прорвались уже вскоре.
– Не какой-нибудь там, а простой парусиновый парус, и порядковый номер, и буква на парусе том, паруса задыхались, как люди, как люди, трепались и белели, как люди, на синем, потом на седом.
Потом было:
– Кто, – спросили у меня, – знает этого коня? Я ответил, что скорее, вероятнее всего это знают два еврея, два прекрасные еврея из картинной галереи возле дома моего.
Много чего было – потом.
– Я бы жил совсем иначе. Я бы жил не так, не бежал бы, сжав в комочек проездной пятак. Не толкался бы в вагоне, стоя бы не спал. На меня б двумя ногами гражданин не встал. Я бы жил в лесу усатом, в наливном саду этак в тыща восьмисотом с хвостиком году. И ко мне бы ездил в гости через жнивь и гать представитель старой власти в карты поиграть.
– Закат за осиновой сетью померк. И лёд выступает дыханья поверх. И яркая щель, что ведёт в магазин всё ярче – с исходом небес и осин. И снег заскрипел высоко в небесах и падал потом, попадая впросак, как в чашку лохматую сахар-песок – исчез на губах, на ресницах просох. Озимые люди по избам сидят. Спасибо, соседи когда посетят: ведь время – не сахар, и сердце – не лёд, и снежная баба за водкой идёт.
– Мои стихи короче июньской белой ночи, но долгим свежим сумраком окружены они. И вы о них мечтали среди стекла и стали в казённые безжизненные дни.
Саша сидел за пишущей машинкой, печатал один самиздатовский сборник за другим. Он тоже, как и я, – писал не отдельные стихи, а книги, мыслил – книгами. Как они складывались у него – не знаю. Да и вообще это тайна. Личная. Творческая. Главное, что книги он писал. Все новые. И образовался у него постепенно свой круг. Свои у него были – ценители, поклонники. Свои задачи – в поэзии.
– Крепчайшую вяжите сеть, но бойтесь умысла, улавливая суть (у истины запаса нет съестного: у истины судьба – на волоске висеть). Пусть вытекает слово, как море из улова, забыв свою оставшуюся сельдь.
– Ничего, ничего, еще будет в чести эта малость тепла в человечьей горсти – стает снег под твоею озябшею тенью – только ты не забудь, не отчаивайся и прости. Ничего, ничего…
Он, кажется, бросил потом университет. Но все его знания, обширные, были при нем. И талант его был очевиден.
– В продолжении рода спасенья себе не ищи: нищету своей памяти ты завещаешь потомкам – и не видят они, как ты медленно таешь в ночи – на глазах исчезают, окутаны временем тонким. Никого не вини. Никому не печалуйся в том. Одиноким виденьем становится жизни истома. А кругом – тот же скарб, тот же скрип у дверей – тот же дом, тот же скверик с детьми перед окнами зримого дома.
– Лист оборвавшийся в каменном городе кружит. В каменном городе – синие стекла да камни. Камнем упала огромная первая капля в полуистлевшие старые пыльные лужи. Красный трамвай через мост продвигается синий. Чёрная очередь вьётся у жёлтой палатки. Серые листья на землю лиловую падки. Водки зелёной куплю поскорей в магазине.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































