Текст книги "Тадзимас"
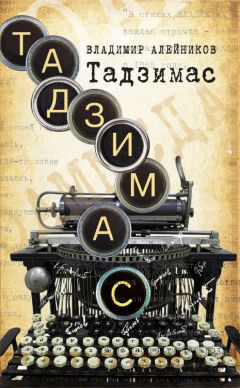
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
обстоятельными трактатами – во всех областях знаний,
увлекательными путевыми записками, читающимися и нынче с увлечением, единым духом, и оторваться от них невозможно,
поразительно точными картами – смотрите, вот они, маршруты путешественников прошлого, вот они, очертания морских побережий, островов, русла рек, озера, горные кряжи, пустыни, степи, – все тщательно вычерчено, все зафиксировано, – и смотришь на расчерченный лист, и сквозь прихотливые сплетения линий воображаешь, грустно вздыхая, то, что цвело здесь когда-то,
незримым присутствием давно исчезнувших цивилизаций, присутствием, быть может, и фантомным, – но – с корнями вот в этой почве, а значит, и не утраченным окончательно, – некоей особенной реальностью, с которой обязательно надо считаться,
затейливыми раковинами, в которых неустанно плещутся иные, чужие моря, но чужие – это еще не чуждые, не враждебные, не полярно противоположные тем, к которым все мы привыкли, – моря эти притягательны, и компасная стрелка записного романтизма так и показывает туда, в те края, где завиток волны созвучен завитку раковины, где зубчатые выступы ее подобны выступам скал и подводных камней, где неустанное пение воды пропитало ее оболочку, сделало ее мембраной, сделало инструментом для воспроизведения этого пения,
кораллами, соединенными в марсианские ветвистые конструкции, и топазами, дымчатыми сгустками предвечернего света, рубинами, кровавыми отметинами человеческих страстей, и алмазами, залегающими в недрах планеты, так, чтобы непросто было их там обнаружить, и, будучи найденными, вспыхивающими на солнце, как застывшая в незапамятные времена подземная чистая роса, изумрудами, глубокой зеленью своей посылающими привет и передающими эстафету вечнозеленой листве, и бирюзой, чья голубизна говорит нам о том, что цвет небес не выцветет ни за что, никогда,
изразцами, стоящими поэмы, – да, конечно же, ими, чье наивное обаяние столь велико, чье стремительное вторжение обернулось не игом, но благом, сберегаемым, почитаемым, утверждаемым на Руси,
яшмовыми ступенями, влажными от недавнего теплого дождя, нефритовыми чашами, наполненными сладкими напитками, от которых слипаются губы и розовеют щеки, статуями с полусонным выражением скуластых, напрочь отрешенных от раздражающей суеты бренного мира, неподвижных лиц, с потупленными, невидящими глазами и скользящей полуулыбкой на тонко вырезанных устах,
некогда цветущими, а ныне пустынными городами, выше полуразрушенных стен и остатков трехъярусных кровель заросшими грозными джунглями, заговоренными кладами, мрачными пещерами, цепкими лианами, – пусть это все и пришло к нам из послевоенных фильмов, десятки раз просмотренных в детстве, в заводских клубах, в набитых до отказа и выше нормы затаившими дыхание зрителями провинциальных кинотеатрах, из библиотечных книжек, на которые записывались в очередь, – все равно это наше, это с нами уже навсегда, и года наши прежние дороги нам и этим, – да, Тарзаном и Читой, Маугли с волчьей стаей,
мистической Индией, с ее симпатичными, разнаряженными слонами, на широченных спинах которых невозмутимо восседают чернявые раджи, и йогами, то стоящими долгими часами на голове, то неторопливо поднимающимися по затвердевшей и вставшей вертикально, как ствол бамбука, обычной веревке – прямо в небо, да так и остающимися, может быть, там, высоко наверху, покуда не надоест, чтобы, наконец возвратившись обратно, удивлять зевак другими чудесами,
Памиром с его ледниками, чье дыхание еще напомнит о себе,
Тибетом с Шамбалой и Агарти, духовными высотами и монашескими премудростями,
наркотическим привкусом в зельях и яствах, персидскими коврами, павлиньими арабесками – и прочей, милой нашему сердцу, —
в нашенской, со всех сторон огражденной железным, пуленепробиваемым, светонепроницаемым занавесом, кондовой, режимной и потому горестно привычной действительности, за семью замками, уж такими замками, что не сразу, не скоро откроешь, как ни старайся, как ни кумекай, будь ты хоть Левша, с приблизительными, слишком расплывчатыми, а сказать, что поверхностными – значит, иметь хоть какое-нибудь понятие, поконкретней, пусть это и по верхам, – представлениями о заграничной, с изрядным напряжением и с известным недоверием почерпнутыми из дублированных фильмов и профильтрованной переводной прозы, трудновообразимой, честно признаемся, жизни, хотя, судя по всему, она, противоположная нашей, родимой, – все-таки есть, ну конечно же, есть, – где-то там, за незыблемыми, охраняемыми неподкупными, бдительными стражами, справедливой и твердой десницей торжествующей власти проведенными рубежами, —
задевающей за живое, вызывающей мелодраматические слезы, притягивающей, как магнит, наши бесхитростные думы, давным-давно еще всколыхнувшей наши дремавшие дотоле чувства, разбередившей несмолкающим зовом своим наши, искони чуткие, испокон веков отзывчивые, доверчивые, простые души, охмеляющей, охмуряющей, созерцательной, проницательной, с ускользающей, непостижной, во всяком случае, не ухватить ее так вот сразу, а потом еще посмотрим, и все для нас постижимо, растительными завитками уводящей проникающие в блаженную пустоту мысли, зыбкие, однако снабженные и скрытыми жалами, от привычного для нас мыслительного стержня, как ветви и листья от древесного ствола, чужеродной и притягательной ментальностью,
такой отдаленной, но и на удивление близкой, фантомной, миражной, фата-морганной, околдовывающей, тихой, льющейся, вьющейся флейтой различаемой в топком сумраке всякого дня, магической, медиумической ориентальностью, —
о, наивность! – о, юность! – о, радость простая! – очарованность тайнами, верность мечтам! —
ну а запад? – восток есть восток, дело тонкое, как известно, как совершенно верно подмечено в знаменитом, чуть ли не целиком с годами вошедшем в поговорку, отечественном фильме, – но и запад ведь есть, где-то там, как посмотришь по карте, – налево, – как же с ним? – уж наверное, там не один Папа Хем с бородой имеется, пусть он и ловит тунца в океане, и на корриде в Испании любит бывать, и снега Килиманджаро успел повидать, и книги его переводят у нас, хорошо переводят, и любят наши сограждане читать их и перечитывать, потому что в жилу прошлось, и хемингуэевщину породило, с непременной выпивкой и любовью к риску, и портретами Папы все квартиры в стране увешаны, и, конечно, известен он, здесь, у нас, как, пожалуй, никто, но там, где живет он, или где жил, потому что хорошие книги живут всегда, он все равно не один, без сомнения, не один, есть еще и другие, только мы их пока что не знаем, и на гангстерах свет клином там наверняка не сошелся, не только из них состоит население стольких стран, и акулы капитализма, наверное, не такие уж плотоядные и хищные, как здесь их малюют, и, скорее всего, они сами живут хорошо и другим жить тоже дают, – и там есть Париж с Монмартром, с Елисейскими Полями, Париж, о котором в юности так мечтали мы все, о котором читали везде, где только возможно, – есть Лондон с Биг-Беном, давно уже не город Диккенса и Конан Дойля, но чей же? – откуда нам знать, – есть Венеция со львом, держащим раскрытую книгу, – и мы с замиранием сердца узнавали о том, что книга эта – Евангелие от Марка, – есть Мадрид, и в нем жили в двадцатые годы Федерико Гарсиа Лорка, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, – а теперь там живут и другие, но кто? – мы не знаем, – есть Нью-Йорк, наконец, – но довольно, довольно, с этим проще, об этом мы все-таки кое-что знали, благо слушали радио, литературу читали, – эта тема снимается, – вспомним-ка лучше о ней, той эпохе, где было так мало свободных отпущено дней, —
без таких своих, ну таких собственных, чуть ли не кровных, едва ли не зубами вырванных у понапрасну выброшенного на бессмысленную службу – прямую виновницу укоренившегося в мозгу, тяжкого ощущения непонятно за что, за какие грехи, за какие такие провинности, и, главное, зачем выпавшей на долю этой всеобщей трудовой повинности, так ее и разэтак, в хвост и в гриву, этой унылой, неплодотворной, абсолютно, хоть криком кричи, хоть вой, не творческой, пошлой, тупой принудиловки, почти рабства, – уходящего навсегда, безвозвратно, как вода в песок, отнюдь не бесконечного, а отпущенного каждому в меру, считай, с гулькин нос, огорчительно быстро иссякающего, золотого земного времени, —
без этих вот поистине драгоценных для рядового советского рабочего или служащего – выходных.
Без таких желанных в изматывающие, буквально изводящие своей механической монотонностью и блеклой однообразностью, выкроенные по общему для всех шаблону, все по одной мерке, а чуть присмотришься – все на одно лицо, не за что зацепиться, и отворотишь устало разочарованный взгляд, – полустертые с каждой исписанной когда-то страницы, был ли это брошенный в итоге дневник, или письмо, или телефонная книжка, – исчезающие из памяти, как пыль со стола: сдунь – и нет ее, – разбухшим несъедобным тестом заполнившие прошлое, слившиеся в одно бесформенное месиво, безголосые, безымянные, бесцветные – будни, —
с их опостылевшими поездками на работу и обратно домой – если, конечно, есть у тебя дом, твое собственное, пусть даже и не постоянное, а пока что временное, но конкретно твое пристанище в мире, – с тряской и толкотней в переполненном измочаленными пассажирами общественном транспорте,
будь это метро – с бросаемыми в щель пропускника пятаками, с ежедневными, словно кем-то тебе нарочно навязанными, пугающими, как страшный сон, регулярно и назойливо повторяющимися, почти апокалипсическими часами пик, со стоящими на ступеньках эскалатора, вплотную, один над другим, держащимися за поручни, спускающимися куда-то глубоко вниз, безропотно, как на заклание, сутулящимися, подавленными, придавленными тяжестью дней, неприветливыми, невеселыми, неразговорчивыми, будто пришибленными всеобщей обреченностью, но живыми, все-таки живыми, еще живыми, движущимися к некоей запрограммированной в мозгу цели, втянутыми в общий круговорот людьми, с подземными переходами со станции на станцию, где шагаешь вместе со всеми, как во сне или как под гипнозом, даже не глядя по сторонам, все равно тебя вынесет шаркающая башмаками толпа туда, куда надо, со срывающимися с места, оголтело кидающимися в черное жерло туннеля, словно торопящимися что-то наверстать, куда-то успеть, лихорадочно вздрагивающими, втянутыми в дикое скольжение по рельсам, в горизонтально вытянутой, длинной, извилистой, подсвеченной редкими огоньками темноте, туда, вперед, к новой станции, будто к новой жизни, но и там ее нет, значит – дальше и дальше, опять с нарастанием скорости, с лязгом, с механическим голосом в динамике, указывающим, поясняющим, куда прибыли и что будет чуть погодя, непрерывно сменяющимися поездами,
трамвай – тот самый, знаменитый, московский, для кого-то – еще «аннушка», для других – просто с определенным номером, тот, которого надо вместе со всеми довольно долго ждать и в который надо умудриться еще и влезть, с истерическими, скрежещущими, скребущими прямо по коже звонками, прямо-таки пронзающими барабанные перепонки в ушах, с изуверским, сотрясающим все нутро, торможением ни с того ни с сего, с поворотами, слишком резкими, непредвиденными, чтобы суметь удержаться на ногах, не упасть, не задеть кого-нибудь рядом, с непрестанным качанием кажущихся заложниками, хоть и едущих добровольно, изнуренных, измотанных граждан налево и направо, вперед и назад, сообразно движению, с нездоровой, сгущенной, кровавой какой-то краснотой в окраске шаткого, валкого корпуса вагона, с городскими пейзажами за непрочными стенками, за открытыми прямо в холодное утро дверьми,
автобус – вот он пришел, входите, не задерживайтесь в дверях, не стойте на подножке, не толпитесь на задней площадке, проходите вперед, – с полуоторванными, на честном слове держащимися поручнями, и за них как-то надо держаться и нам, нуждающийся в капитальном ремонте, недовольно фырчащий зверь на колесах, самодвижущийся реликт, с едкой бензиновой вонью в салоне, от которой тошнит, с перегретым, утробно урчащим мотором, чья сердитая дерготня, если уж он завелся и работает, вибрируя во всех наших клетках и вытягивая жилы, тянется здесь, где-то рядом, буквально под боком, продолжается и никак не заглохнет, нельзя, – расписание, график движения, аванс, получка, возможная премия, будущий отпуск, прописка, да мало ли что! – вот и тащит всех нас, и пыхтит, бедолага, и шофер впереди, за рулем, в огражденном отсеке своем даже шутит, бывало, – чувство юмора, видно, вывозит его, и автобус везет пассажиров, и, наверное, всем повезло, и маршрут – что маршрут? – назубок он затвержен давно,
или троллейбус – с его идиотской дугой, как нарочно, срывающейся с окислившихся, по причине катастрофического состояния городской экологии, проводов, как-то примелькавшихся, не привлекающих внимания, больше подразумеваемых там, наверху, как нечто само собой разумеемое, и по ним, этим тянущимся в пустоте проводам, идет электрический ток, идет, и мы едем, но слетает, совершенно некстати, дуга, разбрасывая по сторонам трещащие, синевато-белые искры и беспомощно раскачиваясь над крышей, и мы стоим, и водитель, матерясь, выходит наружу, надев рукавицы, хватается за какие-то болтающиеся между небом и землей веревки или тросы, с усилием направляет дугу к проводам, возвращается вовнутрь, и мы едем, но время-то, время уже безвозвратно упущено, опоздали, досадно, и троллейбус, возможно – «букашка», возможно – тот самый, когда-то действительно синий, о котором пел Окуджава, а потом и других расцветок, утвержденных какими-нибудь специальными службами, проезжает по залитой вешним дождем, отражающей все городские огни магистрали, и действительно, чуть настроишься на романтический лад, плывет, как по реке, но не до песен тебе, ты встаешь, остановка, сходить,
или даже пригородная электричка – с ее истошным криком, натужными рывками только вперед и никуда больше, вдоль платформы и дальше, может и в никуда, с то и дело хлопающими и долго не закрывающимися поплотнее створками дребезжащих дверей, с настороженным, всеобщим ожиданием очень даже возможного появления контролеров, с жесткими, неудобными сиденьями, немытыми стенами, всяческими сумками и мешками над головой и под ногами, с теснотой и подкатывающей тошнотой, с темнотой за пятнистым стеклом, с напоминающим переселение народов хождением из вагона в вагон и ритуальным курением в загаженном тамбуре, —
все равно, все едино – лишь бы ехать, лишь бы добраться до места, – колеса вертятся, ты уносишься куда-то, куда полагается, движение происходит, как ни крути, хотя сам ты стоишь, что бывает чаще, или даже сидишь, что, куда реже, но тоже бывает, – и, неподвижный или малоподвижный, ты, тем не менее, движешься, ты перемещаешься в смутно осознаваемом какою-то частью мозга, раздвинутом вширь и расплеснутом вдоль, под уклон, растекшемся, словно рехнувшемся, спятившем, точно, с задвигами, с явным приветом, дурдомовском, с глюками, странном, бредовом пространстве, находясь вместе с другими людьми в придуманной кем-то металлической капсуле, все – взаперти, все – заодно, заговорщики вроде, а может и жертвы, и единство такое, вынужденное, а подумать – насильственное, малоприятно, и не только малоприятно – просто кошмарно, и вибрирующий, вздрагивающий, дергающийся, крученый-верченый, меченный бредом, безумием, ложно-участливый, псевдо-стремительный, вязкий, спиралеобразный ритм всепроникающего, всеядного, всерастворяющего движения – затягивает тебя в общий поток, и ты не принадлежишь себе, временно не принадлежишь, вынужденно не принадлежишь, а может и вообще не принадлежишь себе и никогда не принадлежал, ты один из многих, всего лишь один из многих, и неважно, что там у тебя в голове, что там у тебя в руках – авоська с продуктами или раскрытая книга, – тебя везут по назначению, по конкретному маршруту, твой пятак опущен в щель пропускника, билет оплачен, талон вовремя пробит, наличие единого проездного продемонстрировано водителю и всем окружающим, твои мысли спутаны, волосы всклокочены, одежда измята, пуговица оторвана и потеряна, ноги отдавлены, ботинки исцарапаны подошвами таких же, как и ты, пришибленных пассажиров, ты отчаянно молод, или в зрелых годах, или стар, безразлично, ты как все, ты вклиниваешься между слишком уж плотно, без всяких зазоров и промежутков, монолитно, вплотную стоящими фигурами сограждан, почему-то стоячими, а не лежачими, ты лавируешь среди них, пробираешься к выходу, извиняешься, напрягаешься, изворачиваешься, наконец ты добрался до цели, впереди только двое, ты стоишь на ступеньке, победа над странной советской привычкой к уплотнению всех и всего, к бесконечной утряске, усушке, укомплектованности, утрамбованности, вроде бы, снова одержана, пусть это мелочь, пустяк, ты стоишь впереди, на ступеньке, и скоро тебе выходить, и ты не личность, ты частица включенного, заведенного хитроумными специалистами, некими знатоками своего черного дела, пресловутыми «спецами», что ли, всеобщего, единого, один – и сразу на всех, по-коммунистически, по-марксистски разумно и просто, без лишних забот и хлопот, из пятилетки в пятилетку все работающего, безотказно, потому что другого просто нет, все фурычащего, сверхабсурдного механизма, ты крохотный винтик в отлаженной, смазанной машинным идеологическим маслом, общей для всех системе, пусть ты по натуре своей и не физик вовсе, а самый типичный лирик из журнальной дискуссии, пусть ты умен, образован, талантлив, пусть ты даже и семи пядей во лбу, никто и не удивится, и не заметит, равнодушно пройдет мимо, и ты можешь закричать, но никто тебя не услышит, и вот ты осознаешь, что ты, дорогой мой, да, именно ты, бесправен и бессловесен, ты – так себе, житель, субъект с краснокожей паспортиной, и все, потому что живешь здесь, в этой стране, в своей, между прочим, стране, и ты ее любишь, с малых лет, с пионерского возраста, преданно любишь – ведь правда? – для выражения этого чувства и слов-то не требуется никаких, особенно громких, – на то она и любовь, чтобы не слишком о ней распространяться, – не орать же об этом на каждом углу, – ну, любишь – и все тут, хоть тресни, а она тебя – не очень-то жалует, нет, братец, не так, – она тебя поедает, пьет из тебя кровь, а ты смиряешься, терпишь, молчишь, ну еще бы, чего только в жизни не вытерпишь, чего не проглотишь во имя вот этой великой твоей любви – настоящей, без всякой иронии, безраздельной, безответной любви, и этой любви ты верен, и в этой любви ты несчастен, тебя давно уже, слишком давно, можно сказать – от рожденья, подхватила и понесла, повлекла за собою, потащила сквозь годы инерция, страшная это штука, прислужница темной силы, приспешница тех, кто ее породил, демонов, бесов и монстров, псевдостихия, трясина, имитация движения, вывернутая наизнанку надежда на лучшее, стерпится – слюбится, гибельная идея о возможном и скором переустройстве мира, лживая, гиблая мгла, и никак из нее не вырвешься, и ничего не попишешь, планида такая, и остается только прислониться разгоряченным лбом к холодному вагонному стеклу, посмотреть сквозь него на индустриальный пейзаж, подышать на это стекло, потрогать негнущимся пальцем, вздохнуть и нарисовать на его скользкой, запотевшей от людского, прерывистого, все еще теплого дыхания, вертикальной, позволяющей разглядеть что-нибудь там, извне, за непрочной, легко, при желании, разбивающейся перепонкой, и устало, привычно, с нескрываемым безразличием к массе, без малейшего пристрастия, без невольного даже интереса ну хоть к кому-нибудь, отражающей все, что происходит внутри вагона, дребезжащей, неплотно подогнанной, мелкой дрожью охваченной плоскости – чей-нибудь угловатый, изломанный профиль или грустный, совсем одинокий цветок, —
с их зябкими осенними дождями, когда вокруг сырь и хворь, сырь и хмарь, когда над головами поеживающихся, ускоряющих шаг, сутулящихся, словно наглухо уходящих в себя, прохожих раскрываются сразу тысячи таскаемых с собой на всякий случай в портфелях и в сумках, похожих один на другой, как близнецы, черных зонтов, и только изредка мелькнет среди них какой-нибудь задорный, празднично яркий зонтик, и это кажется почему-то вызовом неизвестно кому, наверное – однообразию, и даже чья-нибудь вполне естественная улыбка на фоне множества раздраженно-неподвижных лиц в толпе выглядит фрондой, и припоминаешь ее, сам невольно улыбаясь, но тут же спохватываешься, прибавляешь шагу и сливаешься с массами, и вот идешь вместе с ними, заодно с ними, чуть ли не в ногу, во всяком случае, не выбиваясь из общего ритма, и неужели это, именно это, не какое-нибудь там особенное, а вот это, стадное чувство, животное, а не человеческое, и объединяет тебя хоть с кем-нибудь из этих людей, и называется все это – быть со своим народом? – нет, чушь какая-то, быть такого не может, и ты сам по себе, да и каждый из них, наверное, сам по себе, – так почему же все вы сейчас в толпе, и кто вообще вы такие, кто такие – они, и кто – ты? – бестолковые мысли, бесполезные дни, безнадежные годы, – а идти-то по-прежнему надо, вот уж чисто советское слово, – надо, и потому, что надо, не тебе, а кому-то надо, ты идешь, как и все, бесконечно куда-то идешь, и приходишь – ты помнишь, зачем и куда? – все равно, и зачем вспоминать, не один ты такой, ты как все, успокойся, никто тебя, братец, не спросит, что с тобой, никому ты не скажешь о том, что в душе накипело, потому что ты должен, обязан куда-то идти, если шел ты с толпою, как будто во сне, вместе с ней ты куда-нибудь, это уж точно, приходишь, открываешь стеклянную дверь, проникаешь вовнутрь – но чего? – и находишься там, где на вешалках слишком уж много мокрых, отяжелевших плащей, где сидят за столами какие-то люди, совершенно чужие тебе, где хорошее слово «работа» подменили другим, канцелярским, противным – «служба», но в поганом присутственном месте хрен редьки не слаще, это уж точно, и приходится снова терпеть, отбывая, как наказание, трудовые, так называемые, часы – без труда, твоего труда, которым ты жив и к которому призван, а не этого псевдотруда, с имитацией трудолюбия и усердия, отвратительного даже потому, что за это украденное у тебя время государство хоть мало, но платит, а за твой настоящий труд никогда не заплатит тебе ни гроша, да и наплевать, подумаешь, выдюжим, и сидишь ты здесь со своим распрекрасным внутренним миром, никому из окружающих не нужным и не интересным, и чувствуешь, холодея, как время твое уходит, а в окне, да и в душе, ни просвета, ни намека на что-то хорошее, и просто не знаешь, куда деваться, – но вот уже отбыл ты здесь ровно столько ненастных часов, сколько положено, – и пора, всем пора по домам, – и встаешь механически, что-то бормочешь, надеваешь свой плащ, пожимаешь брезгливо какие-то липкие руки, продвигаешься к выходу, – вот она, дверь, – и уходишь, вышел – значит, идешь, почему-то идешь, ноги сами тебя несут, и тебе вроде стало немного полегче, потому что ушел из абсурда, пускай ненадолго, пускай до утра, потому что стараешься сразу забыть обо всем, что тебя раздражало, потому что ты весь состоишь из протеста, хотя весь ты слеплен из противоречий, и поди разберись, кто ты есть, кто таков, если терпишь неведомо что, понимая меж тем, что, конечно же, вырваться надо из утробы, в которую ты угодил, – как Иона из чрева кита, ты надеешься выбраться к свету, все надеешься, – осень идет, и пройдет, – а надежда твоя? – ты идешь вместе с ними, с надеждой и с осенью, сам по себе, но незримые спутницы все-таки рядом с тобою, и холодные струи хлещущего по столичным стогнам дождя тычутся с лету в серый, ноздреватый асфальт, бьют наотмашь по рекламным щитам, по витринам, стекают по вертикалям стен и оград, сливаются в мутные, что-то глухо лопочущие ручьи, потом в целые реки, рокочут, бурлят, образуют пруды и озера, и в любой мало-мальски приличной луже отражается то вывеска переполненного промокшими покупателями, терпеливо стоящими в очередях, залитого неестественным, взвинченным светом люминесцентных ламп, углового гастронома, то название какого-то приткнувшегося рядом предприятия, которое по-русски и выговорить-то невозможно, то румяная, сытая и почему-то очень уж мерзкая ментовская физиономия, а ты идешь через проезжую часть улицы по переходу типа «зебра», на зеленый свет, как и полагается, чутко улавливая дисциплинарные импульсы светофора, но какая-нибудь лихая, отчаянная машина таки нарушит правила, промчится на вершок от тебя и, конечно, обдаст тебя с ног до головы хлестким фонтаном грязных брызг, и вот настроение уже испорчено, посмотришь ей вслед, плюнешь да и пойдешь восвояси, отойдешь, слегка успокоишься, начнешь ровнее дышать, боковым зрением ненароком заметишь, сколько же ржавых, багровеющих, желтых листьев упало вниз, на мостовую и на тротуар, обостренно, болезненно вдруг ощутишь, как обреченно теперь оголены и безнадежно-черны стволы и кроны деревьев, расслышишь обрывки знакомой музыки – из напоминающей горизонтально прорытый, в толще старого дома, ствол колодца, соседней подворотни, потом, оттуда же, вслед за музыкой, – последние новости, вслед за ними – сводку погоды, словом, услышишь сразу все, что нужно сейчас человеку, – ведь нужно-то, в общем, так мало, – поднимешь голову – а там, так близко, так низко над тобой, все та же серая, сизая, сирая, хлюпающая постной водой, клочковатая, скучная, пустоглазая бездна, —
с их долгим, то сырым, то колючим, то редким, то густо валящим снегом, когда не понимаешь уже, какое на дворе время года, если зима растянулась месяцев на семь, когда разом у всех прохожих поднимаются воротники пальто и покрепче натягиваются шапки, а ветер сбивает с ног, а тут еще и гололед, идти скользко, смотри в оба, чтобы не грохнуться навзничь, а потом и откуда-то взявшаяся – здрасьте, а вот и я! – оттепель, и вслед за нею, тут же, мороз, да какой, а за ним, завихряясь, поземка, за поземкой – метель, натуральная вьюга, снегопад-скоропад, ветрюган-дедуган, небоскребы-сугробы, а потом раз – и нету всего, что привыкли считать мы зимой, только сырость вокруг, только слякоть да хворость повсюду, только гнилость везде соляная, да раскисшая каша дорог, да опять эпидемия гриппа, год за годом, все хлеще, все круче, вот и борешься с ней, как умеешь, и выходит, что зимы у нас – так, одно лишь название, а на деле ни то ни се, – и в этой путанице начинаешь терять ориентиры, паниковать, ощущать себя чем-то обделенным, кем-то обойденным, неизвестно зачем обиженным, и состояние духа, прямо скажем, паршивое, и все не так, ребята, и вообще тошно, и даже фонари на перекрестках не горят, нет, не качаются фонарики ночные, всюду вроде бы и людно, а как-то пусто, темно, и у двери винного отдела ближайшего продовольственного магазина изрядная очередь собралась, это уж как всегда, так принято, так заведено, и никто никогда этого не изменит и не отменит, скоро закрывают, рано теперь закрывают, а купить то, что полагается, что душа просит, – надо, очень даже надо, грех не купить, вот все и нервничают, ропщут, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу на хрустящем снежном покрове, и некоторые отпетые фантазеры наивно воображают, что стоят они на белой ковровой дорожке, и это их так здесь встречают, как почетных гостей, а может, и ничего не воображают, а просто прикидывают, хватит ли денег, потому что вопрос это важный и сложный, не пролететь бы с нынешними ценами, маху бы сдуру не дать, а обойтись малой кровью, и на сей раз выкрутиться, а там посмотрим, худо-бедно, а движутся, приближаются к цели, втягиваются вовнутрь, как в воронку, небольшими партиями, дверь – хлоп да хлоп, и в промежутках между хлопками дверными некоторые сорвиголовы, у кого еще кураж есть, умудряются, глазом не моргнешь, проникнуть туда же, вовнутрь, но без очереди, да это уж ладно, всегда так бывает, простим, им не терпится, видно, чего там, и вот уже отоварившиеся счастливцы выходят наружу, в снег, в морок, засовывая в карманы заветные бутылки, и некоторые, более выдержанные, отправляются по домам сутулящимися, предвкушающими цивилизованный сугрев, быстрыми, невыразительными тенями, а наиболее нетерпеливые тут же соображают на троих, и за углом, во дворе, между детским садом и катком, льется в луженые глотки родимая водка, спасительное пойло народное, живая вода навыворот, и на короткое время, наверное, станет на душе веселее, но это ведь только на время, да еще и на короткое, а впереди – вот он, вечер, долгий, зимний, холодный, и вот она, зимняя ночь, еще более долгая, леденящая, страшная, а за ней и утро, действительно хмурое, неприветливое, с ознобом, с колотуном, несуразное зимнее утро с тяжелым похмельем, а за утром и день, и что тут скажешь про день, если все в нем еще впереди, и загадывать нечего, знаем, будет день – будет и пища, а может быть, что-нибудь и покрепче, и хоть кроха завалящая, какая-никакая, а настоящая, радости бы, для души бы чего-нибудь нам, наша жизня и так поломатая, как ни шути, так и есть, ну и день предстоит, – как его пережить? – как и тот, предыдущий, и все начинай сначала, и опять выходи из подъезда, из бреда ночного, прямо в зиму, в мороз, в белизну с серебром, в неизвестность, которую нечем, увы, заменить, иди, пришибленный долей своей, иди как потерянный, иди отрабатывай, потому что пора, часы на остановке не медлят, идут себе да идут, и ты, сокол, и ты, парень, и ты, мужик, и ты, дед, идешь, и годы твои, брат, годы, идут один за другим, и все меньше и меньше остается их у тебя, и нельзя их держать в запасе, а снегу так много вокруг, и зима до того велика, что ее не окинешь взглядом, —
с их незаметной, слишком уж быстро, как-то бесшумно, сказочно-легко, уж не по воздуху ли, проходящей осторонь, не привлекающей к себе лишнего внимания, чурающейся суеты, скромницей-весной, неброской и занятой своими заботами по восстановлению окружающего нас мира, той самой природы, среди которой мы живем и с которой вроде бы дружим, – и вот она явилась, весна, явилась и прошла, не успел и глаз на нее поднять, а жаль, действительно жаль, и так странно, что не увиделись, толком не поговорили, да хотя бы словечком не перемолвились, – и только зеленый, широко разросшийся шлейф ее шелестит на ветру по утрам, струится с плеском поодаль на сквозняке бестолкового дня, еле слышно шуршит в темноте по ночам, и только след ее, узкий, легкий девичий след, где-нибудь да обнаружишь – на окраине ли, где сохранились еще прокопченные временем деревянные дома, с их обломанными по краям наличниками и кривоватыми печными трубами, с линялыми занавесками и больными геранями из городских, мещанских романсов или даже из Блока, где среди иссиня-стальным цветом поблескивающих на припеке рельсов и среди пропитавших железнодорожную насыпь жирных мазутных пятен прижились одуванчики, и тяжеленный товарный состав, грохоча, проходит над ними, не задевая мягкие, теплые, желтые их головки тупо вращающимися стальными колесами, – в соседнем дворе ли, где играет одетая уже по-весеннему детвора, и песочницу, в которой она возится, обступили старые, седые, жилистые тополя, и в воздухе остро пахнет разбухшими, клейкими тополиными почками, а в руке у кого-нибудь из взрослых только что срезанная тополиная ветка, и ее поставят, непременно поставят на подоконнике, в банку с водой, и на ней распустятся удивительно свежие листочки, привнеся в оклеенное дешевыми обоями человеческое жилье особый смысл и приподнятый тон, – или же прямо у себя в комнате, когда отдергиваешь шторы и видишь, что небо точно выкрашено синькой, и облака словно накрахмалены, и свет стал не металлически-тусклым, а струящимся, золотистым, – но все равно весны ты вовремя не увидел, не восхитился связанными с нею переменами, опоздал ты к раздаче радостей, не получил полагающейся тебе малой толики счастья, —
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































