Текст книги "Тадзимас"
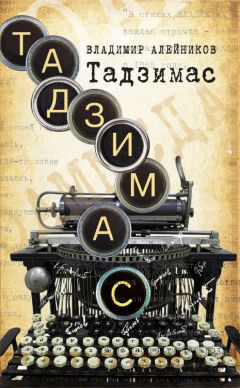
Автор книги: Владимир Алейников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Вознесенский:
– Да-да, конечно! Я, конечно, помню, Володя, вас! Ну как же мне вас не помнить? С той поры, когда вы ко мне вдруг пришли, вдохновенный, юный. С осени шестьдесят третьего. Я тогда еще говорил вам: приходите ко мне всегда, в дни любые, в любое время, буду рад я вам, потому что вы очень, очень талантливы!..
Говорим. О том да о сем. Совершенно разные люди.
Он меня все время нахваливает, и в особенности за то, что я очень много работаю.
Был в годах он. И вдруг – изменился. С виду стал такой молодой, знаменитый, тридцатилетний, впрямь как осенью, той, давнишней, тридцать шесть годочков назад.
Вот он, скинув белый пиджак, засучив рукава рубашки, разрешенья спросив у меня, за гончарный садится круг, увлеченно делает что-то, вроде смеси миски с кувшином.
Обещает что-то. Помочь?
Я рассказывал вкратце ему – о себе, о своей судьбе. Он сидел за гончарным кругом – и рассеянно слушал меня.
А потом – раз! – и нет его!
Исчезает мгновенно! Куда?
Я ищу его – нет нигде. И в саду его нет. И на улицах.
Испарился. Растаял. Пропал.
Вроде был он вот здесь – и все-таки вроде не было вовсе его. Странно? Странно. И – показательно. Был – и нет его. Как всегда.
И остался я здесь, в саду, – криворожском ли, коктебельском ли, – вам не все ли равно? – в своем, а не чьем-нибудь там саду, – как привык я, наедине со своими трудами вечными, с одиночеством давним своим.
…Но тут сон во сне закончился, и сад сменился облаком.
И на этом облаке – мы с Ишкой приближались к Коктебелю.
Вот широкий залив. Горы. Холмы. Дома.
И уже мы снижаемся. Уже виден наш дом.
Но за мысом успел я увидеть Лягушачью бухту, и в ней – Аксенова, читающего мою «Звезду островитян», лежащего на гальке, у самой воды, уже загорелого, и Женю Попова, еще только слегка покрасневшего на солнце, сидящего поодаль, на горячем, большом камне, на большущем куске золотистой парчовой яшмы, с полынным венком на голове, наигрывающего на вырезанной им самим дудочке незатейливую, но трогательную мелодию, – и четырех зеленых ящериц, сидящих на соседнем камне и слушающих эту мелодию.
А потом наше облако, словно в сказке – ковер-самолет, приземлилось у нас во дворе, и мы с Ишкой на землю сошли. А потом поднялись на крыльцо – и в раскрытую настежь дверь, вдвоем, не спеша, вошли. Вот он, дом! Хорошо в нем, прохладно в жару. Как просторно здесь, тихо, спокойно! Благодать! – А потом я проснулся…
Вот какие бывают сны. Сны – в ночи, посреди тишины. Только мне они стали ясны. И невольно я им улыбнулся…
– Вот осень, а может быть, и зима, но зимою – опять-таки осень, и весною осень, и летом, и осенью – это уж ясно, потому что с осенью – проще, потому что с осенью – легче, да еще и куда привычнее вспоминать о былых временах, – времена ли это любви, времена ли года, а то и времена скитаний давнишних, времена бессонниц моих, – сквозь бездомицы, через ночи, в те глубины, где путь короче, где слова до щедрот охочи, потому что – куда без них? – вот зима, ну а может быть, осень, да, пожалуй, конечно же, осень, – одиночество, тусклая лампа над столом, а то и свеча, – листья в окна глядят и звезды, ветви мокрые тяжелеют, голова тяжелеет, плечи устают, но все же не сплю, – ну а может быть, сплю? – да вряд ли! – занавески дрожат, и форточка приоткрыта, и ветер входит гостем поздним в бессонный дом, – ночь осенняя, затяжная, – и еще ничего не знаю – что за нею? – тропа земная, как всегда? – ах, потом, потом! – ну а что же сейчас? – да мысли, что, как листья в окне, нависли над седой моей головою, над столом, над этим листом, на котором пишу я прозу, над которой глотают слезы все метели мои и грозы в мире, вроде бы обжитом, – но куда там! – совсем пустынном, том, в котором речам старинным и ночам предыдущим длинным оживать суждено теперь, оживать и вставать за мною то ли стаей, то ли стеною, то ли звучною тишиною, – и ненастье скребется в дверь. Странное дело! Занавесь опускается, поднимается. Над чем? Над прошлым? Над будущим? Да поди разберись. Попробуй. Кто-то вроде бы смотрит в окно мое. Или сам я смотрю в окно? Позабытое – вспоминается. Небывалое – тут как тут. У него настроение – будничное. Труд извечный. Работа привычная. Что-то все же есть в этом праздничное. Так ли? Так. Действительно, так. И часы: тик-так да тик-так. Мой будильник. Совсем старик. Стук неспешный да нервный тик. Так бывает. Но вне времен – ходу времени верен он. Ходу памяти. Можно – так. Ток подспудный. Уж он мастак вызывать не образ, так звук. Отсвет прошлого. Тук да тук. Отзвук радости. Дней исток. Запад, север, юг и восток – четырьмя лучами креста. Видно, все-таки неспроста. Да, конечно, не просто так. Имя времени. Вещий знак. Ночь. Звезда. Под звездою – дом. В доме – я, со своим трудом. То есть, с книгою этой. В ней – все сильнее и все полней разгорается вешний свет лет, которых со мною нет, как считает разлад чумной, но которые – здесь, со мной. Всем им сердце мое сродни. Сердцу дороги – все они. Снова ночь – и осенний лад слов моих в тишине. Я рад. Снова осень – и взлет ночной мыслей всех, что дружны со мной.
– Я – это кто-то другой… – различаю я голос Артюра Рембо. – Если медь пробуждается горном однажды, не она виновна в свершившемся. Для меня абсолютно ясно – вижу мысли своей проклевывание, всматриваюсь в нее, вслушиваюсь, касаюсь ее смычком, и симфония, вздрогнув, трепещет или же махом одним вдруг на подмостки взлетает…
С тобою цветы, моя осень, цветы, над которыми – листья, и листья, выше которых – звезды, а там, за звездами – созвездия и галактики, мерцанье, сиянье, свеченье, струенье, самосожженье и сызнова, неизменно, счастливое воскрешенье, – кругами, волнами, спиралями – рождающиеся миры, сближающиеся дары. С тобою мосты, моя осень, мосты, по которым в прошлое и в будущее иду я над плещущейся водой, над мертвою и живою, над тихою и сквозною, над дикою и ручною, озерною и речной, над прорвой иду морскою, над бездною океанской, по всем десяти, знакомым с детства, мостам, по всем, с которыми связан чем-то доселе невыразимым, которым обязан чем-то таким, чему имя – речь. С тобою мечты, моя осень, мечты, у которых – ночи, с тобою ночи, с которыми – шаги мои в доме пустом, с тобою дом, за которым – холмы, а там, за холмами – горы, а над горами – небо, и море под ним, а там, за морем – пространство со временем, темень, рань, звезды моей постоянство над именем, снова – грань.
Может быть, тоже – сон? Вроде бы – обо мне. Голос я слышу знакомый.
Саша Соколов говорит:
– И только тогда начинается: все остальное. Тогда. И только. И пусть – в силу чего бы то ни было – лишь бы – пусть явится эта притча разуму нашему в снах его, да скажется в судьбах круга, числа, да отразится в зерцалах наших Психей. Да, да, разумеется, о чем разговор, неужели же где-нибудь там, где положено, где надлежит, не сказано: отразится. Ответ однозначен: сказано. Оттого-то и отражается – отразилось, сим: в силу слова. Вот. Правда, несколько незнакомо, ломано, ровно в рябом канале – каналья, зачем ты улыбки нам столь исковеркал, ведь счастье было так коверкотово. Тем не менее видно, как кто-то из этого круга, числа, кто-то в чем-то дорожном, неброском, как бы навыворот, – торопится на трамвай. Лелея келейность. Алеющей ранью. Лепечущей рощи аллеей. Все лель есть, влекущийся к великолепью, простого Олейника отпрыск. Воистину. Впрочем, неправда: торопится, но не аллеей, не рощей: торопится пустырями окраин, тропою в разрыв-траве. Ничего не сея, не взращивая, рвет походя блеклые лютики, ноготки. Рвет когти из ненаглядного Криворожья, цитатой из почты окрестных ведьм говоря. Гражданин почтмейстер, вместо того чтобы попусту рифмоваться с клейстером, заклеймили бы лучше те непотребные речи крутым сургучом. Не смейтесь, папаша, он мертвецов оставляет теперь не напрасно, верней, не из прихоти, не потехи для. В данной юности с ним творится особенное. Так, в день осознания лжи у него создалось отчетливое впечатление, будто бульвар спотыкался, дождь шел на изящных пружинах, а фонари по углам разложили фанерные тени. И Дантова тень, в зеркалах отразясь – как эхо – давно многократна. Шутка ли. Да и вообще, человек сей – художник, в значеньи – поэт, а поэтому – почему бы ему не отправиться в путь, в другие места, и там не открыться во всех своих впечатлениях, не объясниться в пристрастиях. Странствовать – в частности на трамваях – тем паче на ранних – это же столь пристало таким вот на вид неброским, небритым, но, в сущности, страшно неистовым, прямо взрывчатым существам. Между прочим, неважно ведь, что такие взрываются сдержанно, методом дальних солнц, как ни в чем не бывало. Так в рассуждении пороха даже лучше, ибо хватает надолго. Сравнительно навсегда. Да, кстати, смотрите: деревья ладонями машут: прощание, исчезновенье за. Но что характерно; что из игры – здесь игры Парменидова воображения, расстроенного как бабушкин клавесин, – им не выйти. Ни им, ни минувшим срокам. Ни им, ни – по буквам: Тифонос – Елена – Лена – Елена же – Гея – Рея – Афина – Федра – понятно вопрос – ни телеграфным проволокам плачущим. Ни им, ни дому, который поэт построил двумя штрихами. Где свет погас. Где форточку открыли. Построил и вскоре оставил: быть. И на лбу возникающего экипажа чтит долгочаянное число.
(С песьей мордой один, а другой – с узкой мордой овечьей, корень речи – в земле дорогой и в крови человечьей, – что за молодость в бездну вела! – гонорком карнавала вместе с россыпью капель с весла что-то вдруг обдавало, – растворилось ли все, что ушло, в хищной гуще житейской? – заструилось за словом число, словно холод летейский, – отдалилось лицо за стеклом, невозможным, астральным, – да пичуга всплеснула крылом на кордоне опальном.
С головою собачьей один, а другой – с головою овечьей, – двое ряженых, нищих, гонимых пургой – что на вещих навлечь ей? – нет, не станет! – разбить не сумеет окно в мир, где встретимся все мы, – словно маски, в угаре когда-то давно разобрали тотемы, – потому-то и выпало выжить поврозь для Собаки с Овцою – у телеги пространства не смазана ось, чтобы ехали двое, – потому и живет искони меж людьми разобщенья загадка – не срастется с алеющей веткой, пойми, соколиная хватка.
С головою собачьей один, а другой – с головою овечьей, каждый – воли своей паладин, по-бирючьи не противоречь ей, – каждый доли достоен своей – что за прок, согласись, от известий, если время по-прежнему с ней, да и млечная тяжесть созвездий? – об утраченном, друг, не жалей – что за свет низойдет с небосклона? – и успеет еще Водолей повидать и обнять Скорпиона – как-нибудь – ну конечно – потом – там, где боли бывало так много, что она, обвивая жгутом, продлевала присутствие Бога.)
И тогда говорит Артюр Рембо:
– …так уж складывалось – человек над собой совсем не работал, не успел пробудиться или погрузиться во всю необъятность великого сновиденья. Писатели были просто чинушами в литературе: автор, творец, поэт – подобного человека сроду и не бывало!
Попросту – сон. И не просто – сон. Сновиденье. Великое. Может быть, и наивное. Да вам-то – какое дело? Для вас ли пришло оно? Совсем не для вас. И баста. Пора бы понять. Смириться. Исчезнуть. И не мешать. Сон – для того, кто спит. Сон – для того, кто грезит. Сон – для того, кто бодрствует. И даже во сне. Всегда. Сон – для давно не спящего. Для никогда не спящего. Сон – пробужденье. Вхожденье в сонмы снов. На века. Сон: попадание в тон. Там: выпадание в сон. Происхождение тем. Скажет ли кто: не вем? Вам ли – начальный звук? Знак. Магический круг. Дом ли тебе – для снов? Сам ли ты в нем – для слов? Сон. Сновиденье. Сень. Сфера. Фонарь – сквозь день. Мера. Свеча – сквозь ночь. Эра. Пора. Точь-в-точь как и вне сна. Во сне – тоже ясна вполне. Чары. Пиры. Дары. Горы. Дворы. Миры. Море: восторг и стон. Что? – до-ре-ми – сквозь сон? Медлить нельзя, пойми. Тянется – так возьми. Фа-соль-ля-си – сквозь мрак. Ластится. Только так. Значит, бери. Пришло. До – и за ним светло. Гаммы. Звучанье сна. Там, где всегда – весна. В детстве. А может – здесь. Высь. Встрепенешься весь. Рвешься туда. Лети! Сон. В унисон почти – до. И чуть позже – ля. Доля. Твоя земля. Воля. Планида. Путь. Вера. Химера. Суть. В сердце горенья. Сеть. Жуть. Наважденье. Плеть. Плоть. Побужденья. Слух. Плыть. Пробужденье. Дух. Петь. Восставать. Не спать. Музыке – быть. Звучать. Слово, и в нем – число. Зеркало – и крыло.
Путь ли к сути иль песнь в юдоли – на века. Говорит Рембо:
– Первое, что обязан постичь жаждущий стать поэтом – это наиполнейшее познанье себя самого; он душу находит свою, изучает ее, искушает ее, постигает ее. А когда он постиг ее, он обязан над ней потрудиться! Задача вроде бы простенькая… Нет, следует изуродовать душу свою. Действовать, словно компрачикосы. Вообразите чокнутого, на собственной физиономии высевающего и старательно выращивающего бородавки. Я говорю, следует стать ясновидцем, сделаться ясновидцем. Поэт превращается в ясновидца долговременным, беспредельным и продуманным приведением в разлад всех чувств. Он сознательно идет на всякие формы любви, мучений, безумства. Он сам себя ищет. Он травит себя всевозможными ядами, но и вбирает самую суть их. Невыразимая мука, при коей так нужна ему вся его вера, вся его сверхчеловеческая сила; становится он больнее любых больных, преступнее всех преступных, наиболее проклятым – но и мудрейшим из мудрецов! Ибо сумел он достичь неведомого. Потому что взрастил он больше, чем всякие прочие, душу свою, и без того богатую! Он достигает неведомого, и пусть, безумный, утратит он пониманье видений своих, – все равно он их видел! И пусть во взлете своем подохнет он от вещей неслыханных и несказанных. Придут уже новые труженики чудовищные; они начнут с тех далей, где предыдущий рухнул в изнеможении…
Как быть с тобою, щедрая душа? Да так и быть! – Видений в мире много. Возможно, сам он – дивное виденье. А может, сновиденье. Кто уверен, что это – явь? И все же это – явь. Такая вот. Где вдосталь измерений. Где столько состояний и событий, что все они – спиралями, кругами, пунктирами и дугами сквозь время – встают и ждут ночами за окном. Вниманья ждут. А может, пониманья? Конечно же! Придет ли пониманье? И что же там – за кромкою, за гранью? Какие откровенья и желанья? Какая глубь – за влажной тишиной? Какие тайны там, какие тропы? Какие встречи там и расставанья? Какие там, в тумане, обретенья? Какие там ключи – и что сумею открыть я ими? Двери иль врата? Кристалл магический и зеркало ночное. Свеча, горящая на краешке столетья. Клич. Или плач? Начертанное слово. Но что – за словом? Ночь. А что за ночью? Речь. Имя времени. Оно всегда – со мной.
– …Итак, поэт – прирожденный похититель живого огня, – говорит сквозь время Рембо. – Он в ответе за человечество, да вдобавок еще за животных. Свои вымыслы сделать обязан он ощутимыми во плоти, осязанью и слуху открытыми. Если то, что принес он оттуда, обладает какой-нибудь формой, он дает его воплощенным в эту форму, а если оно изначально бесформенно, он оставляет его бесформенным. Отыскать сообразный язык, – да к тому же еще, благо слово любое – идея, – настанет, верю я, время всеобщего языка! Надо быть академиком, видно, помертвее иных ископаемых, чтоб словарь без конца улучшать… Этот новый язык неизбежно станет речью души, обращенной к неизменно чуткой душе, все на свете в себя он впитает – сонмы запахов, звуков, цветов, мысль он с мыслью накрепко свяжет и сумеет ей дать движенье. Поэту тогда придется неустанно определять, сколько там в его время неведомого во всеобщей душе возникает; будет сделать обязан он больше, чем уметь излагать свои мысли, больше, нежели просто оставить подоступней для всех описание пути своего к Прогрессу. Поскольку необычайное обернется нормой, осваиваемой всеми разом, поэту должно быть множителем прогресса. Грядущее это будет материалистическим, как видите сами вы. Наполненные всегда Числами и Гармонией, поэмы такие будут созданы на столетья. В сущности, это была бы в определенной мере греческая Поэзия. У искусства такого вечного будут собственные задачи, потому что поэты – граждане. Поэзия перестанет действие выражать в ритмах; она окажется уже далеко впереди. Грядут такие поэты!.. В ожидании мы потребуем от поэта нового – в сфере идей и форм. Все умельцы решили бы, что они-то способны справиться с требованием таким: нет, это не то!
Нет, не стану я растолковывать – что, да как, да где, да, тем более, почему. Зачем объяснять? Ночь как ночь. И речь моя – с нею. Клич ли в ней, а может, и ключ, плач ли в ней – да не все равно ли? Вам-то что? Пусть встало из боли все, чем жив я. Дыханьем лет, с кровью давшихся мне когда-то, переполнена эта книга. Ими, славными, я поддержан – в одиночестве, в тишине. Здесь, в глуши моей, – осень. Странно, что, как прежде, я сросся с нею. И не странно вовсе. Привычно. И в диковину все же. С ней – связи тайные. Нити. Ноты, по которым сыграют что-то небывалое – там, в грядущем. Но когда? В свой час. Поздний час. Осень с памятью чай привыкли пить со мною. Сидим в затворе – и чаевничаем. Земное дружит издавна и с небесным. Запредельное – тут как тут. Зазеркальное – тоже рядом. Что – за словом? И что – за взглядом? Что за свет – за осенним ладом? Где-то верят – и, может, ждут. У тебя что ни сон – то с явью. У тебя что ни шаг – то с правью. Век – в сраженьях бессчетных с навью. Внук Стрибожий глядит в окно. Ты Сварожич – и, солнце славя, говорить ты сегодня вправе о таком, что в крови и нраве – и с душой твоей заодно.
Потому-то Рембо говорит:
– Открытия неведомого требуют новых форм.
Сентябрь девяносто девятого.
Коктебельская мистика.
Встретил я под Киловой горкой давнего своего знакомого. Мы купались с Ишкой. Знакомый окликнул меня. Подошел я к нему. Рассказал мне он следующее.
Недавно, буквально на днях, старые коктебельцы ему говорили, что были они в Тихой бухте. И видели: гуляет по берегу Волошин, ходит вдоль прибоя в белой своей одежде. Сосредоточен, задумчив, светел. Потом к могиле своей, вверх по горе, пошел. Видели его уже несколько человек.
Я нисколько не удивился, выслушав это. Волошина часто видят в Коктебеле. Видят – во дворе его дома, в самом доме. Об этом не раз мне рассказывали.
Да и сам я постоянно ощущаю его присутствие здесь.
Я писал в этой книге, что Волошин – жив.
Да, он – жив. Жив и дух Коктебеля.
Когда-то, еще в пору перестройки, в восемьдесят седьмом году, работая редактором в издательстве, я готовил большую книгу Волошина. Как мечтал я, чтобы она, очень вовремя, как я чувствовал, кстати, в нужный момент, со своей духовностью, благородством и светом, вышла!.. Мне уже приходилось рассказывать об этом.
Сам собой отыскался в бумажных моих завалах журнал «В мире книг». В нем моя публикация стихов Волошина и репродукции его акварелей, предваряемые небольшой моей статьей. Напечатано все это под рубрикой «Анонс». Я был хорошим редактором и стремился к тому, чтобы заинтересовать читателей готовящейся к изданию книгой. Вспоминаю, что подобную публикацию волошинских стихов, со вступительной статьей, сделал я в тот же отрезок перестроечного времени, в газете «Книжное обозрение». Но ее нет под рукой у меня. А журнал – есть. Моя статья была больше по объему, но ее редакция сократила. И назвали ее в журнале – «Возвращение „коктебельского отшельника“».
Прочитал я статью. Разумеется, никакое это не исследование, и не эссе, а просто – некий текст, предваряющий волошинскую публикацию, настраивающий читателей на восприятие стихов Волошина, текст, можно сказать, камертонный, определяющий дальнейшее звучание, всю ту музыку, что была в готовящейся волошинской книге.
В музыке этой – слышен был голос «коктебельского отшельника»:
– …Умный подход к современности весьма труден и очень редок. Необходимо осознание совершающегося. Нет ничего более трудного, как найти слова, формулирующие современность. Я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти времена, нами переживаемые.
Помню, что готовил еще к публикации волошинскую поэму «Протопоп Аввакум» – только вот где? В конце концов, это и не столь важно. Куда важнее тот факт, что я всерьез тогда занимался Волошиным. Приятели мои даже выдали мне, для работы, имевшийся у них заграничный двухтомник Волошина, и я его изучал.
Я вспоминал Марию Степановну, вдову поэта, и прежние наши беседы с нею. И всеми силами души стремился к тому, чтобы возвращение «коктебельского отшельника» состоялось.
Все это так. Да только получилось, как могу я судить, за все прошедшие годы, когда перестройка сменилась как бы временем, а с ним началась в стране вывороченная, изнаночная неразбериха, смута и хаос, что возвращение Волошина получилось, увы, лишь частичным. До сих пор его собрание сочинений так и не издано. И дом его неуклонно разрушается. И многое, слишком уж многое изменилось в его Коктебеле, где все еще, несмотря на бредовые новшества, жив коктебельский дух.
Вот и ходит Волошин по берегу.
Вот и ходит по двору своему, по дому.
Все он видит – и все понимает.
И я, который обязан Волошину тем, что поселился здесь, в Коктебеле, сам стал таким же, как и он когда-то, отшельником, затворником, и все работаю и работаю здесь, вдалеке от безумия нынешнего междувременья, – и все вижу, и все стараюсь понять.
И не только понять, но и выразить это в слове.
Тридцатое сентября.
Вера, Надежда, Любовь и София.
Скифия, скиния, почва, стихия.
Одиннадцатое октября.
Между пятью и шестью часами, к вечеру – видел – радуга в небе, одним концом – из облака – уходящая в море.
Днем на море – стая дельфинов, недалеко от берега. Вода в море чистая, еще теплая. Солнце светило.
Двенадцатое октября – узкий месяц над Святой горой.
Мечтал в былые годы я издать элегии свои отдельной книгой. Поскольку нынешняя книга прозы, надеюсь, элегична – пусть они приют найдут здесь, временный, возможно, да все-таки надежный, в час, когда свеча горит в тиши передо мною и ввысь ведет заветная звезда.
(Я их мысленно прочитал – и оставил не здесь, а в памяти. Пусть они остаются в ней. Там – спокойней им. Там они – дома.)
…Прервем элегии – их много у меня. Вернемся лучше в осень, в Киммерию, чтоб услыхать слова ее живые, в листве звучащие, – и вновь, на склоне дня, на склоне века ли, – не все ли вам равно, поскольку не были вы, дальние, со мною? – пусть ветер прошлого вздыхает за стеною и свет грядущего придет в мое окно.
Четырнадцатое октября.
Покров Пресвятой Богородицы.
Пятнадцатое октября.
Приехала моя мама – и на душе у меня сразу стало светлее…
И я работал – много, на подъеме, на взлете. Очень много написал. В мои-то зрелые года – со мною рядом была, как в детстве, мама. Наши дни в беседах проходили и в трудах. Редчайшее взаимопониманье мы оба ощутили. Благодать – в родстве непрерываемом, в сближенье младенчества со старостью и детства со зрелостью, в той связи, что одна и судьбы вмиг скрепит, и времена.
Слово. Русское. Кровное.
Ночь. Пространство огромное.
Время. Личное. Точное.
Клич. Горенье бессрочное.
Ключ. Моя привилегия.
Речь.
Пожалуй, элегия.
*
Над Святою горою – мгла, зябко в доме, – тепло ушло за расколотый край стекла, хоть утешить вполне могло. Прямо в Ирий уходит свет вслед за птицами – там потом вместе вспомнят – а может, нет – взгляд усталый в саду пустом. Не бросай меня, свет! – постой, оставайся, как есть, – прости за наивность, но лист простой тяжело мне сжимать в горсти. Что же сможем сквозь мрак нести, замыкая столетья круг, чтобы все, что должно цвести, не погибло бы разом вдруг?
*
Присутствие Шатрова.
*
Вот и вышла книга Шатрова.
В ее появлении – так и хочется сказать: на свет божий! – в негаданном ее возникновении перед глазами, в таком, как снег на голову, приходе – извне, чуть ли не из ниоткуда, из-за пределов досягаемости – сюда, на родину, в Россию, – есть что-то иррациональное.
И это символично. Более того, это закономерно – потому что сродни чуду. Пусть и запоздалому.
Но на то оно и чудо, чтобы, уже неважно когда приходя – раньше ли, позже ли, а скорее всего именно в свой срок, в свой час, всегда вовремя, – неминуемо застигать нас врасплох, да так, чтобы сызнова охватывало душу младенческое изумление перед открывшимся вдруг – разом, как по волшебству, – живым, дышащим, звучащим миром, целым поэтическим космосом.
– Я звезда! Понимаю прекрасно, сердцем выше обид… Лишь когда на земле я погасну, к вам мой свет долетит.
За вхождением в чудо следует его постижение, напряженная работа для сердца, души и ума. И здесь нас ждут поразительные открытия.
Время, пространство и творчество словно заключают между собою тройственный союз. Все слова связаны круговой порукой. Смыслы множатся и выстраиваются в небывалую, не имеющую аналогов систему. Возникает ощущение совершенно особой, магической реальности.
Открывается новое дыхание, обостряется слух, обретается дивное зрение.
Биение пульса начинает совпадать с нахлынувшими ритмами: у текстов мощная энергетика, властно притягивающее к себе и постоянно проверяющее нас на прочность пульсирующее поле.
Сплошное приоткрывание завес, потайные ходы, лестницы, лабиринты и зеркала.
Неловкий шаг в сторону – и так и дохнет ледяным холодком Зазеркалья.
Измерений – много, явно больше четырех. Однако чувствуешь себя там, внутри стиховых скоплений, сцеплений, созвучий, спокойно, даже уютно: тебя не пугают, не ошеломляют, не норовят во что бы то ни стало поразить, – наоборот, к тебе относятся бережно, тебе доверяют, – и тот, кто пригласил тебя войти сюда, в таинственный свой дом, находится где-то здесь, может быть – рядом.
Его присутствие – еще присутствие невидимки, но ведь это именно он позвал тебя в гости – и значит, встреча должна состояться.
– О! Талант – то корабль без пробоин в колыханьи изведанных волн. Он торговлей живет и разбоем, и собою, и золотом полн. Гений – тот, кто неведомым выслан на разведку в чужой небосвод! Это стих, затопляемый смыслом из каких-то надмирных пустот.
Идешь вначале – на звук, на голос. Потом – вместе с голосом. Чуть позже возникает удивительный свет, и дальше движешься уже вместе со светом. Путешествие внутри речи продолжается – и не закончится никогда. Потому что никогда не закончится – речь.
Это вполне вписывается в шатровскую легенду, в шатровскую тайну, в понятие судьбы – в шатровском ее осмыслении и толковании.
Глубокий вдох:
– Как хочу я стать частицей сказки, самому легендой быть для всех!
И долгий, усталый выдох:
– Как ткань проникает игла, судьба моя мной вышивала.
Сквозь истертую, рваную, кое-где стянутую грубыми швами ткань ушедшей эпохи проступает и высветляется – образ.
– Ангел, воплощенный человеком, по земле так трудно я хожу…
Не издание, а – явление. Материализовавшаяся в виде изданной типографским способом книги часть неповторимого духовного опыта, откровений, предчувствий, прозрений.
Книга – загадка. Первая ласточка. Вестница из огромного, существующего добрых пол столетия поэтического мира, в который современному, в меру интересующемуся, но на поверку почти ничего толком не знающему о своей, отечественной литературе читателю предстоит наконец войти.
Для того чтобы оглядеться, сориентироваться в таком сложном и единственном в своем роде мире, чтобы ощутить его значительность, чтобы вчитаться, чтобы за вниманием, которое уже само по себе редкость в наши дни, постепенно пришло и понимание, должно пройти немалое время. Это движение от первоначального, чисто человеческого внимания к серьезному, настоящему пониманию шатровского слова – нелегкий, но радостный труд, за который читателю воздастся сторицей.
Навсегда в прошлом остались рукописные, домашние, как часто бывало при жизни, «издания», произведений поэта. Да и некоторые машинописные, самиздатовские: содержание их перекочевало в книгу, лежащую передо мной. Однако появившиеся сразу после смерти Николая Шатрова самиздатовские сборники его стихов, составленные истовыми ценителями и почитателями его поэзии, существуют по сей день. Объем таких сборников достигает иногда размеров внушительного тома или даже нескольких томов. Число их, надо полагать, будет увеличиваться до той поры, покуда изданное полное Собрание сочинений Шатрова не станет свершившимся фактом. Имеющий свои многовековые традиции, свои правила хорошего тона и свою систему отбора российский самиздат чрезвычайно живуч.
Давнее и загадочное существование шатровских текстов, их поистине странное присутствие-отсутствие в отечественной поэзии, для читающего большинства остается существованием полумифическим, и лишь для посвященного меньшинства современников является очевидным и непреложным.
Путь их к читателю – при всей их классичности, при всей ясно видимой в них преемственности русской стихотворной традиции, продолжении и развитии этой традиции, обогащенной и поднятой на новые высоты, – путь длительный и на редкость непростой.
– Смеркается день, ты глаза закрываешь, как будто иначе глядишь на меня… Как будто иначе от счастья растаешь, хоть ты не из воска, но я из огня! Зато из какого, вовек не узнаешь… Когда же узнаешь – не будет меня.
Сказалось здесь в первую очередь, как это в России сплошь и рядом бывает, то обстоятельство, что поэт никогда не был и не жил на виду – он существовал осторонь от всех, сам по себе, ибо нервотрепке и хаосу решительно предпочитал независимость и уединение, ибо хорошо знал себе цену – и просто не вмещался ни в рамки советской действительности, ни в рамки советской литературы.
Налицо не только и не столько вынужденное, но и сознательное отстранение от литературного процесса минувших лет, посередине которого проходит резко обозначенная граница, раз и навсегда разделяющая его на официальную и неофициальную области, на мнимую и подлинную литературы.
Парадокс заключается в том, что Шатров не был «своим» ни в том, ни в другом лагере. В лучшем случае представители обоих лагерей «слышали звон, да не знали, где он», то есть слышали, что существует такой поэт – Шатров, и даже кое-кто когда-то читал его стихи той или иной поры, ранние или более поздние, но четкого представления о поэзии Шатрова не имел практически никто из «собратьев по перу», да, может быть, и не хотел этого – слишком занимали тогда литераторов собственные заботы, имели значение и внутрилагерные интересы.
– Я мудрости не накопил – и, несмотря на горький опыт, какой-то азиатский пыл ронял меня в глазах Европы. Пронзительно-раскосых рифм разрез лукавый и ленивый… При жизни я ломился в миф, непритязательный на диво. О, кто загадку разрешит: как не заметили поэта? Так некогда Гарун Рашид бродил в толпе, переодетый!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































