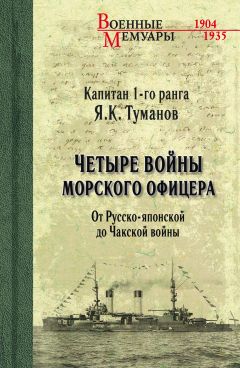
Автор книги: Язон Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Было около половины третьего, когда я, посмотрев в оптический прицел моей средней пушки № 6, и, к слову сказать, ничего в него не увидев, так как он был запорошен мелкой угольной пылью, отошел от нее, направляясь к следующему орудию. Я успел сделать всего несколько шагов, как услышал за спиной оглушительный взрыв и одновременно с ним страшный удар в спину, от которого потерял сознание…[104]104
Много позже, уже находясь в плену, я получил письмо от уцелевшего артиллерийского унтер-офицера моей батареи, в котором он описал мне мое ранение: крупный неприятельский снаряд ударил в орудие № 6, от которого я только что перед тем отошел, и разорвался. Когда дым от взрыва рассеялся, автор письма увидел пушку сброшенной со станка, вокруг нее, веером, истерзанные мертвые тела ее прислуги, в нескольких шагах от нее меня, лежащим ничком, без сознания, в луже крови. – Авт.
[Закрыть]
* * *
С этого момента теряется непрерывность нити моих воспоминаний.
Я не собираюсь описывать здесь подробно Цусимского боя. Эта грандиозная трагедия и катастрофа русского флота столько раз уже была описана талантливыми мастерами пера и самими участниками боя, что мой слабый рассказ, слабый тем более, что, как увидит читатель, мне пришлось бы базироваться не на личных наблюдениях, а на документах и рассказах других участников трагедии, мой слабый рассказ, повторяю, не дал бы ничего нового.
– Поднимите его, – послышался голос Гаврилы Андреевича. – Куда вы ранены? – спросил он меня, пока санитары приподымали меня с палубы.
– Спина, – произнес я первое после ранения слово, вернее, прошептал, так как от сильного удара в спину я все еще не мог вобрать в легкие достаточно воздуха, чтобы говорить громко.
– На живот, – скомандовал доктор, – снимите с него китель. Так… Прекрасно… Ничего серьезного, мой дорогой… Много дыр, но ни одной серьезной… Большая потеря крови и ничего особенного, – приговаривал Гаврила Андреевич, копаясь зондом то справа, то слева моей спины, то у поясницы, то у плеча.
– Вот, получите на память, – вдруг произнес он и сунул мне в руку несколько бесформенных осколков, только что вынутых им из моей спины. – У вас еще остается их несколько штук, но это уже мелочь. Мы их успеем повытащить все в более подходящий момент, а теперь нужно освобождать место для других; вон их сколько ждут своей очереди…
Меня быстро забинтовали и положили у одной из переборок перевязочного пункта.
– А, и ты здесь! – услышал я подле себя знакомый голос, в котором признал голос мичмана Щербачева, Я посмотрел в ту сторону и увидел тощую, полураздетую человеческую фигуру с забинтованной головой.
– Как видишь. (Пока я лежал на столе, санитары обмыли мне лицо и руки.) А ты? Ты тоже ранен? Куда?
– В голову, и один глаз к черту! А тебя куда?
– А меня – в спину, – прошептал я и с наслаждением закрыл глаза.
На этом кончаются мои ясные и отчетливые впечатления этого дня; все происходившее после выступает в моей памяти бессвязно, отдельными обрывками, как после какого-то кошмара. Вследствие, по-видимому, большой потери крови, я пребывал в полусонливом, в полуобморочном состоянии, лишь от времени до времени, на короткие сроки приходя в полное сознание, и тогда виденное отчетливо запечатлевалось у меня в мозгу.
Помню суматоху в операционном пункте. Открыв глаза, я увидел, что из трубы вдувного электрического вентилятора к нам в помещение выбрасывается дым и даже пламя. Один из докторов бросается к выключателю и останавливает работу вентилятора[105]105
По-видимому, вблизи того места, где вдувной вентилятор брал воздух для операционного пункта, разорвался снаряд; произошел пожар, и вместо свежего воздуха вентилятор стал нагнетать дым, пламя и ядовитые газы шимозы. – Авт.
[Закрыть].
Я обвожу взглядом операционный пункт и с удивлением замечаю, что помещение полно уже до отказу лежащими и сидящими человеческими фигурами, частью – полураздетыми, частью – раздетыми вовсе, с белевшими на разных частях тела повязками.
– Откуда их набралось столько? – лениво шевелится у меня в мозгу. – Да ведь бой-то продолжается, – отвечаю я сам себе, и закрываю опять глаза.
Сверху доносится непрерывный гром орудийной стрельбы…
В один из последующих моментов сознания я открываю глаза и вижу, как один за другим в дверях операционного пункта появляются четыре призрака; они совершенно голы, с белыми, как мел лицами, с несоразмерно открытыми, вылезающими из орбит глазами; кожа на их телах свисает какими-то мелкими, серыми лохмотьями; они дрожат быстрой, мелкой дрожью и, не произнося ни слова, ни стона, подходят и останавливаются перед нашими докторами.
– Обваренные паром, – слышу я голос Гаврилы Андреевича. – Простыни!
Призраков заворачивают в простыни, в моем углу очищают место и кладут их рядышком, одного подле другого, неподалеку от меня.
Я закрываю глаза и вновь погружаюсь в небытие.
Когда я очнулся снова и взглянул туда, где лежали призраки, то их там уже не было. На их месте сидели и лежали другие фигуры с перевязанными головами, руками и ногами.
– А где обваренные? – спросил я тихо своего соседа.
– Да давно уж померли. Господин доктор приказали убрать их, бо тут и живым уж места нема, – сердито ответил мне сосед.
Сверху слышался непрерывный гул орудий…
– Алешка, Алешка, Алешка, Алешка-а-а…
Я вновь открываю глаза. Неподалеку от меня лежит ничком молодой красивый ординарец командира. У него приподнята сзади черепная коробка и видны мозги. Он даже не перевязан, по-видимому, в забытьи, и непрерывно, зычным голосом зовет какого-то Алешку…
Я открываю глаза и не узнаю места, где нахожусь. Это уже не операционный пункт, а какой-то коридор, длинный и узкий, слабо освещенный электричеством. Руки и ноги у меня страшно затекли в моей неудобной позе, на животе. Я делаю движение, чтобы переменить позу, и касаюсь ногами чего-то лежащего позади меня. Оттуда раздался слабый, жалобный стон.
– Осторожно, черт возьми! Сзади тебя командир лежит, – слышу я голос мичмана Бубнова.
Я с трудом поворачиваю голову и вижу маленькую фигурку командира, лежащую скрючившись, на тонком матросском матрасике у меня в ногах. Одновременно я узнаю и место, где мы находимся: это – коридор, прилегающий к операционному пункту, куда нас перенесли, чтобы разгрузить перевязочный пункт. Рядом со мной сидел мичман Бубнов, вытянув свою раненую ногу. Он был первым, сообщившим мне печальные вести о нашей эскадре.
На мой вопрос, который час и почему не слышно больше стрельбы, он сообщил мне, что уже ночь, что дневной бой кончился с заходом солнца, поэтому в данный момент нет стрельбы, но что я ее опять скоро услышу, потому что нас непрерывно атакуют миноносцы. Сообщил он мне, что эскадра наша совершенно разбита, масса кораблей потоплена. Первым пошел ко дну «Ослябя» – наш сосед по корме, потопленный через 45 минут после начала боя.
– А наш первый дивизион: «Суворов», «Александр III», «Бородино»? – спросил я.
– Что с «Суворовым» – не знаю. Наверное, погиб. «Александр III» и «Бородино» перевернулись. Мы единственные уцелели от первого дивизиона.
– А что с адмиралом? Где он?
– Неизвестно. В командование вступил адмирал Небогатов, и мы идем в кильватер «Николаю».
– А куда идем?
– Все тот же курс – NO 23°, во Владивосток.
Я задавал все эти вопросы машинально, и смысл получаемых ответов как-то не доходил до моего сознания, не производя на меня никакого впечатления. Все мои чувства притупились и одеревенели. С тем же чувством тупой и деревянной апатии узнал я о судьбе моих друзей и соплавателей: мой друг Андрей Шупинский, с которым мы прожили душа в душу 10 месяцев в одной каюте, пал одним из первых, убитый наповал осколком снаряда в голову. Нашу «мамашу» – Андреева-Калмыкова – буквально разорвало на части: от него нашли только кусок плеча с погоном. Командир был сначала ранен лишь в шею; когда его несли на носилках на перевязочный пункт, неподалеку разорвался снаряд, и его ранило вторично и уже смертельно – большой осколок снаряда попал в спину и прошел затем сквозь легкое и желудок. Тяжело ранены – Гирс[106]106
Скончался в японском плену. – Авт.
[Закрыть], оба «Серафима», лейтенант Славинский, потерявший один глаз, младший штурман Ларионов. Арамис, раненный в голову и шею, после перевязки вернулся в строй и вступил в командование кораблем. Большинство остальных офицеров также были кто ранен, кто контужен, но оставались в строю. Среди команды убитые насчитывались десятками.
О состоянии нашего корабля я даже и не расспрашивал. Много позже, уже в плену, в Японии, мне довелось прочесть описание боя одним японским офицером. Его слова о нашем броненосце сохранились у меня до сих пор дословно в памяти: «Когда мы взошли на броненосец “Орел”, мы сами пришли в ужас от результатов нашей же стрельбы».
Эта ночь, проведенная в коридоре, прилегающем к операционному пункту, была бы настоящим кошмаром, от которого седеют люди, если бы не глубочайшая апатия и одеревенелость чувств, овладевшие мной и как бы забронировавшие меня от внешних впечатлений. Распростертый прямо на стальной палубе в неудобной позе, неизменно на животе, я не мог пошевелиться, чтобы не задевать своих страдальцев-соседей и особенно умиравшего у меня в ногах командира. Сжалившись надо мной, Бубнов снял с себя тужурку и подложил мне ее под грудь, но, видя жестокие страдания командира и его неудобное положение без подушки, я попросил подложить ее ему под голову.
Со всех сторон раздавались стоны, то громкие, то тихие и жалобные, исковерканных и изуродованных людей, и от времени до времени сверху, сквозь открытый люк, звуки горна, игравшего сигнал «Отражение минной атаки», и вслед за ним редкие выстрелы немногих оставшихся у нас целыми пушек…
Эпилог
I
Трубка моя догорает, и мне остается сказать уже немного. Более того: я даже могу возложить на другого печальную обязанность описать последние часы 2-й Тихоокеанской эскадры, вернее – ее жалких остатков после дневного боя 14 мая и ожесточенных минных атак наступившей за ним ночи.
Будучи участником, я вместе с тем не был свидетелем этих полных трагизма моментов, которых не дай Бог переживать никому из моряков, и поэтому, описывая их, я должен был бы говорить со слов других или базироваться на документах. Пусть же это сделает за меня другой!
Кому же передать свое перо? Есть столько описаний страшной трагедии 14–15 мая 1905 года, что в данном случае вполне применимо французское выражение embarras de richesse.
Есть, впрочем, флот, к которому я питаю какую-то странную нежную симпатию. В чем секрет этой симпатии? Не знаю. Вернее всего в том, что это один из древнейших флотов мира, и в том еще, что незадолго до трагедии, пережитой русским флотом, он также выпил до дна горькую чашу поражения. Флот этот – испанский. Пусть же представитель его поможет мне закончить мою грустную повесть.
Он имеет тем большее право сделать это, что не может быть заподозрен в пристрастии ни к одной, ни к другой из сторон: ни к России, ни к Японии[107]107
Ariuro Armada, Королевского испанского флота лейтенант – «Enseñanzas» (с. 196–198). – Авт.
[Закрыть].
«На востоке загорелась заря, освещая своим нежным светом воды Японского моря. Этот день, после кровавого кануна, рождался светлым и ясным. На чистом горизонте – ни облачка.
К назначенному накануне вечером адмиралом Того пункту с различных сторон направились отряды разведчиков и флотилии истребителей.
На месте встречи находились уже эскадры броненосцев и броненосных крейсеров. Адмирал отдавал необходимые распоряжения, чтобы приступить к заключительному акту трагедии, который вместе с предыдущим, разыгранным накануне, составил бы одно целое: великую битву с русским флотом.
Японская эскадра должна была развернуться в одну длинную линию с востока на запад, к югу от Матсушимы, с тем, чтобы пресечь всякую возможность врагу проскочить во Владивосток.
Радиограмма, отправленная адмиралом Катаока, находившимся в 60 милях в тылу, уведомляет Того, что к востоку видны дымы нескольких судов. Действительно, это были остатки того, что было эскадрой Рожественского, которые, под командой Небогатова, упорно продолжали свой путь к желанному убежищу.
Увидев эскадру крейсеров, русский адмирал попытался было атаковать их, но состояние его судов заставило его продолжать свой путь на NО.
Эскадры японских броненосцев и броненосных крейсеров бросились на восток, чтобы преградить путь русским кораблям, тогда как дивизионы Уриу и капитана 1-го ранга Того с эскадрами крейсеров стали заходить сзади. К полудню адмирал Небогатов на “Николае I”, во главе, “Орла”, “Апраксина” и “Сенявина”, имея с левого борта от себя крейсер “Изумруд”, оказался окруженным 27-ю японскими кораблями, не считая миноносцев.
Японцы открыли огонь, дав накрытие по “Николаю” с дистанции, недосягаемой для артиллерии русских, и тщательно сохраняя ее, когда русский адмирал попытался уменьшить ее. При этих условиях, – бессильный причинить вред неприятелю, неуязвимому для него, так как тот был хозяином дистанции, с выведенной из строя тяжелой артиллерией, с израсходованными снарядами, насчитывая на своих судах многочисленные аварии, окруженный подавляющими силами неприятеля, с выдохшимися физически экипажами, сражавшимися в продолжении многих часов, с подавленной к тому же психикой, – сопротивление для него было уже невозможно. И Небогатов к горечи поражения присоединил унижение сдачи, сдавшись со своими кораблями, кроме “Изумруда”, который смело прорвал кольцо неприятеля, что удалось ему, благодаря его большому ходу».
II
Трубка моя хрипит, догорают последние табачинки, и вместо ароматного табачного дыма я ощущаю лишь едкую горечь…
Прошло два дня.
17 мая 1905 года, день в день ровно через год после того памятного дня, когда под грохот молотов и пневматических зубил я впервые вступил на палубу «Орла» в кронштадтской гавани, меня снесли с него на носилках японские санитары в японском порту Майдзуру.
Так же ослепительно сверкало солнце, но уже не для нас; так же весело, как тогда, в кронштадтском сквере, щебетали птицы, но уже не наши; так же ярко цвела зелень, но тоже чужая и не похожая на нашу.
Длинной вереницей вытянулась от пристани печальная процессия раненых, направляясь по узкой, крутой дорожке к двухэтажному деревянному зданию, приспособленному под госпиталь для пленных. В изорванных, окровавленных кителях и тужурках раненые медленно поднимались в гору, кто – ковыляя сам, кто – несомый на носилках. Никто не оборачивался назад. Там, неподалеку, на рейде, стоял накренившись, с избитыми бортами, зияя огромными пробоинами, с разбитыми шлюпками, продырявленными трубами, с перекосившимися на перебитых топенантах реями – наш «Орел», и под его уцелевшим гафелем развевался флаг Восходящего солнца…
III
Огромный зал кают-компании флотских экипажей в Петербурге, на Благовещенской площади, залит электричеством. За большим столом, покрытым зеленым сукном, на возвышении, группа старых суровых адмиралов в мундирах, эполетах, орденах и звездах. Внизу, немного отступя от возвышения, на котором заседает синклит адмиралов, на скамьях, – большая группа морских офицеров. Среди них – много твоих знакомых, читатель, во главе с низко опустившим голову и заметно постаревшим Арамисом. Это – скамьи подсудимых. За ними, в черных фраках, сверкая снежной белизной крахмальных рубашек, – адвокаты. Еще дальше, за решеткой – компактная масса публики.
Это – военно-морской суд. Он длится много дней кряду. Ведь подсудимых так много!
Услужливая память отчетливо сохраняет два волнующих момента, пережитых мной на этом суде. Я – свидетель, задержанный, несмотря на скудость данных мной показаний, по просьбе одного из защитников, для могущих, быть может, последовать с его стороны дополнительных вопросов. С того места, куда меня посадили, мне чудесно все видно и слышно.
– Пригласите войти свидетеля, вице-адмирала в отставке Зиновия Петровича Рожественского, – обращается председатель к дежурному офицеру.
Сразу же в зале наступает мертвая тишина. Все в настороженном ожидании смотрят на двери, откуда должен появиться вызванный свидетель. Проходит несколько томительных мгновений. Но вот наконец двери широко раскрываются, и на пороге появляется высокая, стройная фигура нашего адмирала. Он в черном штатском сюртуке, с черной же повязкой на не зажившей еще от полученных ранений голове. Ни на кого не глядя, он твердой, неторопливой походкой направляется к судейскому столу. Публика, подсудимые, защитники, все, как один, встают со своих мест. Остаются сидеть только судьи…
Судебное следствие кончено. Начинаются речи сторон. После длинной речи прокурора один за другим говорят защитники. Вот поднимается Карабчевский – защитник группы офицеров «Орла». В зале воцаряется глубокая тишина. Я не отрываясь смотрю на красивую львиную голову знаменитого русского адвоката, и по мере того, как льется его горячая речь, чувствую, как наэлектризовываюсь я сам, а со мною и весь зал. Я с удивлением замечаю, как волнуется сам автор пламенной речи, как на его щеках выступают яркие пятна, а тугой воротничок его крахмальной рубашки делается постепенно мягким и теряет свою безукоризненную форму. Вот он кончил и тяжело опускается на стул. Из рядов публики слышен женский плач.
Решением суда, на основании статьи 354 Военно-морского устава, офицеры эскадренного броненосца «Орел» признаны невиновными в сдаче корабля неприятелю.
В японском плену (из далеких воспоминаний)
Лейтенант Александр Владимирович Гирс, второй артиллерийский офицер эскадренного броненосца «Орел», умирал трудно и тяжело. Здоровый молодой организм не хотел сдаваться, но легкие, сожженные пожаром орудийных зарядов в башне, которой он командовал, давали все меньше и меньше воздуха, и старший врач нашего импровизированного из казармы бывшей минной роты госпиталя после очередного обхода, упоминая о Гирсе, с каждым разом все более зловеще произносил, втягивая воздух и с сильным японским акцентом:
– Швах, зер швах…
Дня за два до смерти умирающий почти перестал приходить в сознание. Быстро и часто дыша, он бредил и в бреду неизменно звал какую-то Магдалину Дмитриевну:
– Магдалина Дмитриевна, войдите… Войдите, Магдалина Дмитриевна…
Но вот стал затихать и бред, и слышно было лишь частое прерывистое дыхание. Ранним утром ликующего майского дня, когда над кудрявыми холмами, окружающими извилистую бухту военного порта Майдзуру всходило солнце, длинное, худое тело Гирса вытянулось еще больше и застыло в вечном покое.
Начальник гарнизона, он же и командир порта Майдзуру – контр-адмирал Хидака, узнав о смерти русского офицера, прислал к нам своего адъютанта договориться о погребальной церемонии.
– Адмирал Хидака приказал мне передать вам, – сказал офицер, – что скончавшийся русский лейтенант будет погребен со всеми воинскими почестями, полагающимися японскому офицеру его чина. Вот только он не знает, как быть по части религиозного обряда. Во всем Майдзуру нет ни одного христианского священника. Поэтому адмирал предлагает, если русские офицеры ничего против этого не имеют, то погребальные моления совершит японский бонза по буддийскому обряду.
Обсудив это предложение, мы пришли к заключению, что нашему бедному Александру Владимировичу от этого не убудет, похороны же выйдут торжественнее и какие ни на есть моления за упокой его души вознесены будут.
Мы изъявили свое согласие на буддийский обряд.
Похороны состоялись на следующий день. К назначенному часу прибыла и выстроилась у нашего госпиталя рота матросов с хором музыки и лафетом от десантной пушки, в который были впряжены шесть моряков. Прибыл и командир порта адмирал Хидака с группой морских офицеров. Это был пожилой моряк, высокий и красивый, насколько может быть высоким и красивым японец. Из наших офицеров в то время были на ногах и могли сопровождать покойника к месту его последнего упокоения только я и наш старший минный офицер, лейтенант Иван Владимирович Никонов.
Гроб был вынесен на руках офицеров. Когда он показался перед выстроившейся ротой, раздалась команда, звякнули винтовки, рота взяла «на караул». Забыв о том, где я нахожусь, я приготовился услышать торжественные звуки «Коль Славен», исполняемый в этот момент военными оркестрами в России. Оркестр грянул, но я услышал не «Коль славен», а нечто не только не похожее на этот гимн-молитву, а прямо ему противоположное: по ритму и по бравурности это была какая-то плясовая. Веселый мотивчик гремел в тихом майском воздухе все время, пока устанавливали и крепили гроб на лафете.
– Если они все время будут играть такие вещи, – сказал я тихо стоявшему рядом со мною Никонову, – то лучше бы было, если бы никакого оркестра не присылали бы вовсе.
Никонов лишь пожал плечами, как бы говоря: «Наше дело маленькое; надо терпеть».
Но вот гроб установлен на лафете. Оркестр замолк. Рота взяла «к ноге», затем – «на плечо», и построилась по направлению движения. Впряженные в лафет матросы натянули лямки, и процессия тронулась. За гробом зашагал откуда-то вдруг появившийся крупный, хорошо упитанный бонза, с бритыми лицом и головой, в живописном одеянии; за ним, кучкой, адмирал Хидака со своими офицерами и я с Никоновым. Шествие замыкала рота во взводных колоннах, с оркестром музыки во главе. Я, не без некоторого страха, ожидал нового выступления оркестра. Вот раздались первые аккорды, и… я услышал бессмертный мотив похоронного марша Шопена, столь часто слышанный мною, когда я шагал по Невскому проспекту по направлению к Александро-Невской лавре, неся на плече тяжелое древко с вице– или контр-адмиральским флагом, или подушку с орденом Св. Владимира или Станиславской звездой.
Весь довольно долгий путь и притом непрерывно в гору, под сильно палящими уже лучами майского солнца, от нашего госпиталя до кладбища, маленькие японские музыканты непрерывно играли трогательный шопеновский марш.
Но вот и кладбище. Гроб снят с лафета и поставлен на краю вырытой глубокой могилы. Выступил бонза. Воскуривая какой то фимиам, голосом чревовещателя, откуда-то из глубины живота, позванивая в колокольчик, он погребал русского пленника. Дымок какого-то японского курева тонкой струйкой поднимался в тихом воздухе майского дня к голубому небу, где уже должна была витать душа русского лейтенанта, отдавшего жизнь за Веру, Царя и Отечество…
Когда окончилась буддийская церемония, Никонов и я подошли к гробу. У Никонова был русский молитвенник, по которому он прочел несколько соответствующих моменту молитв. Вот окончилась и эта церемония, гроб опущен в могилу и комья японской земли застучали о крышку гроба русского офицера.
Мог ли я думать тогда, возвращаясь в японский госпиталь, что я простился с останками своего соплавателя и боевого товарища не навсегда? А вот подите же: мне еще пришлось с ними встретиться, и даже не единожды, а дважды.
Родные лейтенанта Гирса, уведомленные нами о подробностях его последних дней и кончине, принялись хлопотать через французское посольство о перевозке его тела в Россию. К декабрю месяцу, уже после заключения мира, но когда я еще не был эвакуирован, все формальности были закончены, тело вырыто из могилы на майдзурском кладбище, соответствующим образом упаковано и доставлено в Кобе, для отправки его на пароходе в Европу. Хлопоты по отправке тела на пароходе взяли мы на себя и, так как тогда могли уже свободно путешествовать по Японии, приехали в Кобе. Груз был сдан на французский грузовой пароход, отходивший в Марсель.
Вскоре после этого я был эвакуирован, и в один из последних дней января 1906 года был уже в Петербурге.
В первый же день приезда я, развернув давно не виданный мною свежий номер «Нового времени» и пробегая глазами по старой привычке прежде всего колонну имен в траурных рамках на первой странице, прочел извещение о прибытии в тот же день в Петербург тела скончавшегося от ран, полученных в Цусимском бою, лейтенанта Александра Владимировича Гирса. Вынос тела с Варшавского вокзала для погребения в Александро-Невской лавре – в таком-то часу…
В числе выносивших гроб, конечно, был и я. Наряд был от Гвардейского экипажа, и на этот раз оркестр, когда мы выносили гроб, играл «Коль славен».
Контраст этого вторичного погребения лейтенанта Гирса с первым был не только между гимном «Коль славен» и японской плясовой. Контраст был во всем: там, в Японии, – горячее солнце и яркие краски майского дня, здесь – нахлобученное тучами, зимнее, серое петербургское небо. Там – маленькие, точно игрушечные, деревянные домики, здесь – серые каменные громады петербургских домов. Там – маленькие, тоже точно игрушечные матросики, здесь – гиганты Гвардейского экипажа…
Но было нечто и общее: это был тот же, за душу хватающий погребальный марш Шопена…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































