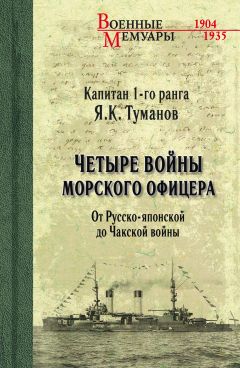
Автор книги: Язон Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Глава VI. Вести, слухи и сплетни. Где Фелькерзам? Дозорная служба на Мадагаскаре. Я получаю невыполнимое поручение. Бедный Гирс. Я арестован. Нет худа без добра. Переход в Nossi-Be. Болезнь командира. Мы учимся стрелять. Капитан 2-го ранга К. и его статьи в «Новом времени». Как мы получили первую почту.
С каждой новой постановкой на якорь, как только начиналось сообщение между судами, немедленно же по эскадре начинали циркулировать вести достоверные, слухи полудостоверные и сплетни – абсолютно невероятные. Первые получались путем чисто официальным, приказами адмирала, сообщениями командира и т. п. Вторые – путем неофициальным, через попадающие иногда на корабль местные газеты или по рассказам офицеров, посещающих своих друзей и товарищей, служащих в штабе адмирала. Как возникают третьи, – это известно всем и каждому и лучше всего характеризуется поговоркой «сорока на хвосте».
С приходом на Мадагаскар на нас хлынула целая лавина известий всех трех родов. К числу сообщений, к несчастью абсолютно достоверных, относилось извещение кораблей о гибели нашей 1-й Тихоокеанской эскадры, расстрелянной японцами со взятой ими штурмом Высокой Горы.
Итак, мы становились один на один со всем японским флотом! Судьба самой крепости Порт-Артур после этого переставала уже нас интересовать. Это печальное известие сильно сгладило остроту впечатления от другого, также официально нам сообщенного, что отряд японских крейсеров прошел Малаккский пролив и появился в Индийском океане. Базой этого отряда указывались Сейшельские острова, принадлежащие англичанам.
Общий вопрос, который у всех был на устах: «А где же Фелькерзам?»
В первые дни нашего пребывания на Мадагаскаре об этом не знал даже сам Рожественский. На нашей эскадре в эти дни чувствовалась какая-то бестолочь и даже растерянность. На наше несчастье, стояли мы на якоре вдали от берегов, в очень широком проливе между двумя островами, и нигде поблизости не было даже телеграфной станции, при помощи которой мы могли бы сноситься с остальным миром. Хотя через несколько дней мы и переменили якорное место, и стали ближе к берегу, это не изменило в лучшую сторону нашего положения полной оторванности от культурных центров. Для сношений по телеграфу адмирал посылал буксирный пароход «Русь», который временами куда-то уходил и снова возвращался к эскадре.
Всякий раз с приходом «Руси» по эскадре распространялась новая волна вестей и слухов. В рассказах офицеров начали фигурировать новые, неведомые нам дотоле названия: Таматава, Тананарива, Диего-Суарец… Наконец, стало очень часто повторяться какое-то Nossi-Be, оказавшееся, в конце концов, местом пребывания отряда адмирала Фелькерзама. Кинулись к картам и отыскали в северо-западном углу Мадагаскара это таинственное Nossi-Be. После этого в кают-компании усиленно стал дебатироваться вопрос, пойдет ли гора к Магомету, или же Магомет к горе, иначе говоря, – пойдем ли мы на присоединение к Фелькерзаму, или же – он к нам.
Дурные вести с театра войны, полная неизвестность даже ближайшего будущего, непрерывная напряженная бдительность, просто физическая усталость от «полярно-тропического» расписания, усугубляемая парниковым воздухом Мадагаскара, – все эти обстоятельства сильно отражались на нервах личного состава, в особенности на командирах. Наш командир превратился в какой-то сплошной обнаженный нерв, малейшее прикосновение к которому вызывало сильное и подчас бурное раздражение. Так как в близком и непосредственном контакте с этим нервом по роду занимаемого им положения на борту броненосца находился Арамис, то на нем чаще всего и разражалась болезненная нервность командира. Бедный Арамис даже побледнел и осунулся. Мы, мелкая сошка, по мере возможности старались просто не попадаться на глаза командиру, хотя его настроение рикошетом, через Арамиса, отражалось и на нас: должен же был и Арамис отводить на ком-нибудь свою душу! Но это было еще с полбеды.
Однако от времени до времени доводилось и нам попадать непосредственно под гневную руку Юнга. Такой случай произошел со мной накануне сочельника 1904 года.
В этот день выяснилось, что Магомет не в состоянии идти к горе, ибо фелькерзамовская калечь стояла чуть ли не с разобранными машинами, зачинивая многочисленные поломки после длительного перехода, и гора решилась сама тронуться к Магомету: эскадре нашей приказано было готовиться к походу в Nossi-Be, в каковой поход мы должны были двинуться утром следующего дня.
К заходу солнца на нашем корабле все было готово к походу: все шлюпки были подняты и убраны на ростры, кроме дежурного минного катера, долженствующего идти на ночь в дозор. Ночная дозорная служба минных катеров была одной из мер предосторожности против внезапной ночной атаки эскадры неприятелем. С получением известия о проходе Малаккского пролива японскими крейсерами и о возможности существования японской базы на Сейшельских островах бдительность на эскадре была удвоена.
На все время нашего пребывания на Мадагаскаре был раз навсегда заведен следующий порядок: с момента захода солнца корабли прекращали сообщение не только с берегом, но и между собой. По пробитии тревоги корабль приготовлялся к отражению минной атаки: к орудиям подкатывались тележки со снарядами, орудия заряжались, усиливалась сигнальная служба, орудийная прислуга должна была спать у своих пушек, ставились сети Булливана.
Вместе с тем принимались и меры внешнего охранения, которая заключались в том, что на ночь посылался в море дозор из четырех минных катеров. Они крейсировали всю ночь, каждый – в отведенном ему районе у входа на рейд, на котором стояла эскадра, охраняя и наблюдая подходы к рейду с моря, и лишь со светом возвращались на свои корабли. Обязанность катеров была контролировать идущие с моря на рейд суда и, в случае появления неприятеля – атаковать его.
В инструкцию офицера, назначаемого командиром дозорного катера, входил, между прочим, пункт, согласно которому катер ни в коем случае и что бы ни случилось, не имел права, под страхом быть расстрелянным своими же, возвращаться ночью к эскадре. Этот параграф инструкции слегка нервировал нас (командирами катеров в ночные дозоры ходили, конечно, мы, многострадальные мичмана) – в особенности, когда погода была ненадежной, и можно было ждать свежего ветра. Крейсировать приходилось зачастую на открытом плесе, где на просторе ходила океанская зыбь, и сознание, что ты лишен права укрыться раньше света в бухте, даже в случае серьезной опасности быть поглощенным разъяренной стихией, – не могло не поднимать настроения.
Накануне нашего ухода в Nossi-Be выпала моя очередь идти в дозор. Незадолго до захода солнца катер мой был уже готов, покачиваясь у трапа, и я внизу заканчивал последние приготовления, запасаясь кое-какой провизией на ночь, когда меня вызвали наверх к командиру. Поднявшись на верхнюю палубу, я застал его совещавшимся о чем-то с Арамисом, и когда я подошел к нему, приложив руку к козырьку фуражки в ожидании приказаний, он обратился ко мне со следующими словами:
– Отправляйтесь сейчас же на дозорном катере на «Орел» (госпитальный) и привезите лейтенанта Гирса.
Я взглянул на совсем низко склонившееся над горизонтом солнце и увидел, что до его захода оставалось всего каких-нибудь 10 минут. «Орел» же стоял от нас дальше всех прочих кораблей эскадры, под самым берегом, и я ясно видел, что мне никак не успеть сходить туда и вернуться обратно раньше, чем солнце скроется за горизонтом, момент, когда я должен был уходить в дозор. Наш адмирал строго требовал, чтобы одновременно с командой «флаг и гюйс спустить» дозорные катера отваливали бы от своих кораблей и уходили по назначению.
Я хотел было обратить внимание командира на это обстоятельство и наверное так и сделал бы, несмотря на категорический тон полученного приказания и на риск быть оборванным обычной фразой раздражительных начальников – «Исполняйте полученное вами приказание и не рассуждайте», – если бы мы были одни с командиром. Но присутствие молчавшего Арамиса («Он-то видит, что мне не успеть до захода солнца дойти до «Орла» и вернуться обратно», – думал я) заставило меня прикусить язык и ответить лаконическим «есть».
– Мое дело маленькое, – мелькало у меня в голове, когда я сбегал по трапу в катер, – должен делать то, что приказано.
– Отваливай, на госпитальный «Орел»! – приказал я рулевому.
Высокий, худой и жилистый строевой унтер-офицер латыш Ляос коротким крюком оттолкнул корму катера от трапа и взялся за ручки штурвала.
– Вперед! Полный! – И мы побежали в глубину бухты. На сердце у меня было неспокойно, точно в предчувствии недоброго. Проходя мимо судов эскадры, я видел у левых трапов броненосцев стоявшие уже наготове дозорные катера и с беспокойством наблюдал за огромным багровым диском солнца, быстро опускающимся к горизонту.
Лейтенант Гирс, наш второй артиллерийский офицер, без которого командир не хотел уходить в море, в день нашего прихода на Мадагаскар сильно повредил себе чем-то руку и лечился на «Орле». Он находился на палубе госпитального судна, когда я с полного хода подошел к его трапу и, еще издали завидев его высокую, сухощавую фигуру, крикнул ему:
– Скорее, Александр Владимирович, собирайтесь! Завтра утром уходим в море и командир приказал вам возвращаться на броненосец.
Сборы Гирса были очень недолги. Это был настоящий морской офицер, не привыкший копаться никогда и ни в чем. Но если бы даже на его месте был наш увалень-ревизор Бурнашев, одной моей фразы – «командир приказал» – было бы достаточно, чтобы заставить его собраться с молниеносной быстротой.
Но, увы! Как ни торопился Гирс и как ни быстро спустился ко мне в катер, я был еще у трапа «Орла», когда красный диск солнца скрылся за горизонтом, послав нам свой прощальный зеленый луч, и на кораблях медленно и торжественно спустили флаги. Возвращаясь полным ходом на броненосец, я видел, как уходили в море дозорные катера. Гирс еще не совсем оправился, и рука его, незадолго перед тем оперированная, все еще была на перевязи. Будь он уже совершенно здоровым, я предложил бы ему разделить со мною ночь в дозоре и от «Орла» пошел бы прямо в море. Но как везти его с перевязанной рукой, с повышенной, как он мне говорил, температурой, в океан, где мой катер, на котором негде было даже прилечь, всю ночь будет швырять как щепку на океанской зыби? С другой стороны, ведь я же получил точное и определенное приказание привезти Гирса на броненосец.
Эти мысли роились в моей голове, когда я полным ходом возвращался на броненосец, с беспокойством взглядывая на быстро темнеющее небо. Зная, что с заходом солнца на корабле поставлены уже сети, я шел под корму броненосца, рассчитывая высадить Гирса на балкон командирского помещения. Но не тут-то было: когда мы были уже недалеко от броненосца, я увидел вдруг бегущего по полуюту к корме вахтенного начальника. Вот он подбежал к поручням и приставил к губам рупор:
– Идите в дозор! – донесся до меня его голос.
Я вопросительно посмотрел на Гирса.
– Не обращайте, пожалуйста, внимания и идите к броненосцу, – сказал он мне сердито. По-видимому, перспектива ночного дозора ему ни с какой стороны не улыбалась. Я продолжал идти к броненосцу. Вот до него остается какой-нибудь десяток-другой сажен, я уже собираюсь стопорить машину, как на спардеке появляется маленькая фигурка командира, который быстро сбегает по трапу, ведущему на ют, и бежит к корме, воздевая руки к небу. За ним поспешает грузная фигура Арамиса. Они оба что-то кричат мне, что – я не могу разобрать, так как их заглушает голос вахтенного начальника, не перестающего кричать в рупор свое неизменное – «идите в дозор!» Наконец, я различаю иступленный, резкий крик командира – «кто вам разрешил вернуться?»… и решаю, что дело Гирса окончательно проиграно. Я уже не смотрю на него вопросительно, а решительно командую рулевому: «Лево на борт, самый полный ход, в дозор!»
Проходя вдоль юта корабля, я все еще слышу иступленное трио – командира, Арамиса и вахтенного начальника. Этот почему-то раздражал меня более всего:
– Ты-то чего кричишь теперь, мерзавец? – думал я, приветствуя, при проходе мимо, орущее начальство почтительным отданием чести и стараясь уже не слышать, что именно кричало мне трио, вполне уверенный, что ничего приятного все равно не услышу. Слава Богу, ют остался позади, и трио стихло. Прохожу вдоль моей средней батареи; сейчас пройду бак, и корабль останется у меня за кормой, тогда могут себе кричать, сколько угодно. Вдруг новые вопли.
– Это еще что такое? – мелькает в моей голове недоуменная мысль, и в следующее затем мгновение я вижу высунувшееся в огромный иллюминатор лазаретной каюты исхудавшее лицо Титова, и вслед нам несется истошный крик сумасшедшего и безумный хохот:
– Поезжайте, господа, поезжайте! Ха-ха-ха-ха…
Только когда наш броненосец остался далеко позади, я решился взглянуть на бедного Гирса. Хотя совесть моя была совершенно спокойна, и я отнюдь не считал себя в чем-либо перед ним виновным, все же я испытывал чувство какой-то неловкости без вины виноватого человека. Гирс сидел, мрачно вперив взор в одну точку, и молчал. Чтобы нарушить это тягостное молчание и несколько отвлечь его мрачные мысли, я спросил его:
– Успели вы хоть поужинать-то?
– Кой черт успел! – с раздражением ответил он. – Мы как раз должны были садиться ужинать, когда вы пришли за мной.
– Ну, это не беда, – утешил его я, – у меня найдется кое-что закусить, а потом мы с Ляосом придумаем вам и ложе, чтобы вы могли поспать. Оно, конечно, здесь не так, чтобы уж очень было удобно, будет вам немножко коротко, – и наградил же Бог вас ростом! – ну, да как-нибудь скоротаем ночь. Погода, слава Богу, тихая и болтать будет не сильно.
Когда мы пришли на назначенное нам место, было уже совсем темно. Ляос сервировал нам наш незатейливый ужин, основу которого составляло «тело покойного бригадира»[81]81
Так во флоте в шутку называли мясные консервы – corned beef. – Авт.
[Закрыть] и коробка сардин. На безоблачном небе взошла луна и по тихой поверхности моря до самого горизонта легла и заиграла лунная дорожка. Море спокойно дышало ровной и пологой зыбью, на которую легко всходил, почти не качаясь, мой маленький катер. Видимость была отличная, и все обещало тихую и спокойную ночь. Приказав рулевому ходить самым малым ходом и держаться ближе к берегу, чтобы укрываясь в его тени, катер не так был бы заметен с моря, я пригласил моего невольного спутника разделить со мною мою скромную трапезу.
Царившая вокруг нас глубокая тишина, нарушаемая лишь глухим монотонным постукиванием машины да тихой беседой моих матросов, и красота тропической ночи постепенно успокоили наши взбудораженные нервы. Густой и сочный бас Гирса звучал все спокойнее и спокойнее, нотки раздражения пропадали, содержание его речи, из совершенно непечатного вначале, становилось допустимым для ушей детей все более младшего возраста и, наконец, могло уже смело появиться на страницах «Родного слова» Ушинского.
Нам досаждала лишь страшная сырость. Все вокруг нас было не только влажно, но и мокро, точно только что смоченное водой. Вскоре после ужина Гирса начала трясти лихорадка, и я уговорил его лечь. С большим трудом устроили мы с Ляосом из подручного материала подобие горизонтальной плоскости по диагонали кормового помещения катера, но и диагональ оказалась короткой для длинноногого Гирса. Но это уже было непоправимо – не прорубать же было в борту дыру для его ног! A la guerre – comme a la guerre, и мой бедный пассажир, кряхтя и долго приспосабливая свое тощее и длинное тело и больную, на перевязи руку, кое как примостился, наконец, на своем прокрустовом ложе, после чего я укрыл его брезентовым пушечным чехлом, и больной задремал. Я же, взобравшись на машинный кожух неподалеку от рулевого, углубился в свои мысли, посматривая в даль, по направлению к морю, откуда мог появиться коварный враг.
Когда луна побледнела, как лицо Арамиса при вспышке командирского гнева, посерел восток, и одна за другой стали гаснуть звезды, я дал полный ход машине и направился к броненосцу. Коротки тропические сумерки: не успел я еще пристать к трапу, как из-за горизонта брызнули уже горячие лучи, и показалось солнце. Все корабли сильно дымили, и на них заметна была суета, обычная перед съемкой с якоря. Когда мы с Гирсом поднялись на палубу, нас встретил Арамис словами:
– Обождите спускаться. Сейчас выйдет командир. Он хочет с вами говорить.
Разговор оказался кратким и лаконическим. Когда, при появлении командира, мы подняли руки к козырькам фуражек, он быстрыми шагами подошел к нам и, не здороваясь с нами, проговорил, обращаясь к Гирсу:
– Объявляю вам строгий выговор за долгие сборы. – И затем, обернувшись ко мне:
– А вас я арестовываю… – и, резко повернувшись, пошел на мостик.
Мы молча пошли вниз; Гирс, мрачно насупившись, я – с трудом сдерживая… бурную радость. Во мне молчали все столь естественные в таком положении чувства: не было даже намека ни на раздражение, ни на чувство оскорбленного самолюбия, не было места даже простому недоумению – за что? В мозгу сидела лишь одна безумно радостная мысль: «Сейчас я лягу спать и буду спать сколько мне угодно, сутки, двое, трое суток!..»
Быстро спустившись к себе в каюту, я достал свою саблю и понес ее Арамису[82]82
У арестованного офицера отбирается его сабля, которая на корабле хранится в каюте старшего офицера, пока длится арест. – Авт.
[Закрыть]. Он был у себя, когда я, постучавшись, вошел к нему в каюту. Увидев меня с саблей в руке, он выразил на своем лице глубочайшее изумление.
– Я арестован командиром, Константин Леопольдович, – сказал я, протягивая ему саблю.
Арамис еще более вытаращил на меня глаза и, лишь после долгой паузы и как-то нерешительно, проговорил:
– Хорошо-с. Поставьте саблю сюда, в угол, и отправляйтесь к себе в каюту.
Недоумение Арамиса мне было вполне понятно, ибо арест офицера в условиях нашего плавания был полнейшим абсурдом. Это было уже не наказанием, а скорее наградой. Обычно главная неприятность ареста, оставив в стороне чисто моральную сторону наказания, заключалась в лишении офицера возможности съезда на берег. В то время же мы берега и так не видели; зато арестованный освобождался от непрерывной и днем и ночью работы и вахтенной службы и мог отдыхать и спать сколько душе угодно.
Этот случай ареста офицера был первым на нашем корабле. Его абсурдность и полная беспричинность ясно говорили, что в психике переутомленного и до крайности изнервничавшегося командира не все обстояло благополучно. По-видимому, эти мысли и бродили в голове Арамиса, когда он с таким недоумением и как будто даже растерянностью принимал саблю. Я же сам в то время об этом мало задумывался.
В мгновение ока я был уже у себя в каюте, и, раздеваясь, чтобы лечь в койку, вел следующий разговор с моим сожителем, мичманом Шупинским:
– Ты что же это раздеваешься? – удивленно спросил он меня: – Ведь через полчаса съемка с якоря.
– Это ты будешь сниматься с якоря, а я буду спать.
– Что это значит? Ты с ума сошел?
– Кто то, по-видимому, сошел с ума действительно, только не я.
– Да объясни же, черт возьми, что все это значит?
– Это значит, что я арестован, вот и все.
Мой Андрей даже подскочил от изумления на своей койке, на которой он сидел, болтая ногами.
– Не может быть! С пикой?[83]83
«С пикой» – на мичманском жаргоне означает «с приставлением часового». В случае серьезного проступка к каюте арестованного офицера приставляется часовой с ружьем. – Авт.
[Закрыть]
– Не знаю. Это меня совершенно не интересует.
– Но за что же все-таки тебя вонзили?
– А это я тоже не знаю, и в данный момент, откровенно тебе говоря, это меня также не интересует.
Андрей некоторое время молча смотрел на меня, как бы что-то соображая, и вдруг в сердцах сплюнул и громко выругался.
– То есть черт знает, как тебе везет! Недаром я всегда говорил, что ты феноменального счастья человек! Нет, как вам это понравится: мы будем стоять вахты, грузить уголь и прочую дрянь, ходить в дозоры, а ты будешь дрыхнуть.
– Да уж в этом не сомневайся, – сказал я, вытягиваясь с наслаждением на койке: – Скажи, голубчик, вестовому, чтобы разбудил меня в 11 часов и принес бы мне обедать в каюту. И – кланяйся там, на вахте, нашим…
Дальнейших гневных реплик моего сожителя я уже не слышал, так как спал уже сном младенца. В обеденный час меня с трудом добудился вестовой. На столе моей каюты был накрыт для меня прибор. Я вскочил с койки в самом благодушном настроении духа. Подойдя к иллюминатору, выглянул наружу. Мы были уже в открытом море, но эскадра стояла с застопоренными машинами. «Должно быть, у кого-нибудь произошла какая-нибудь поломка», – подумал я, увидев эту столь обычную на походе картину. В иллюминатор мне были видны некоторые из кораблей нашей эскадры с поднятыми под самые реи конусами[84]84
Знак, что у корабля застопорена машина. – Авт.
[Закрыть]; у некоторых из предохранительных клапанов травился пар – видимо, эскадра только что перед тем застопорила машины.
Вдруг среди столь привычных силуэтов судов нашего отряда я увидел один, который не сразу смог распознать в том ракурсе, в котором корабль этот был к нам повернут; его медленно разворачивало течением, и наконец я увидел стройный силуэт красавицы «Светланы» – крейсера из отряда адмирала Фелькерзама. Зашедший в это время в каюту Шупинский сообщил мне, что мы только что встретились в море с высланными, по-видимому, нам навстречу адмиралом Фелькерзамом «Светланой» и двумя миноносцами.
– Чего же мы стоим?
– Транспорты берут миноносцы на буксир.
Наскоро пообедав, я снова принял горизонтальное положение, и прежде чем эскадра дала ход машинам, вновь спал глубоким сном. Когда я проснулся в следующий раз, было уже темно. Надо мной стоял вестовой и предлагал мне поужинать. Ужин занял еще меньше времени, нежели обед, и перерыв в моем непробудном сне оказался поэтому еще короче, нежели днем. Был снова яркий солнечный день, когда меня разбудил громкий стук в двери моей каюты.
– Войдите! – крикнул я весело, но лицо мое сразу же приняло серьезное выражение, когда в дверях каюты показалась фигура Арамиса. Усы его гневно шевелились и глаза метали молнии.
– Что это значит, – ледяным тоном спросил он меня: – почему вы не на вахте?
– Я не имею права выходить из каюты, Константин Леопольдович, ведь я же арестован.
– Все это ваши фантазии, – гневно перебил он меня, – никто и не думал вас арестовывать. Немедленно же извольте одеваться и вступить на вахту, – прибавил он и вышел, сердито хлопнув дверью.
Быстро одеваясь, – тропический туалет в море так несложен, – я понимал во всей этой истории только одно, что прошли веселые дни Аранжуэца, и даже не дни, а всего один, коротенький денек.
Командир был на мостике, когда я поднялся туда, чтобы сменить мичмана Бубнова. Завидев меня, Юнг подошел ко мне и, протягивая мне руку, сказал мягким тоном:
– Вы меня не поняли: я вас лишь предупредил, что за подобный проступок я вас арестую… в следующий раз. А вы взяли, да сами себя и арестовали. Ну, как же ж можно… – прибавил он укоризненным и вместе с тем ласковым тоном свою любимую фразу – «Ну, как же ж можно».
Пожав молча протянутую мне руку, я почел за лучшее не спрашивать его, какой именно поступок он имел в виду, и инцидент был исчерпан.
Опять потянулись для меня серые будни, хотя день этот отнюдь не был ни серым, ни будничным: календарь в кают-компании яркой красной цифрой показывал 25 декабря, а с безоблачного неба ослепительно сверкало жгучее африканское солнце, от жестоких лучей которого спасалось и укрывалось все живое.
К входу в Nossi-Be мы подошли лишь к вечеру следующего дня и, проведя ночь в море, чтобы не входить в темноте на незнакомый рейд, соединились с отрядом контр-адмирала Фелькерзама лишь утром 27 декабря. С этого дня началось наше долгое и изнурительное «носибейское стояние», продолжавшееся два с лишком месяца. Истинных причин столь долгого пребывания нашего в этом гиблом месте в то время никто, конечно, кроме самого адмирала Рожественского и нескольких лиц его штаба, не знал.
За это время эскадра несколько раз готовилась к походу: на корабли рассылались подробные диспозиции походного строя эскадры, порядок погрузки угля с транспортов в океане, корабли принимали полный запас провизии, воды и угля. Но затем дни шли за днями, а мы все еще продолжали оставаться в этом действительно горячем уголке земного шара.
В этом убийственном для европейца климате даже выносливость русского человека начинала сдавать. Появились случаи теплового удара, случаи, кончавшиеся обычно смертью. Редкий день проходил без того, чтобы в море не выходил дежурный миноносец с приспущенным флагом: мы хоронили своих покойников в море. Людей изнуряла не столько жара, сколько ужасающая влажность воздуха. Трудно было даже сказать, какие дни были хуже – солнечные или пасмурные, когда легкие вместо воздуха вбирали в себя буквально одни лишь водяные пары. Конечно, на эскадре сохранялось в полной силе «полярно-тропическое» расписание и работы и учения шли полным и непрерывным ходом.
От долгого ли пребывания на одном и том же месте, от монотонности ли рейдовой жизни, или же, наконец, от этого убийственного климата, но мадагаскарские воспоминания сохранились у меня в памяти какими-то отдельными обрывками, без какой-либо хронологической связи.
Одним из крупных событий на борту моего корабля, вскоре же после нашего прихода в Nossi-Be, была серьезная болезнь нашего командира и временное вступление в командование кораблем капитана 1-го ранга Клапье де Колонга.
Был один из тех, уже упомянутых мной периодов усиленного приготовления к походу. По приказанию адмирала были посланы команды с больших кораблей для перегрузки угля с тех германских пароходов, на которых его оставалось уже мало, на наши транспорты. Моему броненосцу досталась задача грузить пароход Добровольного флота «Киев», и я был командирован с нашей командой для производства этой операции, причем мне пришлось пробыть в отсутствии более суток. Когда я вернулся на свой корабль, то сразу же заметил, что за время моего отсутствия на броненосце произошло что-то серьезное: в кают-компании царило какое-то подавленное настроение, офицеры собирались к вечернему столу сумрачные и насупившиеся, пианино молчало.
– В чем дело? – спросил я Шупинского.
– Как, ты еще не знаешь? Да ведь час тому назад увезли на госпитальный «Орел» нашего командира. Представь себе, выскакивает он вдруг сегодня на палубу и начинает благим матом кричать на Арамиса и вахтенного начальника: «Что вы делаете! Ревет шторм, а у вас все шлюпки на воде! Ну как же можно! Да подымайте же их немедленно!» – Схватился затем за голову и давай биться ей об рубку. А кругом – мертвый штиль, тишь, гладь, да Божья благодать… Довел таки себя до галлюцинаций! Я уж и не знаю, как удалось Гавриле Андреевичу уговорить его пойти вниз, а час тому назад Македонтович[85]85
Николай Македонович Марков – наш второй судовой врач. – Авт.
[Закрыть] повез его в госпитальный «Орел».
– Когда же уберут наконец от нас Титова? Ведь от одних его криков можно сойти с ума! Помилуй Бог, скоро уж два месяца, как мы таскаем его с собой на броненосце, – сказал я.
– Мне говорил Македонтович, что командир наш ездил в штаб и так и заявил адмиралу, что если, мол, от нас не уберут Титова, то он не ручается, что на его корабле начнут сходить с ума другие. Ты не думай, что это не заразительно. Да, легко сказать: убрать. Куда его уберешь?
Но вскоре судьба сжалилась и над нами и над несчастным Титовым, которого действительно некуда было девать, так как пассажирские пароходы продолжали категорически отказываться брать такого пассажира для доставки его в Европу или хотя бы в ближайший крупный порт, где можно было найти больницу для душевнобольных. Во время нашей стоянки на Мадагаскаре адмирал решил отказаться от услуг причинявшего нам постоянно массу хлопот нашего калеки-транспорта «Малайя», приказал разгрузить ее, а ей самой приготовиться к возвращению в Россию. Когда транспорт был готов к уходу, адмирал приказал отправить на него всех подлежащих отправке на Родину, главным образом хронических и душевнобольных, которых на эскадре к тому времени набралось уже несколько человек. В их число был включен и наш беспокойный пассажир – прапорщик Титов. Отправляя его на «Малайю», наши бессердечные мичмана не без ехидства зубоскалили, что если на этом транспорте таких пассажиров наберется хотя бы с десяток, то командиру его, без сомнения, предстоит самое веселенькое плавание, которое только можно себе представить.
Что касается нашего командира, то врачи госпитального «Орла» определили сильнейшую неврастению на почве общего переутомления, предписав ему, одновременно с соответствующим лечением, полнейший покой и отдых. Н.В. Юнг остался на госпитальном судне, а на время его болезни временно командующим нашим броненосцем, приказом адмирала, назначен был начальник его штаба капитан 1-го ранга Клапье де Колонг.
Впрочем, нашего нового командира мы почти не видели. Пока корабль стоял на якоре, он у нас даже не показывался, предоставив распоряжаться всецело Арамису.
За этот период времени эскадра наша несколько раз выходила в море на практическую стрельбу. И вот когда нужно было сниматься с якоря и идти в море, у нас появлялся Клапье де Колонг, отправлявшийся к себе на «Суворов» немедленно же по возвращении нашем на рейд. Это был человек совершенно иного характера, нежели наш командир, в чем мы имели случай убедиться в первый же наш выход в море.
Одновременно со стрельбами адмирал пользовался нашими выходами, чтобы упражнять корабли в производстве эволюций. И вот, во время какого-то сложного перестроения, «Ослябя» едва-едва не протаранил нашу корму. Увидев несущийся большим ходом прямо нам в корму броненосец, когда у присутствующих на мостике захватило уже дух в ожидании казавшегося неизбежным столкновения, наш новый командир таким спокойным тоном, не повышая ни на йоту своего ровного голоса, скомандовал – «Лево на борт, самый полный вперед», – что сразу завоевал наши симпатии и восхищение.
Мы отнюдь не сомневались, что и наш Николай Викторович также с честью вышел бы из опасного положения, но это стоило бы и ему и его окружающим такой серьезной встряски нервов, что об этом у нас толковали бы целый день. Влетело бы всем: и вахтенному начальнику, не доложившему вовремя, что «Ослябя» идет быстро нам на сближение, и вахтенному офицеру, которому не вахту править, а ворон ловить, и рулевому – за то, что вяло кладет руля на борт, и даже вахтенному механику – за то, что машина не так быстро дала самый полный, как то следовало в такой момент.
Что касается нашей артиллерийской стрельбы, то сам Господь Бог избавил нашего первого больного командира от присутствия на этом зрелище. Это было бы таким жестоким испытанием для его больных нервов, что если бы до этого ему еще не было бы необходимости в лечении, то после первой же нашей стрельбы ему неминуемо потребовался бы госпиталь. Да и можно ли было ожидать иного? Корабль, укомплектованный в большинстве новобранцами и запасными, стрелял в первый раз в своей жизни! Мы себе ясно представляли, что должен был испытывать наш бедный адмирал, сам прекрасный артиллерист, бывший до войны начальником Учебно-артиллерийского отряда, при виде такого искусства в стрельбе эскадры, которую он вел в бой, и с кем же? С противником, неизмеримо сильнее его, натренированным в боях с нашей Первой эскадрой, которая по своей подготовке была не чета нашей; с противником, окрыленным победой и защищающим берега своей Родины!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































