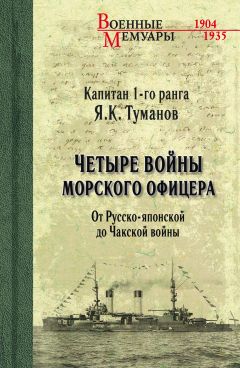
Автор книги: Язон Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
– Ничего не понимаю! – изумился адмирал. – Кто же в таком случае был у меня только что в кабинете?
– Как, ваше превосходительство? Разве вы ее не знаете? Ведь это же была начальница Одесского института княгиня Нарышкина.
На этот раз даже бронзовое от никогда не сходящего загара лицо адмирала умудрилось побледнеть.
– Какого же черта вы не предупредили меня, что это – княгиня Нарышкина, когда докладывали о ее приходе? – закричал в бешенстве он.
– Да вы же сами меня прервали, – обиженным тоном заявил чиновник, – и, когда я начал вам докладывать, сказали, что знаете, приказав пропустить ее к вам.
– Да, вы правы… – упавшим голосом проговорил старик и после короткой паузы прибавил: – Пошлите скорее ко мне наверх курьера сказать моему человеку, чтобы приготовил мундир, эполеты, ордена, одним словом – полную парадную форму. Я сейчас поднимусь.
– А как же быть с госпожой Блохман?
– С Блохман? К черту! Гоните ее в шею!
Чиновник повернулся, чтобы уйти.
– Слышите? Гоните ее в шею! – закричал градоначальник с новым приливом бешенства, хотя чиновника уже не были в кабинете.
Через полчаса адмирал Грин в полной парадной форме, с лентой через плечо, сияя золотом эполет и эмалью орденом, подъезжал к высокому старинному, с колоннадою зданию института. Выбежавшему из подъезда представительному, похожему на важного чиновника швейцару он передал свою визитную карточку для передачи начальнице института и с волнением стал ожидать приглашения войти.
Но беспокойство его оказалось напрасным: вернувшийся через минуту швейцар почтительно доложил, что княгиня Нарышкина нездорова и принять адмирала не может…
IV
Министр двора, высокий сухой старик с породистым лицом, с длинными пушистыми усами, в генерал-адъютантском сюртуке доканчивал свой доклад императору.
– Есть у вас еще что-нибудь, граф? – спросил государь, когда министр, получив резолюцию на последней поданной бумаге, укладывал ее в свой портфель.
– Не знаю, Ваше Величество, как и доложить вам об одном чрезвычайно странном происшествии, о котором меня уведомили сегодня из Ведомства учреждений Императрицы Марии. Дело касается нашего одесского градоначальника адмирала Грина.
– В чем же дело-то? – заинтересовался государь.
– Происшествие, Ваше Величество, такое странное, что я склонен думать, что старик Грин в Одессе серьезно заболел умственным расстройством. В Ведомстве учреждений Императрицы Марии получено донесение начальницы одесского института княгини Нарышкиной, в котором она жалуется, что адмирал Грин угрожает выслать в 24 часа из Одессы ее, всех ее институток, а самый институт разнести по камешкам.
– Что за чепуха! – воскликнул государь. – Не сошла ли с ума сама княгиня Нарышкина? Не дальше, как вчера, у меня на докладе министр внутренних дел не мог нахвалиться одесским градоначальником за то умение, быстроту и такт, с которыми ему удалось ликвидировать там забастовку рабочих! Я не сомневаюсь, что тут кроется какое-то чудовищное недоразумение.
– Но как быть с княгиней, Ваше Величество? Она грозит прошением об отставке, если адмирал Грин будет продолжать градоначальствовать в Одессе.
– Подождите немного, – сказал государь, – я сейчас переговорю с министром внутренних дел.
Через минуту император держал у уха телефонную трубку:
– Я ни минуты не сомневался, что тут какое-то чудовищное и глупое недоразумение, – сказал он в трубку. – Благодарю вас, Петр Аркадьевич. Я думаю, что нам не будет стоить большого труда уладить этот конфликт. До свидания.
Государь повесил трубку.
– Ну вот, – повернулся он к министру двора, – как я и думал, тут произошло глупейшее недоразумение. Министр внутренних дел только что получил от самого Грина письмо, в котором он подробно излагает всю эту историю. Оказывается, адмирал, не зная в лицо княгиню Нарышкину, принял ее за какую-то Блохман, содержательницу тамошнего притона, которую он вызвал к себе специально для разноса за очередной скандал, и по ошибке вместо этой самой Блохман разнес княгиню. Ну, вы нашего адмирала знаете и можете, конечно, себе представить, что он там наговорил бедной княгине. – Государь снова весело рассмеялся. – Хуже всего в этой истории то, что княгиня так обиделась, что когда после ее отъезда недоразумение разъяснилось, и адмирал поспешил к ней, чтобы объясниться и принести свои извинения, то она не пожелала его принять. Но мы это поправим. Я совсем не желаю из-за какой-то там Блохман лишаться такого градоначальника, как адмирал Грин, или такой начальницы, как княгиня Нарышкина.
Государь на некоторое время задумался и, нахмурившись, уставился в одну точку стола. Но вскоре лицо его вновь просветлело, и он прибавил:
– Вот что, граф: напишите адмиралу письмо и попросите его еще раз съездить к княгине с извинениями, прибавив, что вы уверены, что теперь она, наверное, его примет. Одновременно напишите и княгине и скажите ей, что мне известна вся эта печальная история, что я выражаю ей свое сочувствие и прошу ее принять адмирала, выслушать его объяснения и, поняв старика, простить его.
Происшествие на острове Нукагива
I
Висели эти черные мраморные доски в старой церкви Морского корпуса в память Павла Исповедника, с лаконическими надписями даты, имени и фамилии бывшего питомца этого гнезда Петрова и обстоятельства, при котором он отдал жизнь за веру, царя и отечество.
Много их накопилось, этих досок, за более чем двухвековую жизнь этого гнезда. Все стены церкви были ими увешены. Тускло поблескивали золотом при мерцающем свете неугасимых лампад эти надписи, и за лаконизмом каждой из них скрывались драма и когда-то обильно пролитые человеческие слезы. Были имена, по которым некогда плакала вся Россия, как Нахимов, Корнилов, Истомин, но большинство – мало кому ведомые Петровы и Ивановы, по которым плакали в глухих дворянских гнездах где-нибудь в Тамбовской или в Тульской губерниях, или в скромных домиках Васильевского острова и Петербургской стороны. Косточки их давно начисто обглоданы лакомыми до человеческого мяса обитателями морских глубин всех широт и долгот, закрылись навсегда и плакавшие когда-то по ним глаза, и лишь черные доски на стенах церкви Морского корпуса напоминали о тех, кто душу свою отдал за други своя.
Где только и при каких только обстоятельствах не гибли русские моряки! То в одиночку, то группами, а то и целыми кораблями, то в сражениях, в громах войны, то в мирное время, на не менее страшных, нежели неприятельские пушки, рифах и отмелях.
Вот список всего офицерского состава клипера, без вести пропавшего в Индийском океане. Вот, тоже, линейного корабля, взлетевшего на воздух от удара молнии па Кронштадтском рейде. А там, дальше, другой корабль, разбитый в ненастную осеннюю ночь бурунами на страшных отмелях Скагеррака. Вот единственный офицер, он же и командир тендера «Струя», пошедшего ко дну на новороссийском рейде, в страшную зимнюю пору, под тяжестью нараставшего на нем льда, после отчаянной борьбы за спасение человеческих жизней и корабля.
Это была страшная и трогательная гибель!
В глуши тамбовского имения недолго после этого происшествия смеялись глаза на милых лицах женщин в чепцах и ребронах, ибо скоро, по тогдашнему времени, дошла туда страшная весть о гибели «Струи» со всем своим экипажем: тендер был поднят со дна неглубокой бухты сейчас же, как только стихла буря. На его палубе лежала небольшая группа примерзших друг к другу тел. Кое у кого в руках были топоры и ломы, которыми они обрубали и скалывали лед. В этой группе, на самом низу, лежало тело командира; на нем лежал матрос, видимо, желавший прикрыть своим телом от ледяного дыхания боры и согреть упавшего в изнеможении и коченеющего от невыносимого холода своего капитана.
Мне нигде не приходилось встречать имени этого серого героя. Оно не поблескивает золотом ни на какой доске, ибо на этих незаметных героев старой Христолюбивой России было бы не напастись ни мраморных досок, ни свободных мест на стенах церквей. Но они записаны там, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий, у Того, кто сказал – «больше сея любви никто же имат, да кто душу свою положит за други своя…»
А вот, страшная своей лаконической простотой надпись на 5-й доске: «На шлюпе “Кроткий” 1826 г. 16-го Апреля Мичман Адольф фон-Дейбнер убит и съеден дикими на острове Нукагива».
И рука, сама, поднимается для крестного знамения при чтении этой короткой надписи.
Когда я прочел ее впервые, то долго стоял перед этой доской, перечитывая ее как бы в оцепенении, забыв и «Фершампенуаза», и «Александра Невского», и «Пластуна», и даже тендер «Струя»… И долго в ту ночь ворочался я на жесткой кадетской койке, думая о мичмане Адольфе фон Дейбнере и рисуя себе во всех подробностях страшное происшествие на острове Нукагива в 1826 году…
II
В небольшом деревянном доме, с палисадником, на углу Среднего проспекта и 17-й линии Васильевского острова, занимаемом отставным капитаном 1-го ранга фон Дейбнером, в крошечной, уютной гостиной, с низкими потолками, в глубоком кресле, сидит пожилая женщина в темном платье, с чепцом на голове, из-под которого свисают по обе стороны лица букли темных волос с просвечивающими в них серебряными нитями. Подле нее на низкой скамеечке сидит молодой моряк, на верхней губе которого чуть пробивается рыжеватый пушок. Светлые волосы на голове зачесаны по моде двадцатых годов прошлого века, с высоко взбитым коком надо лбом и с зачесом на виски. На макушке по-мальчишески торчит непокорная прядь, а сзади за невысокий воротник уходит вниз еще детская косичка. Моряк держит на растопыренных пальцах, широко расставив руки, моток шерсти, с которого пожилая дама наматывает клубок. В переплет низких окон сквозь тюлевые занавески проникают лучи невысокого солнца петербургской ранней весны и бросают яркие блики на блещущий чистотой крашеный деревянный пол гостиной. Дверь в соседнюю комнату открыта, и виден стол, покрытый чистой белой скатертью, на котором установлены три обеденных прибора. Оттуда доносится веселое чириканье канарейки.
– Что это, твой родитель нонче как запаздывает, – говорит дама, распутывая захлестнувшую на клубке петлю, – у Феклуши, поди, на кухне, все уже пережарилось да перепарилось.
– Да, пора бы, маменька, и за стол. У меня, признаться, аппетит такой уже, что быка бы целого съел!
– Не иначе как твой родитель встретил опять какого-нибудь старого друга-приятеля, зашли в ресторацию, да и пошли вспоминать свою эскадру сенявинскую, да всякие там Дарданеллы да Афоны. Сколько уж тому лет прошло, а все забыть не может. А то, что дома жена и дитя голодные сидят, о том он не подумает.
– Ах, маменька, как вы это можете говорить, чтобы забыть такие дела, коим папенька не токмо были свидетелем, но и прямой участник. Коли бы мне довелось увидеть то, что повидали папенька, то поколику бы я себя счастливым считал, что и сказать вам не могу!
– Не спеши. Куда спешишь-то? Давно ли из коротких штанишек вылез, а туда же, в баталии стремишься, – сердито ответила мать.
– Какие уж теперь, маменька, баталии, – с грустью возразил моряк, – у нас, поди, и кораблей-то не осталось! Коли что построят, то и эти держат в Кронштадте, на привязи, пока не сгниют. Не то что сражаться, а и плавать не на чем! Разве нынче похоже на то, что было при императоре Павле Петровиче, а уж про царицу Екатерину Великую я уж и не говорю. Нынче мы не плаваем на кораблях, а кораблями торгуем. Почто мы испанцам десять фрегатов продали? Папенька говорили, что таких фрегатов в мире больше не найти было!
– Коли продали, то, значит, и нужно было продать. Не тебе государя учить, как ему поступать, да что делать, – возразила мать.
– Я и не учу, маменька, а сожалею. А могу ли я, примерно, не сожалеть адмирала нашего Дмитрия Николаевича Сенявина? Вы знаете, что мне давеча говорил Баратынский?
– Какой такой Баратынский?
– А есть у меня товарищ такой, одного выпуска из корпуса.
– Что же он такое говорил тебе?
– А говорил он мне, что своими глазами видел Дмитрия Николаевича, как тот шел по 8-й линии, в рваном госпитальном халате, бичевой подпоясанном, да как подошел к нему какой-то чиновник, должно быть из портовых, да и сунул ему в руку некую ассигнацию. Ведь это что же? Ведь это же выходит, что наш знатный адмирал, победитель турок и французов, подаянием побирается?
– А ты бы о таких вещах помалкивали бы. Сходи-ка лучше, да погляди на улицу, не идет ли родитель? И, коли не видно, то поди на кухню, да скажи Феклуше, чтобы дала тебе чего-нибудь перекусить, чтобы червячка заморить. Не то ты у меня и вовсе отощаешь.
Моряк положил на колени матери моток шерсти, поднялся, расправляя спину и потягиваясь всем своим стройным станом, и, лениво зашагал к передней. Через минуту, послышался его радостный голос:
– А вот и папенька идут, да еще как поспешают!
– Феклуша, сейчас будем обедать, барин идут! – крикнула дама, подымаясь с кресла и убирая мотки шерсти.
В передней хлопнула дверь, и до слуха госпожи Дейбнер донесся густой бас мужа, что-то рассказывающего сыну, и радостный возглас молодого Дейбнера:
– Да неужто же, папенька? Вот счастье то!
– Чем это ты порадовал сына? – спросила госпожа Дейбнер мужа, когда он вошел в гостиную, потирая покрасневшие на свежем воздухе руки. На старике Дейбнере был надет флотский сюртук с широкими отворотами. Чисто пробритый подбородок, обрамляемый седыми бакенбардами, подпирался крахмальным воротником, который почти закрывал подвязанный замысловатым узлом широкий черный галстук.
– А тем, мать моя, я его порадовал, что удалось-таки мне устроить его в заграничный вояж и будет сын наш плавать не на ялике по Мойке да Фонтанке, а на корабле Его Величества по морям да окиянам.
На лице матери не отразилось никакой радости. Она печально посмотрела на оживленное и веселое лицо выглядывавшего из-за спины отца сына и глубоко вздохнула.
– Нашел, чему радоваться, – проговорила она после короткой паузы, – родного сына из дому выгоняет.
– Да ты в своем ли уме, мать моя? На кой черт, скажи на милость, сын наш Морской корпус кончал? Чтобы у твоей юбки сидеть, что ли?
– Да куда спешишь-то? Аде нашему только-только осьмнадцать годков стукнуло. Что ж ты думаешь, что не успеет он по твоим окиянам наплаваться?
– Э, матушка, брось ты эти бредни, сделай милость! Предки мои, а значит, и предки сына нашего, были викингами, и негоже потомку викингов у женской юбки сидеть, хотя бы и материнской. Это твои предки с испокон веку в Тамбовской губернии свиней разводили да цветочки сажали, вот ты и не любишь моря. И, Богом тебя прошу, не отравляй ты нашей радости. Ну а ты доволен? – обернулся он к сыну.
– Уж так доволен, папенька, что и сказать вам не могу, – отозвался мичман, и, вдруг, взглянув в полные слез глаза матери, сконфузился и покраснел. – Конечно, мне очень грустно видеть сокрушение маменьки…
– Это уж, брат, ничего не поделаешь. Маменьки, они без сокрушений жить не могут. Такова уж их горькая доля, – засмеялся старик.
– Ну, будет, – обнял ее старик. – Я, ведь это так, пошутил. Что ж ты думаешь, мне не грустно будет с сыном расставаться? Да ничего, мать, не поделаешь. Подрос птенец, все равно в гнезде не удержишь. Идем-ка лучше обедать, я страсть как проголодался, по штабам да министерству бегая в поисках Беллинсгаузена.
На скромно убранном обеденном столе из поданной Феклушей суповой миски столбом валил вкусный пар от горячих щей. Старик налил себе большую серебряную стопку водки и, пока жена разливала по тарелкам щи, медленно выцедил ее и не спеша закусил соленым рыжиком из стоявшего на столе глиняного горшочка.
– Что же ты ничего не рассказываешь? – обратилась к нему жена. – Куда, на чем и когда пойдет плавать Адя?
– Погоди, дай сначала червячка заморить. Все расскажу по порядку.
Он принялся за щи и, покончив с ними, вытер салфеткой усы и начал рассказывать:
– Иду, это, значит, я сегодня утром по Невской перспективе и вдруг нос к носу встречаюсь с Матюшиным. Помнишь его? Мы с ним вместе под Афоном турецкий порох нюхали. Ну, то да се, давно ведь не видались. Разспрашивает меня, как поживаю. Я и говорю, все, мол, хорошо, живу себе, Бога не гневаю, здоровьем Бог не обидел, хоть опять на палубу. Да где, говорю, нам о палубах думать, когда нынче и молодежи-то плавать не на чем. Вот, говорго, сын из корпуса вышел, а плавает на Фонтанке. Хоть гусей посылай пасти. А он мне и говорит: А почто ты Беллинсгаузена не попросишь? У какого, говорю, Беллинсгаузена, не нашего же? Его самого, говорит. А был у нас такой офицер, плавал он у нас на «Твердом», в пятом году, у меня же под вахтой. А что, говорю, он может сделать? Как, говорит, что? Да он теперь шишка, назначен начальником экспедиции и в кругосветный вояж готовится. Да что ты, говорю, да где мне его поймать? И вот, узнав от Матюшина, что Беллинсгаузен в Питере и не иначе, как болтается в министерстве, кинулся я туда. Ну, его не так-то легко было достукаться! Битых два часа ожидал его, пока дождался. Все у министра сидел. Ну, тут я его за жабры. Признаться, побаивался, – не возгордился ли часом? Помилуй Бог, начальник экспедиции! С министрами совещается! Поди, со своим бывшим вахтенным начальником и разговаривать не пожелает. Ну, и ничего подобного. Встретил, как родного. Афонский-то порох не забывается, да и сенявинская спайка тоже чего-нибудь да стоит! Я ему и говорю: – Слышал, что ты в большой вояж собираешься, начальником экспедиции. А у меня, говорю, сын, молодой моряк, да вот беда, что по Фонтанке плавает. Нет ли говорю, у тебя какой, хоть завалящей вакансии? Парень, говорю, он хороший и в Корпусе учился знатно и поведения был отменного. А он мне и говорит: – Как же это может быть, чтобы для твоего сына у меня да и вакансии бы не нашлось? Как раз, говорит, заболел у меня мичманок на шлюпе «Кроткий», и пришлось списать его. Вот и давай, говорит, мне, сына твоего на его место.
– А как скоро ему являться-то надо? – спросила тихим голосом мать, и глаза ее снова наполнились слезами.
– Торопит. Только и дал неделю сроку на сборы. Да оно и лучше, долгие проводы – лишние слезы.
III
Шлюп «Кроткий» второй уже год бороздит моря и океаны.
Мичман Адольф фон Дейбнер, оставаясь самым младшим офицером корабля, уже давно перестал быть желторотым птенцом. Он многое уже повидал и не менее того испытал. Его лицо, на котором упорно не желают расти усы и борода, и которое все еще покрыто юношеским пухом, сильно загорелое в тропиках, уже не принимает бледно-зеленого оттенка, а содержимое желудка не вытравливается за борт, когда шлюп, со спущенными брам-стеньгами, под глухо зарифленными марселями, сильно накренившись и отряхиваясь как утка от вкатывающих на его палубу верхушек волн, скрипит всеми своими скрепами, переваливаясь на бегущих бесконечной чередой валах, гонимых свирепым ветром. Заунывная песня в снастях, заводимая тем же неугомонным ветром, уже не наводит на него в темные ночи смертельную тоску, когда, казалось бы, отдал полжизни, чтобы очутиться рядом с высокой женщиной с седеющими буклями на красивом лице, закутанной в теплый оренбургский платок, сидящей у поющего совсем другую песенку самовара, в уютной столовой деревянного домика, на углу 17-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова.
У него уже не уходит душа в пятки, когда в свежую погоду командир шлюпа, расставив фертом ноги, заложив руки в карманы полупальто и глядя куда-то вверх, задрав голову, кричит:
– Мичман Дейбнер, живо, на фор-марс! Посмотрите, чего это там марсовые копаются, как вши на мокром пузе?!
И мичман Дейбнер, взобравшись на фор-руслени, идет по уходящим из-под ног выбленкам на фор-марс, поминая мысленно царя Давида и всю кротость его.
Все эти страхи уже позади, как давно осталась позади страшная Бискайка, в которой впервые шлюп «Кроткий» выдержал жестокую трепку: когда маленький деревянный кораблик под одним стакселем и штормовой бизанью в течение пяти суток боролся с разъяренной стихией на виду все того же маяка Финистерре, точно не будучи в состоянии от него оторваться; когда от страшных ударов волн корпус «Кроткого» скрипел жалобно, точно умоляя не бить его так жестоко: когда по палубе ходила вода, не успевавшая выливаться через шпигаты, и грозила смыть за борт всякого, упустившего из рук протянутый штормовой леер; когда и команда и офицеры питались лишь ржаным сухарем, размоченным в воде, чтобы его могли раскусить даже молодые зубы[181]181
Так в тексте. – Сост.
[Закрыть].
Остался позади и сказочно красивый, солнечный остров Мадера, с водой такой синевы, точно в море кто-то напустил синьки, и такими голубыми небесами, точно смотришь на них не в натуре, а на картинке, точь-в-точь такой, какая висит у папеньки в кабинете и на которой изображен корабль «Твердый» на рейде острова Корфу. Там, на Мадере, впервые мичман Дейбнер уж показал себя бравым моряком при приставании к берегу на шлюпке в бурунах. Проделал он все в точности, как было написано в учебнике морской практики. Было немного жутко, но все сошло отменно хорошо.
Позади ласковый, ровный и теплый пассат, подгонявший шлюп, который бежал, как резвая лошадка по накатанной дороге, когда на вахте только и было дела, что погуливать по палубе, да поглядывать на красиво вздувшиеся паруса, любоваться синими небесами, на которых, как клочки ваты, белели пятнами высокие облачка, слушать урчание воды в кормовой струе и любоваться стайками летучих рыбок, веером выскакивающих из-под форштевня «Кроткого», или следить за эволюциями дельфинов, плывущих с кораблем наперегонки и выскакивающих от времени до времени из воды, точно желая посмотреть, не отстает ли это удивительное сооружение рук человеческих.
Позади, в далеких уже воспоминаниях, остался и оживленный Кейптаун, где с утра и до вечера на набережной, где неподалеку стоял на якоре «Кроткий», толпился народ, приходивший поглазеть на щегольской кораблик под странным белым флагом с синими, накрест, полосами, с экипажем, говорящем на неведомом языке, в котором не услышишь ни одного слова ни английского, ни голландского. Там, среди рыжеволосых англичан и флегматичных голландцев в широкополых шляпах и с глиняными трубками в зубах, шныряли зулусы и бушмены, от вида которых у кухарки Феклуши, без сомнения, приключился бы родимчик. В Кейптауне, на парадном обеде, данном губернатором в честь русских моряков, свежая как роза, красивая как ангел, в белом платье, с высокой талией, подпоясанной под самой едва обрисовывающейся грудью широкой розовой лентой, в красиво обрамляющих юное лицо белокурых буклях, губернаторская дочка ласково смотрела на пригожего русского мичмана и звонко хохотала над грубыми ошибками его английского языка.
У мыса Доброй Надежды, в лунную ночь, стоя на вахте, мичман фон Дейбнер не без опаски посматривал вдаль, в ту сторону, откуда тянулась лунная дорожка, не появится ли там, вдали, в нежном полусумраке, высокий рангоут летучего голландца. Он знал, что летучий голландец облюбовал эти воды и обычно показывался морякам именно здесь, у мыса Доброй Надежды.
Далее был бесконечно долгий переход через всю ширь Индийского океана, когда, в конце концов, мичману Дейбнеру стало казаться, что земная твердь провалилась куда-то в тартарары, на земном шаре осталась только морская гладь, а шлюп «Кроткий» превратился в летучего голландца, обреченного блуждать по океанам до Страшного суда.
О красотах Батавии он рассказал своей маменьке в длиннейшем письме, отправленном с голландским барком, поднявшим якорь для следования в Европу вскоре после прихода «Кроткого» на Яву.
Там долго стоял русский корабль, обтягивая ослабевший за долгий переход такелаж и конопатя палубу, рассохшуюся под горячими лучами тропического солнца.
А вот уже воды третьего океана омывают борта «Кроткого», таинственного Тихого океана, хранящего у себя еще много не разгаданных белым человеком чудес. В разгадке этих загадок и заключалась цель экспедиции Беллинсгаузена. Когда шлюп «Кроткий» вернется в родные воды, к прославленным уже именам русских моряков Дежнева, Беринга, Чирикова, Крузенштерна, Коцебу, Лисянского прибавится имя Беллинсгаузена, на карте Великого океана появятся новые, открытые им острова и запестреют их очертаниями белые до него места на географических картах, а цивилизованный мир еще раз узнает, что на Божьем свете есть не только Магелланы, Куки и Лаперузы, но и русские моряки.
IV
Багровое солнце огромным раскаленным шаром склонялось к закату. Еле заметный бриз слабо наполнял тяжелую парусину «Кроткого», подвигающегося трехузловым ходом, больше с помощью попутного течения, нежели ветра. Временами бриз стихал совсем, и тогда паруса обвисали безжизненными складками, и шлюп беспомощно переваливался на пологой мертвой зыби, подвигаемый одним течением. Впереди, прямо по носу, желтела узкая полоска земли, за ней вздымала к небу свою вершину казавшаяся фиолетовой гора, и на фоне ее в подзорную трубу можно было видеть разбросанные там и сям кущи пальм.
На шлюпе с вожделением смотрели на медленно приближающуюся землю. На корабле вот уже вторую неделю ощущалась настоятельная необходимость в свежей воде. Вода, остававшаяся от последнего налива, была на исходе, издавала уже скверный запах, и на шлюпе начались желудочные заболевания, которые не на шутку стали тревожить капитана.
Солнце уже село, а шлюп еще был далеко от берега, и кидаемый лот не достигал грунта. Корабль после наступления темноты лег в дрейф и пролежал в нем целую ночь.
Как только после коротких утренних сумерек из-за горизонта брызнули горячие лучи солнца, «Кроткий» обрасопил реи и, наполнив паруса свежим утренним бризом, побежал вдоль недалекого уже берега, опоясанного белой пеной бурунов. Командир и штурман не отрывались от подзорных труб, высматривая удобное место для постановки на якорь. Вот показалась вдающаяся в глубь берега небольшая круглая бухта и, что совсем уже было хорошо, – от нее в глубь острова уходила зигзагом серебристая ленточка впадающей в бухту речки с берегами, окаймленными, точно опахалами, кущами пальм.
Шлюп, уменьшив парусность, направился в открытую им бухту, нащупывая лотом глубину. На палубе готовили к спуску баркас. Из трюма доставали пустые анкерки и бочонки и грузили их в шлюпку. Зорко вглядываясь вперед по курсу, – в этих водах так легко наскочить на предательский коралловый риф, – командир вводит корабль в бухту и, когда лотовый дает ему нужную глубину и кричит, что грунт – песок, дает знак старшему офицеру, и этот звонким голосом командует:
– Марсо-фалы отдай! Из бухты вон, отдать якорь!
Подняв столб алмазных брызг и смертельно напугав проплывавшую мимо акулу, бухает в воду якорь «Кроткого», громыхает якорная цепь, высучиваясь из клюза в легком облачке ржавой пыли, весело бегут по вантам лихие марсовые и, разбежавшись по реям, быстро и скоро крепят сезнями паруса.
Еще длится аврал, а уже с юта кричат:
– Мичман Дейбнер, к командиру!
Мичман Дейбнер бежит на ют от фок-мачты, где его место по авральному расписанию, и, подойдя к командиру, снимает фуражку.
– Извольте, сударь, отправиться на берег за водой, – говорит ему командир. – Паче всего, надлежит вам быть осторожному на баре реки, где бурун всегда особливо силен. Войдя в реку, не прежде того наливайтесь водою, как попробовавши ее, дабы не была она солона, поелику в сих местах прилив бывает зело высок и вода с моря входит далеко в реку. Наливаясь водою, отнюдь не дозволяйте людям отлучаться от шлюпки. Остров сей, Нукагивой именуемый, не так давно открытый, населен, как о сем упоминается в лоции, племенами дикими и нрава весьма свирепого. Посему надлежит вам соблюдать сугубую осторожность, буде встретитесь с туземцами. На случай нападения погрузите в баркас мушкеты с должным количеством свинца и пороха, но не ранее того начинайте палить, как туземцы первые проявят агрессию. Ваша пальба будет слышна на шлюпе, и незамедлительно вам будет послана помощь. Ну-с, вот и все-с. Извольте, сударь, отправляться, не мешкая.
Пока старший офицер спускал баркас, мичман Дейбнер успел сбегать в каюту, где вооружился пистолетом и, сунув в карман пару больших ржаных сухарей, вышел на палубу. Шлюпка уже качалась у борта. Перемахнув через фальшборт, мичман спустился в нее по штормтрапу и приказал отваливать. Восемь гребцов взяли на воду, и баркас направился к берегу, правя туда, где на баре реки отчетливо белели пеной несколько параллельных полос буруна. Когда шлюпка была уже недалеко от первого вала, мичман увидел, что бурун был гораздо выше и грознее, нежели это казалось издали и с борта «Кроткого». Прекрасный пловец, он не боялся бы перевернуться и очутиться в воде, если бы в изумрудных глубинах кристально-чистой воды, не мелькали то там, то тут темные пятна. Одно такое пятно проплыло совсем недалеко от шлюпки, и мичман отчетливо рассмотрел огромную акулу. Плавать в обществе акул мичману совсем не хотелось, и поэтому, подходя к бурунам, он принял все меры предосторожности, чтобы не быть опрокинутым. Он повернул шлюпку кормой к берегу и стал переходить полосу бурунов по всем правилам искусства. Грохот разбивающихся об отмель валов совсем близко; вот уже пенистая верхушка задирает корму баркаса, который медленно продвигается к берегу, табаня, – самый опасный момент, когда падающая масса воды стремится поставить шлюпку лагом.
– На воду! – кричит мичман, и матросы начинают часто грести, чтобы дать шлюпке разбег вперед. Вот вал под шлюпкой, затем нос ее стремительно падает в пропасть, кругом баркаса фантасмагория из пены и брызг, точно все кипит вокруг него…
– Табань обе! – командует мичман, мысленно благодаря Бога, что первый, самый крупный вал пройдет благополучно.
При переходе второго вала мичман Дейбнер уже не так настороженно внимателен, и немедленно получает за это возмездие: шлюпка набирает воды, и все получают свежий душ. Солнце сильно печет, и этот душ людям только приятен, но он совсем не полезен мушкетному пороху. Мичман Дейбнер об этом мало думает и, вал за валом, одолевает буруны, пока, наконец, его баркас не оказывается на зеркальной глади реки, тихо катящей свои чистые воды навстречу оставшимся позади пенистым морским валам.
Баркас поворачивает, вновь носом против течения, и входит в реку. Справа и слева у него уже цветущие берега. Голые пальмовые стволы стеной подходят к самой воде, и кудрявые верхушки их тихо шелестят огромными опахалами своих больших и блестящих, точно лакированных, листьев. С вершины на вершину перепархивают стайки зеленых попугаев, оглашая воздух резким, гортанным криком, а по берегу, шлепая по мелкой воде, бродят какие-то огромные, неведомые тамбовским и калужским мужикам птицы, на длинных ногах и с невероятной величины клювами. Над самой водой взад и вперед, блестя крылышками на солнце, носятся яркие стрекозы. Стаями ходит мелкая рыбешка, шарахающаяся от времени до времени в сторону от невидимого со шлюпки глубинного врага.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































