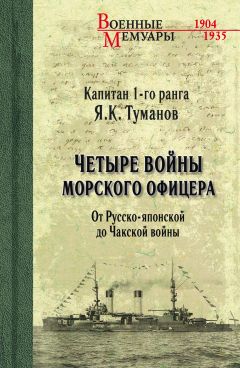
Автор книги: Язон Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Эскимос
I
Канонерская лодка «Хивинец»[111]111
Материалом для рассказа послужили воспоминания автора об участии в заграничном плавании на канонерской лодке «Хивинец» в 1911–1913 годах. – Авт.
[Закрыть], возвращаясь в родные воды Балтики после довольно бурного перехода через Бискайку, бросила якорь на гостеприимном шербурском рейде.
Еще не улеглась обычная суматоха, сопровождавшая постановку на якорь и переход от походного положения на якорное, еще посвистывала дудка боцмана и к стойкам только что поставленных трапов навинчивали поручни, как к левому борту пристала небольшая шлюпка, из которой вышел и стал подниматься на борт маленький старичок в безукоризненно сшитом сером костюме, с небольшим, хорошей мелкой кожи, чемоданчиком в руках. Когда он появился на палубе, мимо него проходил только что спустившийся с мостика штурманский офицер, несший в руках мореходные карты и штурманские инструменты. Увидев старика, штурман радостно его приветствовал:
– А, мсье Феордан! Как всегда – первый, – штурман крепко пожал руку старика. – Проходите в кают-компанию. Дорогу, наверное, вы еще не забыли.
– О, еще бы, – улыбаясь ответил старик. – Я думаю, что немного найдется русских военных кораблей, на которых старик Феордан не знал бы дороги в кают-компанию…
– Кто это такой? – спросил лейтенант Чириков, впервые попавший в Шербур, обращаясь к старшему механику, или чифу, как его по-английски звали на корабле.
– А это – знаменитый мсье Феордан, представитель лучших французских парфюмерных фабрик. Вы у него приобретете любую парфюмерию без всяких хлопот и дешевле, чем в магазинах.
– Ну, мсье Феордан, раскройте ваш сундук и показывайте, что у вас есть нового и интересного. Какой сейчас последний крик моды в Париже по части парфюмерии, – говорили офицеры, обступив старика, в то время как он не спеша, поставив на стол свой саквояж и раскрыв его, доставал оттуда и выкладывал флакончики, баночки и коробочки.
– Вы ставите меня, господа, своим вопросом в чрезвычайно затруднительное положение, – ответил он. – Старый Феордан никогда и никого не обманывал, а своих друзей, русских моряков, и подавно. Ведь он ваших нынешних адмиралов знал еще молодыми лейтенантами! Так вот, если он вам скажет, – а он, конечно, вам честно скажет, – какой сейчас dernier cri2 в Париже, то вы у него ничего не купите.
– Как так? Что это значит? – раздались удивленные голоса. – Вы перестали быть представителем лучших фабрик?
– О нет, – улыбаясь ответил Феордан, – но я лишь представитель французских фабрик, а сейчас в Париже самая модная парфюмерия – ваша русская. Это ваши цветочные одеколоны Брокара[112]112
Истинные слова подлинного мсье Феордана, сказанные автору этого правдивого рассказа в 1913 году на лодке «Хивинец», на шербурском рейде. – Авт.
[Закрыть].
Кое-где раздался смешок.
– Да вы шутите, мсье Феордан!
– Отнюдь не шучу, господа, я говорю вам чистую правду: сейчас Париж сходит с ума по цветочному одеколону Брокара.
– Ну, это – дудки! – решительно заявил минер. – Чтобы я, вернувшись из заграничного плавания, послал бы Ниночке на Арбат флакон одеколона Брокара, так после этого я не то что на Арбате, а и в Москве не смогу показаться!
– Ну, хорошо, – заметил старший офицер. – Оставим нашего Брокара в покое, он от нас не уйдет и в России, и посмотрим все-таки, что есть интересного в вашем чемоданчике.
– Вот, господа, могу вам рекомендовать эти духи. Это – «Rose» фабрики Coty. Это слово – Coty говорит само за себя. А вот – «Violet de Parme». Если вы найдете где-нибудь более натуральный и свежий запах фиалки, то можете говорить всюду, что старый Феордан ровно ничего не понимает в парфюмерии. Конечно, к каждому из этих духов есть соответствующие ему по запаху мыло и пудра…
Один за другим вынимались и демонстрировались самых неожиданных форм флакончики из хрусталя, в которых переливалась душистая жидкость то светло-зеленого, то желтого, то сиреневого цветов. Из маленьких пробных флакончиков Феордан щедро капал на подставляемые руки духами: офицеры усиленно растирали ладони и подносили их затем к носу. По кают-компании разлился смешанный аромат самых разнообразных духов. Когда все было внимательно осмотрено и перенюхано, Феордан уселся за стол и, вынув записную книжечку, стал записывать заказы. Покончив с кают-компанией, он спросил:
– Могу ли я, господа, теперь посетить командира?
– Подождите с командиром. Он, наверное, еще плещется в ванне. Ведь он, бедняга, трое суток не сходил с мостика, – ответил ревизор. – А вы лучше расскажите нам, что есть интересного в городе. Есть ли опера или хотя бы оперетка.
– Увы, сейчас нет ни оперы, ни оперетки. В нашей дыре и то и другое бывает редко. Сейчас единственное развлечение в городе – это цирк.
– Ну что же, цирк так цирк, – послышались веселые голоса, – а цирк-то здешний хороший?
– Кое-что интересное есть, особенно для молодежи, – подмигнул Феордан глазом. – Есть недурненькие наездницы. Но гвоздь программы этого сезона – международный чемпионат по борьбе. Если среди вас есть любители этого рода зрелищ, они останутся довольны. Что касается меня, то я, откровенно говоря, ничего в этом не понимаю и, несмотря на свой возраст, предпочитаю наездниц…
В это время в кают-компанию вошел командирский вестовой и, остановившись в дверях, доложил:
– Командир просит к себе ревизора.
– Ну вот, командир закончил купаться. Идемте со мной, мсье Феордан, – обратился ревизор к старику.
Феордан быстро уложил все вынутые флакончики и коробочки в свой саквояж и, захватив его с собой, пошел следом за ревизором к командиру.
II
В цирке пахло лошадиным потом, конюшней и еще чем-то кислым. В антрактах между выступлениями нестройного духового оркестра, когда наступала относительная тишина, было слышно, как шипели большие дуговые фонари.
Ближайшая к выходу ложа была занята группой русских морских офицеров. Засидевшись за ужином в ресторане, они опоздали в цирк и попали в него во время исполнения последнего номера программы первого отделения, которым был выезд наездницы Нитуш.
По цирковому кругу тяжелым ленивым галопом скакала крупная белая лошадь с огромным задом и притянутой к самой груди мордой, отчего ее шея круто выгибалась дугой. Нитуш, в коротенькой розового тюля юбочке, с мускулистыми ногами, обтянутыми телесного цвета трико, блондинка с коротко стриженной в завитушках головой, с наивными голубыми глазами и ярко накрашенными губами бантиком, балансировала на одной ножке на спине галопирующей лошади, размахивая маленьким раскрытым японского фасона зонтиком. Соскакивая на арену и вновь вскакивая на спину лошади, она кричала: «Ап» и, когда зрители награждали ее аплодисментами, щедро посылала во все стороны воздушные поцелуи. Посреди круга стоял, щелкая длинным бичом, клоун с лицом, густо вымазанным мелом, веселивший публику во время роздыхов, когда лошадь шла шагом, тяжеловесными остротами, а наездница отдыхала, сидя на спине лошади, расправив веером юбочку, и кокетливо играла ножками. Но вот музыка заиграла галоп, клоун пустил лошадь вскачь, сняв с нее предварительно узду, непрерывно хлопая бичом, и Нитуш уже не переставая кричала: «Ап», то соскакивая, то вскакивая на спину скачущей с развевающейся гривой лошади. Сделав три или четыре тура, наездница под гром аплодисментов ускакала за кулисы.
Вторым отделением программы был международный чемпионат по французской борьбе, а в промежутке, пока готовили арену для борьбы и настилали ее большим ковром, в том месте, где сидел оркестр, был спущен и развернут экран и при потушенном свете был проделан, для развлечения публики, короткий сеанс кинематографа. Это было Actualité[113]113
Actualité (фр.) – новости. – Авт.
[Закрыть], причем исключительно из французской жизни: сбор винограда в Бургундии, открытие какой-то выставки в Париже, приезд во Францию марокканского султана и тому подобная, мало интересная для русских моряков чепуха. Монотонность этого скучного сеанса только раз была нарушена громким возгласом какого-то малыша, узнавшего в изображенной на экране парижской толпе, перед проездом марокканского султана, собственного папашу:
– Tiens, tiens… Papa, avec une cocotte!..[114]114
Tiens, tiens… Papa, avec une cocotte!.. (фр.) – Ага, ага… Папа с кокоткой! – Авт.
[Закрыть]
Вслед за чтим возгласом, полным радостного изумления, отчетливо по слышалось сдавленное шипение сидящей рядом с малышом дамы, по-видимому, его благоверной мамаши:
– Tait-toi, idiot!..[115]115
Tait-toi, idiot! (фр.) – Молчи ты, дурак! – Авт.
[Закрыть]
Но вот вновь зажегся свет, экран был свернут и убран, и публика насторожилась в ожидании интересного зрелища.
Выход борцов был обставлен самым торжественным образом. Лакеи и свободные артисты в форме коричневых гусар выстроились шпалерами и два ряда у выхода из кулис. Откуда-то сзади и сверху на середину арены был направлен луч прожектора. Музыка заиграла марш, и под предводительством директора цирка, шествовавшего во фраке и блестящем цилиндре, показался длинный ряд борцов.
Выйдя на арену, борцы обошли ее вереницей под звуки бравурного марша и выстроились в ряд под лучом прожектора, лицом к публике. Выступивший вперед арбитр стал вызывать по одному борцов и представлять их публике. Вызываемый выходил вперед на два шага, кланялся и возвращался на свое место. Тут были – два француза, немец, турок Али-баба, затем шел маленький, смуглый, весь точно на стальных пружинах японец Саракики, огромный болгарин Колчев, точно для контраста поставленный рядом с маленьким японцем. Каждого из них публика награждала сдержанными аплодисментами, по которым еще трудно было судить о ее симпатиях и антипатиях.
Но вот арбитр назвал какое-то несуразное имя, на которое отозвался и выступил борец роста выше среднего, с невероятной ширины плечами, на которые прямо без шеи была посажена маленькая коротко стриженная голова. У борца были длинные, до колен, руки, которые он держал колесом, ибо горы мускулов не позволяли рукам лечь прямо вдоль тела.
Выкрикивая имена борцов, арбитр обычно называл и страну, которую представлял атлет:
– Турция, Франция, Болгария…
Когда описанный борец, выступив вперед, неловко всем телом, за неимением шеи, поклонился публике, арбитр торжественно произнес:
– Эскимос.
По рядам публики пронеслось удивленное – «а-а-а», а чей-то явно пьяный голос на галерке восторженно закричал: «Браво!»
Сидевшая под ложей русских моряков, в партере, молодая несколько кричаще одетая женщина, на которую плотоядно поглядывал артиллерист Иванов, прижалась, как бы в испуге, к своему соседу, почтенному буржуа с толстым брюшком и в золотых очках, и проговорила:
– Tiens, tiens… Qu’est ce que c’est que sa-esquimo?[116]116
Tiens, tiens…Qu’est ce que c’est que sa-esquimo? (фр.) – Скажи, скажи, кто такой эскимос? – Авт.
[Закрыть]
– A это такой северный народ, который живет где-то там, на полюсе, – ответил буржуа, видимо, сам не очень сильный в этнографии.
По окончании церемонии представления арбитр скомандовал – «парад алле», – и борцы под звуки марша вновь прошли вокруг арены и удалились за кулисы. Вышедший после этого на середину цирка арбитр объявил о программе борьбы на этот вечер: должны были бороться три пары, из которых самой интересной была француз Понс – Эскимос, оба кандидата на первое место, как расслышали русские моряки из объяснений буржуа в золотых очках своей даме.
Борьба первой пары, болгарина Колчева с турком Али-бабой, закончилась на втором раунде легкой победой гиганта болгарина. На аплодисменты публики победитель ответил поклоном, полным достоинства, а побежденный – конфузливой улыбкой.
Но вот выступили на арену Понс, крупный мужчина, хорошо и пропорционально сложенный, уже далеко не юный, с заметной лысинкой, и чудовище Эскимос.
Борцы, пожав друг другу руки, стали в позицию боевых петухов перед боем, и арбитр дал короткий свисток. Началась борьба стремительными атаками француза и явно защитной техникой эскимоса. Весь первый круг прошел на ногах, и, когда арбитр дал свисток для минутного перерыва, тело француза блестело, как лакированное, тогда как громадина Эскимос был сух и свеж.
Во втором туре бешеной атакой французу удалось сразу же перевести борьбу в партер. Эскимос оказался лежащим на животе, широко раскинув ноги и положив маленькую круглую голову на руки; он казался каменной глыбой, вокруг которой возился Понс, стараясь перевернуть своего противника на спину. В этих бесплодных стараниях прошел весь второй тур.
Когда арбитр свистнул для начала третьего тура, Эскимос улегся в ту же самую позу, в которой застал его свисток, заканчивающий второй. На этот раз французу удалось, несмотря на полное отсутствие шеи у своего противника, заложить ему «нельсон», и эта невероятная тяжесть начала медленно переворачиваться. У русских моряков, симпатии которых были на стороне Эскимоса, захватило дух в ожидании близости поражения своего любимца. В цирке наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь шипением дуговых фонарей, да тяжелым сопением Понса, напрягавшего все усилия, чтобы перевернуть своего противника на спину. Вот уже одно плечо эскимоса коснулось земли; еще одно усилие, и он будет лежать на обеих лопатках, как вдруг Эскимос, проделав какое-то неуловимое движение, в одно мгновение сделал то, что на языке профессионалов называется «мостом»; ноги его крепко упирались подошвами в землю, согнув колени под прямым углом, могучие руки поддерживали, на той же высоте, тело, а голова откинулась назад и вниз. Понс яростно принялся ломать мост и, судя по выражению его лица, начал терять самообладание; он подскакивал то с одной, то с другой стороны, налегая всей тяжестью своего тела на выпяченную грудь противника.
И вдруг произошло нечто, чего никто из зрителей не ожидал: с живостью, которую нельзя было даже подозревать в казавшемся столь неуклюжим Эскимосе, он, воспользовавшись моментом, когда Понс перебегал с одной стороны на другую, вдруг выпрямился, как пружина, обхватил своими могучими руками француза, обернувшись к нему спиной, за шею и швырнул его через свою голову о землю. Понс упал боком, коснувшись правым плечом земли: Эскимос всей своей чудовищной тяжестью навалился на своего противника, и в следующее мгновение левая лопатка Понса также лежала на земле. Арбитр перебежал на ту же сторону, нагнувшись удостоверился, что обе лопатки француза прижаты к земле и, приложив свисток к губам, дал сигнал об окончании борьбы и победе Эскимоса.
Несмотря на явную симпатию публики к своему соотечественнику – французу, победитель был награжден бурными аплодисментами. Только тот же нетрезвый голос с галерки, который приветствовал Эскимоса криком «браво», теперь кричал
– К черту! Я не согласен…
Русская ложа горячо аплодировала победителю. Сидевшая под ложей русских моряков дама вновь прижалась к своему соседу и сказала разочарованным голосом:
– Бедный Понс. Мне так хотелось, чтобы победил он…
– Что же ты хочешь, моя крошка, – отвечал ее спутник. – Этот Эскимос, это же не человек, а животное. Он привык там, у себя на родине, бороться с белыми медведями, – и чтобы утешить свою спутницу, он положил ей на колено свою пухлую ладонь, чем привел в ярость не перестававшего наблюдать за ними нашего артиллериста.
– Вот мерзавец, – процедил он сквозь зубы.
– Кого это ты кроешь? – спросил чиф.
– Да этого, как его… Эскимоса… Силища-то какая.
III
На следующий день ревизор стоял вахту от полудня до четырех. Был час отдыха, и вахтенный начальник лениво шагал по палубе, заложив назад руки, и мечтал о том, как он проведет 28-дневный отпуск по возвращении в Россию. Эти сладкие мечты были прерваны голосом вахтенного сигнальщика, крикнувшего с мостика:
– Шлюпка с вольным подходит.
Ревизор вышел на площадку левого трапа и увидел ялик, гребущий к кораблю. Яличник греб стоя, обернувшись лицом к носу шлюпки, а на кормовом сидении восседала массивная фигура, показавшаяся ревизору знакомой. Когда ялик пристал к трапу, и фигура подняла маленькую круглую голову, ревизор узнал борца Эскимоса, победившего накануне француза Понса.
Эскимос конфузливо улыбнулся офицеру и спросил по-русски:
– Можно?
– Можно, можно, входите, – ответил ревизор, удивленный слышать русское слово из уст Эскимоса.
Когда приехавший поднимался по трапу, ступеньки поскрипывали под огромной тяжестью борца.
– Вы говорите по-русски? – спросил его ревизор, когда Эскимос, поднявшись на палубу, остановился перед ним, сняв шляпу.
– Та, я говору по руски, – ответил, все с той же тихой и добродушной улыбкой, борец.
– Так, значит, вы не эскимос?
– Нет, зачем эскимос… Я – эстонец из Нарва, из город Нарва, – повторил он с важностью.
– Так чего же вы сделали из себя эскимоса, раз вы эстонец?
– Зачем я делал? Я ничего не делал, это директор делал. Он говорит – ты будешь эскимос и я за это буду платить тебе на десять франков за выход больше. А мне что. Десять франков – деньги, пускай платит.
– А здорово вы вчера цокнули француза об землю. Мы одно время думали, что он вас положит.
Эскимос презрительно усмехнулся.
– Я и не такой борец клал, как Понс. А меня… Меня не можно положить, если я не хочу.
– Как так, не хочу? – удивился ревизор. – Почему же вы можете хотеть, чтобы вас положили?
– Если мне платить хороши деньги, тогда меня можно положить, – простодушно ответил Эскимос, улыбаясь доверчивой и конфузливой улыбкой.
– Значит, Понс не хотел вам платить, поэтому вы его так бабахнули? – спросил, смеясь, ревизор.
– Француз не любит платить деньги. Француз любит получать деньги, – пояснил эскимос.
– А что вас привело к нам? Ищете, наверное, земляков?
– Та, я приехал спросить, не говорит ли здесь кто-нибудь по-эстонски.
– Гм… По-эстонски… Дайте подумать… Вахтенный, какой губернии наш трюмный Ляос?
– Курляндской, ваше благородие, – ответил вахтенный.
– Не подходит. А рулевой Мягги?
– Эстляндской.
– Ну вот, и у нас нашелся эскимос, – засмеялся ревизор. – Проводи господина Эскимоса на бак, обратился он к вахтенному, – и вызови к нему нашего эскимоса Мягги.
Через несколько минут на баке русской канонерской лодки на Шербурском рейде сидели рядышком, покуривая крепкий и вонючий французский капораль[117]117
Капорал – низкосортный табак. – Сост.
[Закрыть], два эскимоса и оживленно беседовали на чистом эстонском языке.
«Munoma»
В этот душный июльский вечер в тесной пирейской гавани было, что называется, не продохнуть. В застывшем в жаркой истоме воздухе, где-то за Саламином, багрово-красным шаром медленно спускалось в море солнце. Поднимаемые подводами над булыжной мостовой набережной облака пыли подолгу висели в неподвижном воздухе, пропитанном ароматами греческого порта – сложной смеси из каменноугольного дыма, стоячей воды, гнилой рыбы и горелого оливкового масла.
Канонерская лодка «Хивинец» стояла кормой к берегу, заведя кормовые швартовы и перекинув с полуюта на набережную сходни, крайней в ряду нескольких военных судов, имея соседом слева несуразной конструкции уродливый греческий броненосец «Псара», а справа – какой-то обшарпанный пароход под тем же бело-голубым в полоску флагом, разгружавший на набережную, с невероятным лязгом лебедок, содержимое своих трюмов. Сквозь грохот разгружающегося парохода отчетливо слышались пронзительные голоса мальчишек – продавцов газет, орущих свое – «Эфемеридес, Астрапи, Эстия!..»
Под белоснежным тентом, протянутым над полуютом канонерки, небольшая группа офицеров совершала свое dolce far niente, после трудового корабельного дня; впрочем, трудового весьма относительно, ибо командир лодки не обременял свой экипаж непосильным трудом, заботясь не столько о боевой готовности своего корабля, сколько о внешнем его лоске и умопомрачительной чистоте, на зависть всем этим «Псарам», «Гидрам» и прочим мафусаилам греческого флота. Конечно, умопомрачительную чистоту русского корабля не нужно объяснять одним только чувством соревнования с греками, но в такой же степени обычной традицией русских моряков, будь то в душистой и тесной пирейской гавани, будь то на обширном тулонском рейде, или в английском Девонпорте – безразлично.
В тот жаркий вечер, о котором идет наш разговор, на полуюте канонерки, развалившись в шезлонгах, полулежали артиллерист, ревизор и второй механик; сбегавший только что по сходне на берег, в ближайшее кафе, вестовой подал каждому из них по пузатой запотелой кружке с пивом.
– Ну и пекло, – сказал артиллерист Иванов, крупный и очень полнокровный блондин, с рыжими, отдающими в красное, волосами, высасывая одним духом более половины содержимого объемистой кружки и слизывая языком с усов пивную пену, – солнце уже на закате, а печет хуже, чем днем.
– Какое же это пекло! – подал реплику сухой и тощий ревизор. – Побывали бы вы на Мадагаскаре, вот там пожарились бы! А это что – детские игрушки!..
– Да зачем так далеко ходить? – отозвался механик Вишняков. – У нас, в Курской губернии, иной раз в июле или в начале августа завернет такая жара, что и мадагаскарец попотел бы.
В это время по трапу, ведущему на полуют, поднялась новая фигура и, подойдя к беседующим, присела на ближайший кнехт, медная облицовка которого блестела в косых лучах заходящего солнца как червонное золото. Это был незадолго перед тем назначенный на корабль и прибывший из России лейтенант Чириков.
– Уф, ну и жара, – сказал он, вытирая влажный лоб, – ни в каюте, ни в кают-компании просто невозможно сидеть…
Не получая ниоткуда отклика на свое замечание, ибо тема явно была исчерпана, он стал задумчиво смотреть на берег. Неподалеку, слева за кормой, видно было на набережной большое кафе. Под широким навесом из полосатой материи, во всю ширину тротуара, перед кафе стояли небольшие, круглые, мраморные столики. Посетители, скинув бесцеремонно пиджаки и накинув их на спинки своих стульев, пили пиво, тянули через соломинку какие-то напитки и что-то ели из маленьких вазочек.
– Что это грекосы лопают из этих вазочек? – спросил Чириков, указывая на террасу кафе.
Ревизор обернулся вполоборота и, взглянув по тому направлению, куда указывал Чириков, ответил:
– Самое обыкновенное мороженое.
Чириков облизал пересохшие губы.
– А недурно было бы, пожалуй, съесть сейчас мороженого, – сказал он.
– Кто же вам мешает! – заметил артиллерист: – Пошлите вестового, и он вам принесет сколько хотите.
– Да нет, пожалуй, лучше будет сходить самому, – нерешительно сказал Чириков, – а то, пока вестовой его донесет, оно наполовину растает, да и пыли много на улице. Кстати, как по-гречески будет мороженое?
– Мороженое по-гречески будет – мунома, – лениво бросил артиллерист. – Я вам советую записать на бумаге, а то забудете.
– Пожалуй, действительно лучше будет записать, – согласился Чириков: – слово-то какое трудное и несуразное. Как вы говорите? Мунома? – И, вынув записную книжку, он старательно вывел русскими буквами сказанное ему слово.
Спустившись в кают-компанию, Чириков подошел к старшему офицеру, игравшему с судовым врачом в трик-трак.
– Разрешите на берег, Валериан Иванович.
– Куда это вы собрались в такое пекло? Неужели в Афины? – спросил, вынув изо рта сигару, старший офицер.
– Да нет, я ненадолго, в ближайшее кафе. Захотелось поесть мороженого.
– А, ну это дело другое. Валяйте с Богом. – И старший офицер вновь сунул сигару в рот и кинул кости.
Чириков отправился вниз, в каюту, чтобы заменить военный китель штатским пиджаком, и через несколько минут уже спускался по сходне на берег, постукивая по настилу тросточкой.
На террасе кафе он занял ближайший к краю столик, и, почтительно наклонившемуся перед ним лакею, узнавшему в нем русского офицера, коротко бросил:
– Munoma.
На лбу слуги приподнялись удивленно брови, и он, отойдя от Чирикова, подошел к соседнему столику, где, получив заказ, стремительно кинулся внутрь кафе, оттуда появился через некоторое время, неся на подносе ассортимент прохладительных напитков. Никакого мороженого на подносе не было, и слуга прошел мимо Чирикова, не удостоив его даже взглядом. Вошел еще один посетитель, с мальчишкой лет десяти, и занял столик неподалеку от Чирикова, он заказал что-то подошедшему к нему тому же лакею, и через некоторое время тот увидел, как перед только что пришедшим посетителем была поставлена пузатая кружка пива, а перед мальчиком – вазочка с двумя аппетитными горками мороженого: одно было розового цвета, другое – шоколадного.
Чириков сердито постучал тросточкой по мрамору столика и вновь подбежавшему тому же самому лакею сказал внушительно и строго:
– Munoma!
Лакей, пожав плечами, спросил его о чем-то по-гречески, и, услышав вновь неизменное «Munoma», отошел.
Чириков, вооружившись терпением, прождал еще минуть десять, но когда все тот же слуга принес соседнему мальчику вторую вазочку с мороженым, а сопровождавшему его господину вторую кружка пива, терпение его лопнуло и он так сильно застучал тросточкой по столику, что посетители, сидевшие в кафе, повернули с удивлением головы в его сторону. Подходивший к нему уже дважды слуга на этот раз, вместо того чтобы направиться к нему, повернул обратно, во внутрь кафе. Это взбесило Чирикова окончательно. Он громко и не стесняясь выругался по-русски и принялся стучать по столику еще оглушительнее.
Вскоре из внутреннего помещения кафе появился все тот же слуга в сопровождении какого-то солидного и прилично одетого господина, и, на этот раз направился уже прямо к Чирикову. Подойдя к нему, он пропустил вперед сопровождавшего его господина, сказав ему что-то по-гречески.
– Вы чем-то недовольны, господин офицер? – спросил довольно чистым русским языком солидный господин.
– Совершенно верно. – Чириков обрадовался, что может излить перед кем-то свое негодование. – Трудно быть довольным, когда приходишь в кафе и в течении получаса не можешь получить заказанного, тогда как видишь, что все другие посетители немедленно получают все, что требуют.
– Что же вы потребовали?
– А вы спросите этого слугу. – Чириков показал на стоявшего тут же лакея, с удивлением и даже некоторым страхом глазеющего на рассвирепевшего клиента. Переводчик спросил что-то, по-гречески, лакея, в ответе которого Чириков расслышал хорошо знакомое ему слово «munoma».
– Ho лакей говорит, что вы ему ничего не заказывали, – повернулся вновь к нему переводчик.
Начавший было успокаиваться Чириков вновь вскипел негодованием.
– Ну, это же верх наглости! – вскочил он: – Скажите ему, что он лжец и обманщик! Я же не один раз, а дважды заказывал ему мороженое!
Лицо посредника выразило глубочайшее недоумение. На соседних столиках посетители с интересом наблюдали происходящее, и кое-кто дажеподошел к спорящим. Переводчик вновь обратился с каким-то вопросом к лакею, и, в ответ этого, Чириков снова услышал знакомое слово – munoma.
– Да вот же, он сам говорит, что я ему заказывал munoma!
– Ах, так вы ему заказывали munoma?
– Ну, ясно, я же вам говорил, что я ему заказывал мороженное!
– А вы знаете, что значит по-гречески – munoma?
– Ну, конечно: munoma, это – мороженное.
– Нет, сударь, munoma – это по-гречески – ничего. Очевидно, кто-то над вами подшутил, сказав, что мороженное по-гречески – munoma, и вы напрасно сердитесь на ни в чем не повинного лакея. Он дважды подходил к вам, и на его вопрос – что вам угодно, вы ему ответили, оба раза, – ничего.
Чириков слушал его с растерянным видом, и, когда тот кончил свою реплику, продолжал молча смотреть то на него, то на лакея, не зная что сказать. Кто-то из сгрудившихся вокруг них посетителей, ничего не понимавших из их разговора по-русски, обратился к переводчику, прося рассказать, в чем дело, и, к великому ужасу Чирикова, тот начал подробно излагать происшедшее. Когда он кончил, вокруг бедного Чирикова поднялся хохот. Смеялся лакей, смеялся любезный переводчик, смеялся даже мальчик, успевший съесть две порции мороженого. Красный как рак Чириков поднялся и стал рыться в кошельке, чтобы дать на чай напрасно обиженному лакею.
Увидя, что русский офицер поднялся, чтобы уходить, говоривший по-русски грек сказал ему:
– Какого вам угодно мороженого? Скажите мне, я закажу, и вам немедленно его подадут.
– Нет, благодарю вас, мне уже некогда, – сказал Чириков, и сунув в руку лакея мелочь, быстрыми шагами направился к выходу.
Выйдя на набережную, он направился было к кораблю, но, сделав несколько шагов, остановился, постоял некоторое время в нерешительности, а затем повернул в обратную сторону. Быстро пройдя по противоположной стороне набережной, мимо того кафе, из которого он незадолго перед тем вышел, Чириков зашагал дальше. На следующем квартале ему по пути попалось другое кафе. Заняв столик, он пальцем указал подошедшему слуге на пустую кружку из-под пива, стоявшую на соседнем столике, и, когда лакей принес ему полную, осушил ее одним духом, и также мимикой потребовал другую.
В глубокой раздумчивости долго сидел Чириков в этом кафе, печально глядя в бархатную черноту давно уже наступившей южной теплой ночи. Вот на кораблях вразнобой пробили восемь склянок. Издалека с той стороны, где стояла русская канонерка, донеслись звуки горна; горнист играл «на молитву». Через некоторое время послышалось далекое хоровое пение – команда пела «Отче наш» и «Богородицу». Короткий сигнал, и вновь наступила тишина. Вот пробили одну, затем – две склянки. На террасе кафе, кроме Чирикова, оставался занятым двумя греками всего один только столик. Вот поднялись и они, и Чириков остался один. Глубоко вздохнув, он допил свою четвертую кружку пива и подозвал пальцем лакея, чтобы расплатиться.
Был уже десятый час, когда он медленно возвращался на корабль. Большие открытые иллюминаторы кают-компании были ярко освещены и бросали на темную спокойную воду гавани яркие блики.
– Кто идет? – раздался оклик часового у сходни.
– Офицер, – тихо ответил Чириков и стал медленно подниматься по сходне.
Встреченный вахтенным унтер-офицером, Чириков прошел по пустому в этот час полуюту и стал спускаться вниз. Из кают-компании доносились голоса офицеров и звуки кидаемых костей на трик-траке. Кто-то наигрывал на пианино…
Не заходя в кают-компанию, Чириков тихо спустился вниз, и, войдя в свою крошечную каюту, не зажигая огня, начал раздеваться. Когда он снимал ботинок, взглянул на переборку соседней каюты, на мгновение задумался, затем сильно дернул ногой и швырнул ботинком в эту переборку. За ней была каюта артиллериста Иванова…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































