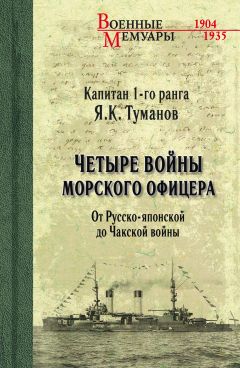
Автор книги: Язон Туманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мы покидали Libreville без особенного сожаления. В жалких лавчонках города ничего нельзя было приобрести даже скромному в своих потребностях мичману. Остались довольны лишь филателисты, которые скупили, кажется, весь имевшийся в местной почтовой конторе запас марок самого экзотического вида – с ягуарами, слоновыми клыками и т. п., к тому же необычайного размера.
Мне, впрочем, посчастливилось перед самой посадкой на пароход купить у какого-то оборванца-негра огромный заржавленный и зазубренный железный меч в деревянных грубых ножнах, несколько копий и какой-то музыкальный инструмент. Заплатив за все это богатство баснословно дешевую цену, много меньше того, что мы уплатили за голодный завтрак из боа-констриктора, я имел возможность снова сделать важное открытие в области экономики и понял причину беспросветной бедности негров.
Когда я привез свою покупку на корабль и с гордостью демонстрировал ее в кают-компании, старые и много плававшие офицеры принялись уверять меня, что эти мечи и копья выделываются во всех портах экзотических стран специально и исключительно для наивных туристов, сами же современные нам дикари знают не хуже нас, что такое Винчестер и Маузер и, конечно, ни один дурак такой дрянью, как приобретенные мною меч и копья, не пользуется. Но я не сомневался, что в них говорило в данном случае чувство самой низменной зависти, и остался при глубоком убеждении, что моя покупка составила бы гордость любого этнографического музея.
Погрузив такой же огромный запас угля, как и в Дакаре, эскадра наша покинула берега Конго и тронулась дальше на юг, в неведомую нам, маленьким статистам, даль.
В Libreville’e мы сделали попытку освободить корабль от присутствия сумасшедшего Титова, но безуспешно. Дома для умалишенных в городке не оказалось, а отходивший в Европу пассажирский пароход наотрез отказался принять на свой борт столь беспокойного пассажира. Пришлось везти беднягу дальше. Временами он успокаивался, впадая в глубокую, тихую меланхолию, сменявшуюся внезапными вспышками ярости, когда он начинал кричать истошным криком на весь броненосец, выпаливая бессмысленные фразы, проклятия и ругательства, так что снова приходилось облекать его в сумасшедшую рубаху и привязывать накрепко к койке.
Первым для нас портом Южного полушария явился Great Fish Bay. В сущности говоря, там не было никакого порта, а если был, то где-нибудь в глубине огромной бухты, у входа в которую мы стали на якорь, чтобы не нарушать священного нейтралитета Португалии, которой принадлежали эти воды. Берега – голый песок; да и немудрено, ибо край этот был не чем иным, как пустыней Калахари.
Но даже в этом диком, точно Богом проклятом месте мы мозолили кому-то глаза! Не успели мы стать на якорь, как откуда-то появилась маленькая канонерская лодка под огромным португальским флагом, бросившая якорь неподалеку от «Суворова». От нас было видно, как от нее отвалила шлюпка и направилась к флагманскому броненосцу. Визит, впрочем, был недолгий. Шлюпка вскоре же отвалила обратно и португальская лодка со смешным названием «Limpopo» немедленно снялась с якоря и направилась в море. В тот же день мы узнали, что командир ее заявил от имени своего правительства протест против того, чтобы мы грузились углем в португальских территориальных водах, на что будто бы адмирал наш ответил вопросом – не нужно ли его лодке покрасить подводную часть и если да, то он немедленно же прикажет поднять ее стрелой своего броненосца.
В бухте мы застали наших пунктуальных поставщиков угля немцев и немедленно же приступили к погрузке. Погрузка производилась на этот раз повахтенно. Свободные от вахты и погрузки матросы придумали оригинальное развлечение: бухта кишела акулами, но точно в насмешку над ее названием (Great Fish Bay, по-английски – «Залив Большой рыбы»), – акулами-карликами, размеры которых не превышали полуметра. Но зато в бухте их водилось невероятное количество. Не успевал матрос закинуть крючок, как на нем уже болталась акулка. Так как рыба эта была решительно ни для чего не пригодна за полной ее несъедобностью, команда наша придумала оригинальную и вместе с тем довольно варварскую забаву: сняв осторожно с крючка пойманную акулу, привязывали ей крепкой бичевой к хвосту большой кусок пробки и пускали вновь в воду на волю. Полная еще сил и сильно напуганная рыба уходила сначала на глубину, ослабевала и предательская пробка, в конце концов, появлялась на поверхности воды. За короткий промежуток времени масса таких пробок бродила по поверхности бухты «большой рыбы», вызывая громкий смех жестокосердых рыбаков.
Подгрузившись углем, мы на другой же день покинули негостеприимные португальские воды.
На этом переходе, еще в очень малых широтах Южного полушария, в полных, так сказать, тропиках, начали мы мерзнуть. Причиной этого удивительного феномена было то, что мы плыли в холодном Бенгуэльском течении. Температура воздуха на самом деле была далеко не низкой, колеблясь между 15° и 20 °С, и в привычных условиях плавания в Балтийском море почиталась бы самой что ни на есть летней погодой – «под китель», но изнеженные долгим пребыванием в тепличном воздухе тропиков Северного полушария, мы самым недвусмысленным образом начали страдать от холода, кутаясь на вахтах в пальто, а по ночам и в меховые тужурки.
У меня же и у моего сожителя мичмана Шупинского был еще и дополнительный согревательный аппарат: это был пассажир нашей каюты – мартышка Андрюшка, который добросовестно делил вахтенные часы и со мною и со своим хозяином. Кто-либо из нас, собираясь на вахту, раньше, чем покинуть каюту, расстегивал на груди несколько пуговиц тужурки и приглашал мартышку занять свое место словами: «Андрюшка, по-походному!» Андрюшка немедленно лез за пазуху, удобно там располагался, высунув лишь из борта тужурки свою лукавую мордочку, и отправлялся с одним из своих хозяев «править вахту».
Увы, эта наша живая грелка существовала не долго. Однажды вечером, зайдя в каюту, мы застали нашего Андрюшку бьющимся в корчах и судорогах. На губах у него выступила пена; животное грустно смотрело на нас своими умными глазками и, видимо, сильно страдало. Было видно, что наш Андрюшка чем-то отравился. Где и каким ядом мог раздобыться в нашей каюте Андрюшка? – недоумевали мы, пока кто-то из нас догадался разжать ему рот и полезть пальцем в его защечные мешки, ибо у него была обычная обезьянья привычка запихивать туда все, что только ни попадалось под руку. Загадка сразу же разрешилась, когда изо рта обезьянки мы извлекли довольно большое количество «блошек». Эта общеизвестная детская игра была приобретена кем-то из нас еще в бытность корабля в России и заброшена до полного забвения о ее существовании еще задолго до этого трагического случая. Оставаясь один в каюте, Андрюшка разыскал где-то злополучную коробку с «блошками» и, верный свой обезьяньей привычке, отправил добрую порцию красивых кругляшек себе в рот. По-видимому, одна из красок, в которую выкрашены были «блошки», оказалась ядовитой, и Андрюшка отравился.
Не теряя ни минуты, был приглашен к нам в каюту наш милейший Гаврила Андреевич, который и приступил к подаче первой помощи отравившемуся животному. Добрый доктор провозился с умирающей обезьянкой целую ночь, применяя все существующие средства, чтобы спасти зверька, но все было напрасно, и к утру Андрюшки не стало.
Приютившая нас Great Fish Bay – Angra Pequeña, была последним доступным для нас убежищем на западном берегу Африки. Бухта эта (земля Герреро) принадлежала немцам, а дальше, вплоть до мыса Доброй Надежды, шли уже сплошь английские владения. Предстоял нам поэтому огромный переход: надо было спуститься к югу вдоль западного берега, обогнуть «мыс Бурь»[77]77
Старинное название мыса Доброй Надежды.
[Закрыть] и затем подняться к северу вдоль восточного уже берега до французских владений на острове Мадагаскаре. Ввиду этого нам предстояло завалить углем не только обе нижние палубы – жилую и батарейную, но и кают-компанию, и даже погрузить его в мешках на полуюте. Хотя то и другое находилось на высоте той же батарейной палубы, все же, когда об этом распоряжении адмирала стало известно нашему корабельному инженеру Костенко, то обычное выражение озабоченности на его лице сменилось уже непритворным ужасом. Он попробовал было поискать сочувствия у прочих офицеров, без всякого, однако, успеха.
Как только он заикнулся о метацентрической высоте и прочих кораблестроительных жупелах, как сейчас же послышался чей-то иронический голос:
– Да, батенька, плаванье – это вам не фунт изюму. Поплавайте-ка и вы с нами. А то вы привыкли, господа корабельные инженеры, – тяп-ляп, построил корабль с метацентрической высотой с комариную плешь, – все равно, не мне, мол, на нем плавать. А вот как сделает кто-нибудь из вас вместе с нами поворот оверкиль[78]78
Корабль сделал поворот оверкиль – шутливое выражение – перевернулся. – Авт.
[Закрыть], тогда остальные научатся строить корабли как следует, особенно, если будут знать, что, построив корабль, они не останутся почивать на лаврах в Петербурге, а получат предложение идти плавать на посудине своей же постройки…
Не замечая явной издевки, наш молодой и талантливый корабельный инженер накалился от этих слов до белого каления.
– Да, поймите же вы, черт возьми, – закричал он, – что все имеет свои пределы! Имеете ли вы хотя бы отдаленное понятие о науке, именуемой теория корабля?
– И даже очень. Меня, государь мой, этой науке учил в корпусе сам Бригер: у него будешь иметь не только отдаленное понятие.
– О чем же вы в таком случае со мною спорите и в чем виноваты корабельные инженеры? – искренне изумился Костенко. – Рассудите-ка спокойно, что может случиться, если корабль рассчитан на 1100 тонн полного запаса угля, а в него запихивают 2500, да еще большую часть этого сумасшедшего количества накладывают выше ватерлинии!
– Оттого и накладывают выше, что, проектируя корабль, вы не оставили больше места ниже, – спокойно возразил ему его оппонент с самым простодушным видом.
Тут инженерное сердце не выдержало, и, плюнув в сердцах, он ушел, чертыхаясь, из кают-компании и отправился искать утешения у единственной сочувствующей ему души – у Арамиса.
Лишившимся кают-компании офицерам командир уступил свое помещение, которым он и так на походах не пользовался, переселяясь в штурманскую рубку под мостиком.
Ревел шторм, когда мы входили в Angra Pequeña. В плохо защищенную бухту входила с океана крупная зыбь, на которой качались ожидавшие уже нас немецкие пароходы-угольщики. Ветер был так силен, что когда наш броненосец, отдав якорь на своем месте по диспозиции, стал разворачиваться, приходя на канат, его чувствительно кренило на подветренный борт. Когда же, вытравив нужное количество якорного каната, попробовали его задержать, он, вытянувшись в струну, лопнул, как гнилая каболка[79]79
Прядь смоляного каната. – Сост.
[Закрыть]. Бросив буек на месте потерянного якоря, отдали немедленно второй, и, только помогая ему машинами, удалось задержать сучившуюся цепь и положить стопора.
О погрузке угля в таких условиях нечего, конечно, было и думать.
К вечеру ветер начал стихать, но зыбь была еще довольно крупная. Адмирал приказал сигналом послать команды на свои угольщики с тем, чтобы, захватив с собой возможное количество пустых угольных мешков, они насыпали бы их в трюмах пароходов углем, приготовив все к подъему, как только угольщики получат возможность ошвартоваться у борта своих броненосцев.
С большим трудом и риском разбить зыбью шлюпки, спущены были на воду баркас и паровой катер, и я получил приказание отправляться с назначенными людьми на пароход. В помощь мне был дан прапорщик Андреев-Калмыков. Процедура пристать к пароходу и выгрузить на него людей оказалась еще труднее, ибо у парохода не было подветренного борта: он имел отданными оба якоря и сильно ходил на них, подставляя океанской зыби то один свой борт, то другой. И вот, когда та сторона, к которой я пристал со своими катером и баркасом становилась наветренной, наступали для меня жуткие моменты: баркас и катер вскидывало на огромной зыбине чуть ли не в уровень с верхней палубой парохода, затем обе мои шлюпки стремительно проваливались в образующуюся под ними бездну и встревоженные лица перегнувшихся через борт своего парохода немцев виднелись где-то высоко, высоко над головой. Люди мои поднимались по спущенному с парохода штормтрапу[80]80
Штормтрап – веревочная лестница. – Авт.
[Закрыть], операция, которая требовала большой ловкости и представляла серьезную опасность оказаться с переломанными ногами, если начать подниматься не вовремя и не успеть уйти вверх от стремительно вскидываемой зыбью шлюпки.
К счастью, удалось проделать всю процедуру выгрузки благополучно, не покалечив людей и не разбив шлюпок, и выбравшись последним на палубу «немца», озябший, мокрый и охрипший, я с радостным сердцем и со вздохом облегчения приказал катеру отваливать с баркасом на броненосец. А затем, когда катер отвалил, мы долго еще наблюдали с капитаном парохода жуткую картину, как эти две скорлупки боролись с разъяренной стихией моря, то взлетая на пенистый гребень волны, то пропадая в пропасти между двумя валами.
Озябшая на холодном ветру и вымокшая команда с наслаждением полезла в теплые трюмы парохода и энергично принялась за работу, закончив ее задолго до того, как зыбь и ветер позволили нам сняться с якоря и идти к броненосцу для погрузки.
В маленькой, но уютной кают-компании строгого немецкого парохода было так приятно сидеть на мягком диване под качающейся керосиновой лампой и, попыхивая сигарой, беседовать со стариком-капитаном, который, к большой для меня радости, ибо я не владел немецким языком, – говорил по-французски, хотя и с трудом. Старик, видимо, не менее моего был рад свежему человеку и, если мы, в количестве 25 человек, успели надоесть друг другу за долгое плавание без внешних впечатлений, то что же можно было сказать про маленький немецкий пароход, кают-компанию которого составляли всего-то 5–6 членов. Старик-капитан до того расчувствовался, что в конце ужина распорядился раскупорить бутылку шампанского, которую мы распили за успех нашего оружия. Было уже около полуночи, когда я с наслаждением вытянулся на узкой койке отведенной мне немцем каюты и, усыпленный хмелем выпитого шампанского и мерной качкой парохода, заснул глубоким сном.
Меня разбудил шум работающей лебедки. Пароход уже не качался. По доносившимся до меня звукам я понял, что «немец» выбирает якорь. Быстро одевшись, я вышел на палубу и поднялся на мостик. Было чудное раннее утро, мертвый штиль; солнце еще не поднималось, но на рейде все было в движении, справа и слева один за другим снимались с якорей угольщики и направлялись к своим кораблям. Вот подняли якоря и мы, и старик-капитан дал ход машине. Вдруг откуда-то снизу раздался звучный, красивый голос и по заштилевшему рейду полилась бессмертная серенада Брага. Удивление мое возросло еще больше, когда я различил французские слова.
– Кто это? – спросил я, пораженный, у капитана.
Старик весело улыбался, видимо, довольный произведенным на меня эффектом.
– А это наш пароходный кок, француз, – ответил он мне, – он у меня всегда поет, когда разводит огонь в камбузе.
Это чудесное утро так ясно запечатлелось в моей памяти, точно я его пережил вчера.
Грузили на этот раз мы уголь недолго. К полудню вновь ревело, как накануне, и пароход пришлось отпустить до ночи, когда опять заштилело. Так повторялось несколько дней кряду: с полудня – шторм, с полуночи – штиль. Благо, хозяева этих вод – немцы – нас не тревожили, и мы могли стоять там, сколько нам вздумается. Наконец, погода установилась окончательно, и мы докончили свою погрузку.
Как только позволила погода, был спущен водолаз и после долгих поисков нашел потерянный нами якорь. Выбрав конец оборванного каната в клюз, мы приклепали его к цепи, и остались стоять на потерянном было якоре, подняв и убрав второй.
* * *
Три дня плыли мы еще вдоль западного берега Африки, направляясь к югу. В продолжении всего этого пути имели крупную встречную зыбь, которая все увеличивалась по мере нашего приближения к мысу Доброй Надежды.
В Николин день, 6 декабря, шли уже в виду этого знаменитого мыса, тяжело зарываясь носом в крупную зыбь, крейсера же наши качало уже свирепо.
Скверная погода не помешала нам, однако, превесело провести этот торжественный день тезоименитства Государя Императора. В нашей кают-компании, к тому же, изобиловали Николаи и, кроме командира, праздновали в этот день свои именины пять офицеров.
Вечером была зажжена традиционная жженка и пропет весь репертуар сольных и хоровых номеров, под управлением плававшего у нас большого музыканта и довольно известного в России композитора, автора популярной баллады «Ермак», – Добровольского, занимавшего на эскадре должность флагманского обер-аудитора и жившего у нас за неимением свободного помещения на «Суворове».
Ритуал приготовления жженки строго соблюдался у нас по раз навсегда выработанному шаблону. В кают-компании ставилась на стол ендова и наливалась наполовину соответствующими напитками. Поверх ендовы клались накрест два обнаженных кортика и сверху них головка сахара. Перед ендовой становился лейтенант Славинский, главный мастер по приготовлению жженки, вооруженный бутылкой коньяку. По бокам его – два ассистента-мичмана. Хор собирался вокруг пианино, за которое садился Добровольский. Он был торжественен и серьезен. Раньше, чем начинать, он обычно читал нам наставление о том, как именно нужно петь.
– Нужно оттенять, господа, смысл того, что вы поете, – говорил он, – а то у вас все на один лад выходит. Например, вы, Николай Александрович, – обращался он к мичману Сакеллари, – у вас совершенно одинаково выходит, поете ли вы «Много лет, говорят, Это было назад…» или же «Это страшное мертвое тело…»
– А это нужно петь так – и аккомпанируя себе на пианино, он пел хриплым тенорком: «Это стр-р-рашное мер-р-ртвое тело…»
Мы убеждались в том, что так выходит гораздо чувствительнее, и, репетируя это место, для усиления впечатления простирали руки со скрюченными пальцами и старались изображать на лицах выражение безграничного ужаса. Наконец репетиция закончена.
– Готово? – раздается нетерпеливый голос лейтенанта Славинского.
– Готово!
Старики и безголосая публика, не подпускавшаяся к пианино, усаживались по креслам и диванам. Наступала тишина. После этого тушился свет и под аккомпанемент хора, певшего что-нибудь тихое и меланхолическое, начиналось священнодействие. Славинский обливал голову сахара коньяком и поджигал его. Коньяк вспыхивал таинственным синеватым пламенем, которое он поддерживал непрерывно, подливая из бутылки. По мере того, как разгоралось пламя жженки и все чаще и чаще слышалось шипение падающих в нее капель расплавленного сахара, хор переходил на все более и более бравурные вещи. Когда же, вслед за последним плеском коньяка, вся поверхность ендовы начинала пылать ярким синим пламенем, и остававшийся небольшой кусок сахара с громким шипением проваливался и исчезал в море огня, – хлопали в потолок пробки шампанского, ассистенты Славинского, высоко подняв бутылки, заливали пеной французского вина пожар ендовы, вновь включалось полностью все освещение, хор и пианино гремели мощными аккордами и усатые лейтенанты, взявшись за руки, как ведьмы в шабаш на Лысой горе, пускались в пляс вокруг длинного стола.
– Имениннику – чарочку!
* * *
Мы еще не расходились, когда нам сообщили с вахты, что эскадра вступила в Индийский океан и легла на NО.
Этот новый океан встретил нас в высшей степени негостеприимно: очень свежий SW, близкий по силе к шторму, крупная волна, к счастью для нас – попутная. Мыс Доброй Надежды не оправдал своего ласкового названия.
С нашей точки зрения, ему куда более пристало бы сохранить свое древнее название «Мыса бурь», ибо мы вступали в Индийский океан с плохими предзнаменованиями. Перед нашим уходом из Angra Pequeña по эскадре распространился слух, что Порт-Артур, а с ним и наша 1-я Тихоокеанская эскадра доживают свои последние дни; и точно в подтверждение этой скверной вести Индийский океан нас встретил с гневом и яростью, точно не хотел пускать нас дальше.
На другой день шторм ревел уже вовсю. Наши броненосцы высоко вскидывали свои кормы и уходили носами целиком в воду, но боковая качка была невелика. Зато на наши крейсера и транспорты жалко было смотреть. В особенности жуткую картину представлял собой крошечный буксир «Русь», но он мужественно держал свое место в строю, взлетая, как пробка, на пенистый гребень волны и пропадая вдруг совершенно из глаз между двумя огромными валами.
Но это не было еще апогеем шторма; он наступил на следующий день.
Океан представлял жуткую и величественную картину. Не только более молодые офицеры признавались, что никогда не доводилось им видеть такой огромной волны, но даже наш командир, старый морской волк, видавший виды, плававший по всем морям и океанам света, признавался нам откровенно в том же. Красота картины усиливалась ярким солнцем на совершенно безоблачном небе. Выражение «волны ходили, как горы» было уже не фигуральным, а вполне отвечающим действительности. Когда между нами и впереди нас идущим «Бородино» вставала волна, мы с мостика не видели даже его мачт. То же самое было и с идущим позади нас «Ослябей», и это несмотря на короткое между нами расстояние в каких-нибудь два кабельтова и на солидную высоту нашего переднего мостика над водой. На полуют нельзя уже было посылать людей, ибо мы брали уже ютом воду. С грустью смотрели мы, как беспощадное море слизывало мешок за мешком сложенный на полуюте уголь, который мы еще не успели убрать в ямы. Внутри броненосца повсюду ходила вода, переливаясь с глухим рокотом с борта на борт при размахах качки.
После смерти своего любимца Андрюшки мой сожитель получил с какого-то корабля в подарок и в утешение от одного из своих друзей щенка, который занял опустевшие после Андрюшки места в нашей каюте и в наших сердцах. Зайдя зачем-то в каюту, я остолбенел от представившейся мне картины: в каюте, как и повсюду внутри корабля, было по щиколотку воды; в тот момент, когда я открыл дверь, броненосец сильно накренило, вода с глухим рокотом полилась в сторону крена, и из-под койки выплыл огромный сапог Шупинского, за который судорожно цеплялся, как за спасательный прибор, наш щенок Бобик, о существовании которого мы совершенно забыли в пылу горячей работы. Бобик с сапогом, сопровождаемые более мелкими предметами, увлекаемые потоками воды, быстро проплыли мимо меня и очутились в противоположном углу каюты в ожидании, когда обратный размах броненосца снова загонит их под койку. Я не стал, конечно, ожидать того же и извлек мокрого и дрожащего щенка из компании сапог, туфель, щеток и прочих неодушевленных предметов, которые могли продолжать плавать, сколько им было угодно. Вытерев и приласкав дрожавшую и жалобно повизгивавшую собачку, я положил ее на койку, закутав в старые брюки ее хозяина.
Не загляни я в каюту, что легко могло случиться еще долгое время, Бобик наш, без сомнения, утонул бы. И это случилось бы еще раньше, не попадись ему под лапы гордость их хозяина – знаменитые «сапоги Нансена», которыми любил похвастать мичман Шупинский. Это были действительно чудесные сапоги, в которые нога уходила целиком, до бедер, теплые, непромокаемые, и в которых хозяин их щеголял в холодные и сырые вахты в Балтийском и Немецком морях. Он называл их «сапогами Нансена», потому что видел где-то на какой-то фотографии этого знаменитого полярного путешественника точно в таких же сапогах.
Работы в тот день было всем по горло. Кроме непрерывной обычной уборки угля с палуб вниз, надо было крепить пушечные порта, ставить подпоры, забивать клинья и т. п. Боже упаси, если бы волной вышибло хотя бы один порт. Корабль неминуемо бы погиб. Наш Костенко с озабоченным лицом носился по броненосцу и почасту совещался с Арамисом.
Днем, стоя на вахте, я имел случай воочию убедиться в страшной силе океанской волны. У «Суворова», высоко на боканцах, висел спасательный 14-весельный катер. Обычно на походе все шлюпки убирались внутрь и ставились на рострах в свои гнезда на спардеке. Оставлялась висеть на шлюпбалках лишь одна из шлюпок, чтобы ее можно было быстро спустить на воду в случае падения человека за борт. И вот такая дежурная шлюпка и висела высоко с правого борта «Суворова». Вот я увидел, как под корму «Суворова» подкатил огромный вал, задрал ему высоко корму и, пенясь и играя, понес громадину в 15 000 тонн, обгоняя его и постепенно облизывая его правый борт, – по-видимому, рулевой не удержал на румбе и уклонился чуть вправо; вот пенистая верхушка волны уже под висящей шлюпкой, и в следующий затем момент мы ясно увидели, как в воду посыпались мелкие обломки, а на шлюпбалках болтались только шлюпочные тали. Вал же, точно сделав нужное дело, весело бежал уже дальше. Через несколько мгновений вдоль нашего правого борта проплыли анкерки, весла, банки и просто деревянная щепа.
Я чуть не перекрестился, как деревенская баба, и мысленно проговорил: «Господи, спаси нас и помилуй!»
Бедняге «Руси» стало уже невмоготу. Он испросил сигналом и получил разрешение адмирала увеличить ход и изменить несколько курс, чтобы подойти ближе к берегу и укрыться под ним от огромной зыби.
Перед заходом солнца транспорт «Малайя», который на эскадре иначе не называли, как «калекой», из-за постоянных приключавшихся у него поломок, верный себе, поднял сигнал об очередной поломке в его машине и о необходимости для ее починки застопорить машину. На этот раз, конечно, мы не стали его ожидать, как это делали раньше, и предоставили его самому себе. Как сейчас вижу этот огромный транспорт, освещенный багровыми лучами заходящего солнца, вздыбленный на огромной зыбине, стоящий с застопоренной машиной между двумя колоннами проходящей мимо него эскадры. Он весь расцветился каким-то длинным сигналом, а на баке у него был поднят кливер, который, однако, несмотря на свирепый ветер, мало помогал ему, и несчастная «Малайя» упорно стояла лагом к зыби. Скоро она осталась далеко позади и постепенно скрылась в быстро сгущающихся сумерках. Ей удалось присоединиться к эскадре лишь через несколько дней, когда мы стояли уже у Мадагаскара.
К ночи начало стихать и ветер задул порывами. Еще через день или два стихло совершенно, но взбудораженное море долго еще ходило сердитыми валами, как бы все еще не желая успокоиться после свирепой вспышки гнева.
На одиннадцатый день этого бурного плавания мы плыли вдоль берегов Мадагаскара, а еще через день бросили свои омытые седыми валами Индийского океана якоря между восточным берегом этого острова и небольшим островком S. Mary.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































