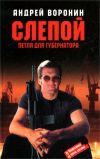Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
IV
На другое утро Ларсен почувствовал, что у него болит горло; к вечеру он был в гриппу. Гауна предложил приятелям «отложить поход до лучших времен», но, встретив всеобщее неодобрение, не настаивал. Теперь, сидя на белом деревянном ящике, он слушал своего друга. Ларсен в нижней рубашке лежал на полосатом матрасе, завернувшись в одеяло, подложив под голову низкую подушку, и говорил:
– Вчера, ложась в постель, я уже что-то подозревал; сегодня с каждым часом я чувствовал себя все хуже и хуже. Все утро я мучился, думая, что не смогу пойти с вами, что к вечеру меня свалит жар. В два часа дня так оно и было.
Слушая его объяснения, Гауна с любовью думал о Ларсене – какой он человек, насколько не похож на него самого.
– Управительница советует мне полоскать горло солью, – продолжал Ларсен. – А моя мама всегда была большой сторонницей полосканий чаем. Хотелось бы услышать твое мнение. Но не думай, что я опустил руки. Я уже бросился в бой и начал принимать «фукус». Конечно, если спросить у колдуна Табоады – а он знает побольше, чем иные дипломированные врачи, – он выбросит все эти лекарства и заставит меня целую неделю есть одни лимоны; при одной мысли об этом я уже желтею.
Разговоры о гриппе и о том, как с ним бороться, почти примирили его с судьбой, почти ободрили его.
– Только бы тебя не заразить, – сказал Ларсен.
– Ты еще веришь в это.
– Не скажи, комната-то маленькая. Хорошо еще, что сегодня ночью тебя здесь не будет.
– Ребята не переживут, если мы отложим все назавтра. И не думай, что им так уж хочется в загул, просто страшно сказать Валерге, что дело переносится.
– Их вполне можно понять, – Ларсен заговорил другим тоном: – Да, пока я не забыл: сколько ты выиграл на скачках?
– Я же сказал: тысячу песо. Точнее, тысячу шестьдесят восемь песо тридцать сентаво. Шестьдесят восемь песо с тридцатью сентаво я оставил Массантонио, который сказал, на кого ставить.
Гауна посмотрел на часы и добавил:
– Мне уже пора. Жаль, что ты не идешь.
– Ну, давай, Эмилито, – ответил Ларсен напутственным тоном. – И не пей слишком много.
– Ты же знаешь, какой я любитель, у меня есть воля, и не говори со мной, как с пьянчугой.
V
Увидев парикмахера Массантонио, доктор Валерга никак не прокомментировал его появление. Гауна внутренне поблагодарил Валергу за это проявление терпимости; со своей стороны, он понял, что приглашать парикмахера было ошибкой.
Поскольку с ними был Валерга, они не стали наряжаться в карнавальные костюмы. Между собой – спрашивать мнения доктора они не решались – они делали вид, что выше этого глупого карнавала и презирают ряженых. На Валерге были брюки и полоску и темный пиджак; в отличие от молодых людей он не повязал платка на шею. Гауна подумал, что если после праздников у него останется немного денег, он купит себе брюки в полоску.
Майдана (а может, Пегораро) предложил для начала посмотреть процессию в Вилья-Уркиса. Гауна возразил, что он оттуда и там все его знают. Никто не настаивал. Валерга сказал, что можно поехать в Вилья-Девото, «ведь рано или поздно все мы там окажемся» (этот намек на находившуюся там тюрьму был встречен дружным одобрительным смехом). Воодушевленные, они направились на станцию Сааведра.
Вагон был полон ряженых. Приятели бурно выражали свое неодобрение. Вопреки их протестам Валерга был настроен примирительно. Радость Гауны слегка омрачалась опасением, что какая-нибудь из масок станет подшучивать над доктором или что Массантонио рассердит его своей робостью. Миновав Колехьялес и Ла-Патерналь, они прибыли в Вилья-Девото (или просто Вилья, как говорил Майдана). Поглядели на процессию; Валерга высказал мнение, что в этом году карнавал не такой веселый, и рассказал о карнавалах времен его юности. Зашли в клуб «Ос Мининос». Молодые люди пошли танцевать. Валерга, парикмахер (очень стеснявшийся, очень раздраженный) и Гауна беседовали, оставшись сидеть за столом. Доктор говорил о предвыборных кампаниях и конных клубах. Гауна чувствовал себя слегка виноватым перед доктором и перед Массантонио и немного сердился на последнего.
Они вышли проветриться на пустынную площадь Ареналес, а потом, перед клубом «Вилья-Девото», у них произошел короткий и неясный инцидент с людьми, находившимися по другую сторону металлической сетки.
Когда жара стала нестерпимой, появилась группа музыкантов – шумная и откровенно беспардонная. Музыкантов было всего несколько, но казалось, что их очень много, – с маленькими и большими барабанами и тарелками, с красными накладными носами на вымазанных сажей лицах, в черных балахонах. Они кричали вразнобой:
Наконец-то мы явились —
впрочем, это не беда:
только рюмку нам поставьте —
мы исчезнем без следа.
Гауна подозвал коляску. Невзирая на протесты кучера и настойчивую готовность Массантонио ретироваться, они взгромоздились на нее вшестером. Пегораро устроился на передке, рядом с кучером; сзади, на главном сидении, разместились Валерга, Массантонио и Гауна, а на приставном – Антунес и Майдана. «В Ривадавию и Вилья-Луро», – приказал Валерга кучеру. Массантонио попытался выпрыгнуть. Всем хотелось избавиться от него, но сойти ему не дали.
По пути они встречались с карнавальными процессиями, какое-то время следовали за ними, затем ехали дальше; заходили в бары и другие заведения. Массантонио, тоскливо шутя, заверял, что если он не вернется немедленно, сеньора измолотит его палкой. В Вилья-Луро был случай с потерявшимся мальчиком; доктор подарил ему бутылку лимонада с наклейкой «Прекрасные аргентинки» и потом отвел его в полицейский комиссариат, или домой к родителям. Так, по крайней мере, смутно запомнилось Гауне.
Они уехали из Вилья-Луро после трех ночи. Сев в коляску, они направились во Флорес, затем в Нуэва-Помпея. Теперь уже Антунес сидел на передке и сладким голосом распевал «Ночь волхвов». Обо всем этом отрезке у Гауны сохранились лишь обрывочные впечатления. Кто-то сказал, что Антунес там наверху распелся, как соловей, и что кучер плакал. Почему-то Гауне очень ясно, хоть и причудливо, запомнилась лошадь (что было странно, так как он сидел в глубине экипажа). Она казалась ему очень большой и какой-то угловатой, потемневшей от пота, шла она, будто спотыкаясь, широко расставляя ноги, и по временам кричала человеческим голосом (последнее ему несомненно приснилось); в другие минуты он видел лишь ее уши и загривок и испытывал к ней необъяснимую жалость. Потом на каком-то пустыре в лиловатый миг перед зарей – миг небытия – разыгралось большое веселье. Сам Гауна закричал, чтобы Массантонио держали покрепче, и Антунес разрядил в воздух свой револьвер. В конце концов они пришли пешком в усадьбу, где жил какой-то друг доктора. Их встретила свора собак, потом вышла хозяйка, еще злее, чем собаки. Хозяина не было дома. Хозяйка не хотела их пускать. Массантонио объяснял сам себе, что не может задерживаться, ведь ему надо рано вставать. Валерга распределил их комнатам. Как они потом оказались в другом месте, было тайной; Гауна помнил, как проснулся в доме, сколоченном из листов жести; как у него разламывалась голова; как они ехали в очень грязной повозке, а затем в трамвае; помнил ясный, очень яркий день в каком-то большом дворе в Барракасе, где они играли в шары; чье-то замечание в отношении того, что Массантонио исчез – он услышал это известие с большим удивлением и тут же забыл о нем; ночь в публичном доме на улице Освальдо Круса, где услышав мелодию «Лунный свет», которую играл слепой скрипач, он горько пожалел, что пренебрег своим образованием, и испытал горячее желание побрататься со всеми присутствующими, оставив в стороне – как он заявил вслух – индивидуальные частности и превознося благородные побуждения. Затем он почувствовал, что ужасно устал. Они куда-то шли под дождём. Заглянули – чтобы освежиться – в турецкие бани (однако теперь он видел, как дождь поливает помойку в Баньядо-де-Флорес – пустырь, где жгут мусор – и грязные борта повозки). Из турецких бань ему запомнилась лишь некая маникюрша, накрашенная и в халате, которая серьезно разговаривала с каким-то неизвестным, и утро – бесконечное, туманное, счастливое. Он помнил также, как шел по улице Перу, спасаясь от полиции, – ноги были точно ватные, но в голове прояснилось; как вошел в кинематограф, как обедал в пять вечера, страшно голодный, среди биллиардных столов в кафе на Авенида-де-Майо, как, сидя на капоте такси, двигался по центру среди карнавальной процессии и как сидел на спектакле в театре «Космополита», думая, что находится в «Батаклане».
Они наняли второй таксомотор, весь увешанный внутри маленькими зеркальцами; впереди, над ветровым стеклом, болтался чертик. Гауна испытал прилив уверенности, велел шоферу везти их в Палермо и возгордился, услышав слова Валерги: «От вас, ребята, осталась одна тень, зато у Гауны и у меня, старика, есть ещё порох в пороховницах». При въезде в Арменонвиль они слегка столкнулись с частной машиной, с «линкольном». Из «линкольна» выскочили четыре юноши и девушка в маске. Если бы не вмешательство Валерги, юноши побили бы шофера таксомотора, однако тот почему-то не проявил благодарности, за что и получил от доктора в назидание пару надлежащих слов.
Гауна попытался подсчитать, сколько раз с воскресного вечера он напивался допьяна. Никогда еще у него так не болела голова и он не чувствовал себя таким усталым.
Они вошли в зал, «большой, как страница “Ла Пренсы”», – объяснял Гауна, – или как павильон в Ретиро, только там нет модели паровоза, которая бежит по рельсам, когда бросишь десять сентаво». Зал был ярко освещен, украшен вымпелами, флажками и разноцветными шарами, по краю шел ряд деревянных колонн, на дверях висели шторы; здесь была масса народа, все гудело, гремела оглушительная музыка. Гауна обхватил голову руками и закрыл глаза; он чувствовал, что вот-вот закричит от боли. Через какое-то время оказалось, что он разговаривает с девушкой, приехавшей с парнями в «линкольне». На ней была полумаска и домино. Он не заметил, блондинка она или брюнетка, но рядом с ней ему было хорошо (головная боль каким-то чудом прошла), и с той ночи он часто думал о ней.
Некоторое время спустя вернулись парни из «линкольна». Они вспоминались Гауне так, словно он видел их во сне. Один казался выдающимся деятелем из учебника Гроссо, с невероятно худым лицом. Другой был высокий и бледный, словно слепленный из хлебного мякиша; третий – блондин, тоже бледный, большеголовый; у четвертого были кривые ноги, как у жокея. Этот последний спросил Гауну: «Кто вам позволил красть нашу маску?» и, еще не договорив, встал в боксерскую позу. Гауна быстро нащупал на поясе свой нож. Это походило на собачью драку: оба очень быстро отвлеклись. В какой-то миг Гауна услышал голос Валерги, говорившего убедительным, отцовским тоном. Потом он вдруг почувствовал себя замечательно, огляделся и сказал девушке: «Похоже, мы снова одни». Они пошли танцевать. Посреди танца он потерял девушку в маске и вернулся к столику, где сидели его приятели и Валерга. Тот предложил прогуляться к озерам, «чтобы немного освежиться и не закончить вечер в полицейском участке». Гауна поднял глаза и увидел у стойки девушку в маске и блондинистого юношу. В приливе досады он принял предложение доктора. Антунес указал на начатую бутылку шампанского. Они наполнили бокалы и выпили.
Потом его воспоминания искажаются и путаются. Девушка в маске исчезла. Он спрашивал о ней, но ему не отвечали или пытались успокоить уклончивыми фразами, будто он был болен. Однако он не был болен. Он просто устал (поначалу как бы затерявшись в усталости, огромной, тяжелой и распахнутой, как морское дно; в конце концов, затаившись где-то в самой ее сердцевине, успокоенный, почти счастливый). Затем он оказался среди деревьев, в кольце людей: пристально следя за подвижным ртутным отблеском луны на лезвии своего ножа, он вдохновенно бился с Валергой из-за денег (что было нелепо, какие денежные споры могли быть у него с доктором?)
Он открыл глаза. Теперь отблески появлялись и исчезали в щелях между досками пола. Он догадывался, что снаружи – наверное, совсем близко – властно сияло утро. В глазах, в затылке ощущалась глубокая, тягучая боль. Он лежал в комнатушке с деревянными стенами, на койке, в полумраке. Пахло травой. На полу, между досками, – словно дом стоял верх тормашками, и вместо пола был потолок, – он видел полоски солнечного света и темное, бутылочно-зеленое небо. Иногда полоски расширялись, был виден полный света подвал, а зеленая глубь колыхалась. Это была вода.
Вошел человек. Гауна спросил, где он находится.
– Ты не знаешь? – услышал он в ответ. – На причале озера в Палермо.
Человек приготовил ему мате и отечески поправил подушку. Его звали Сантьяго. Довольно грузный, лет сорока с лишним, светловолосый, очень загорелый, с добрыми глазами и шрамом на подбородке. На нем была синяя фуфайка с длинными рукавами.
– Вчера вечером я вернулся и нашел тебя на койке. Немой ухаживал за тобой. Я так думаю, что тебя кто-то принес.
– Нет, – ответил Гауна, тряхнув головой. – Меня нашли в лесу.
От этого движения у него закружилась голова. Потом он сразу же заснул. Проснувшись, он услышал женский голос, показавшийся ему знакомым. Он встал – сразу же или много погодя, сказать было трудно. Каждое движение отдавалось в голове тупой болью. За дверью, в ослепительном свете дня он увидел девушку, стоявшую спиной. Он ухватился за притолоку. Ему хотелось увидеть лицо девушки. Хотелось увидеть потому, что он был уверен: это дочка колдуна Табоады.
Он ошибся. Девушка была ему незнакома. Наверное, это была прачка, так как она подхватила с земли плетеную корзину. Близко, у самого лица, Гауна услышал какой-то хриплый лай. Прищурив глаза, он обернулся. Лаял человек, похожий на Сантьяго, только шире, темнее, с бритым лицом. На нем была сильно поношенная серая фуфайка и синие штаны.
– Что вам? – спросил Гауна.
Всякое произнесенное слово было точно огромным животным, которое, ворочаясь в голове, грозило разнести ее вдребезги. Человек снова издал нечленораздельные хриплые звуки. Гауна понял, что это Немой. Немой хотел, чтобы он вернулся на койку.
Он вошел и снова лег. Проснувшись, почувствовал, что ему намного легче. Возле него были Немой и Сантьяго. С Сантьяго они дружески поговорили. Речь шла о футболе. Сантьяго и Немой ухаживали за полем в одном футбольном клубе. Гауна рассказал о пятой лиге Уркисы, в которую его взяли с улицы, когда ему исполнилось одиннадцать лет.
– Однажды, – сказал Гауна, – мы играли против ребят из клуба КДТ.
– И эти из КДТ врезали вам по первое число, – отозвался Сантьяго.
– Куда там! – возразил Гауна. – Когда они забили свой единственный гол, мы к этому времени уже накидали им пять штук.
– Немой и я работали в КДТ. Ухаживали за полем.
– Да вы что! И ведь могло случиться, что мы виделись с вами в тот день!
– Конечно. К этому я и веду. Вы помните раздевалку?
– Как не помнить. Деревянный домик, слева, между теннисными кортами.
– Точно, браток. Вот там мы с Немым и жили.
Возможность встречи в тот далекий день и открытие, что у них есть общие воспоминания, касающиеся топографии уже не существовавшего клуба КДТ и деревянного домика, – все это раздуло теплый огонек зарождавшейся дружбы.
Гауна рассказал о Ларсене и о том, как они переехали в Сааведру.
– Теперь я болею за «Платенсе», – заявил он.
– Неплохая команда, – ответил Сантьяго. – Но я, как говорил Альдини, предпочитаю «Экскурсьонистас».
Затем Сантьяго рассказал, как они остались без работы и как потом получили концессию на озере. Сантьяго и Немой казались моряками – два этаких старых морских волка. Быть может, оттого, что сдавали лодки напрокат; быть может, из-за фуфаек и синих штанов. Каждое из двух окошек дома было обрамлено спасательным кругом. Со стен смотрело пять фотографий: Умберто I, пара молодоженов, аргентинская футбольная команда, которая на Олимпийских играх проиграла уругвайцам, команда «Экскурсьонистас» (в цвете, вырезка из журнала «Эль Графико») и над койкой Немого – сам Немой.
Гауна приподнялся.
– Мне уже лучше, – сказал он. – Думаю, что дойду.
– Спешить некуда, – заверил его Сантьяго.
Немой приготовил мате. Сантьяго спросил:
– А что ты делал в лесу, когда Немой тебя нашел?
– Если бы я знал, – ответил Гауна.
VI
Самым странным во всем этом было то, что Гауну неотвязно преследовала мысль о приключении на озере, а девушка в маске составляла лишь часть этого приключения, часть волнующую, навевавшую сладкую тоску, но вовсе не самую главную. По крайней мере так, хотя и другими словами, он сказал Ларсену. Быть может, он хотел подчеркнуть, что не придает особой важности делу, связанному с женщинами. Есть признаки, подтверждающие эту версию; хуже, что они же ее и опровергают: например раз вечером он заявил в кафе «Платенсе»: «Еще чего доброго окажется, что я влюблен». Чтобы сказать такое своим друзьям, человек с характером Гауны должен был быть помрачен страстью. Но эти слова свидетельствуют, что он и не скрывал своих чувств.
В остальном же, он сам признавался, что так и не видел лица девушки, а если и видел мельком, то был слишком пьян, ибо на его воспоминания – обрывочные, фантастические и не внушающие доверия – полагаться было нельзя. И все же занятно, что эта неизвестная девушка произвела на него такое сильное впечатление.
То, что произошло в лесу, тоже было странно. Гауна так и не смог объяснить все связно и вместе с тем так и не смог забыть. «Если сравнивать это с девушкой, – говорил он, – она, собственно, почти не имеет значения». Во всяком случае, девушка оставила в его душе яркий и неизгладимый след; но яркость эта шла от других видений, уже без девушки, которые предстали перед ним какое-то время спустя.
После этого приключения Гауна стал другим человеком. Хоть оно может показаться невероятным, но благодаря этой истории, при всей ее смутности и туманности, он приобрел определенный престиж у женщин, и даже, по словам иных, отчасти поэтому в него влюбилась дочка колдуна Табоады. Все это – нелепая перемена, совершившаяся с Гауной, и ее нелепые последствия – очень не нравилось его приятелям. Прошел слушок, будто они собрались подвергнуть его «терапевтической процедуре» и будто доктор их отговорил. Быть может, это выдумано или преувеличено. Однако суть в том, что они и раньше никогда не считали его полностью своим, а теперь уже сознательно смотрели на него как на постороннего. Проявлять эти чувства им мешала общая дружба с Ларсеном и почтение к Валерге – их общему грозному покровителю. Так что внешне отношения между Гауной и компанией оставались прежними.
VII
Мастерская помещалась в сарае из листов жести, стоявшем на улице Видаль, в нескольких кварталах от сквера Сааведра. Как утверждала сеньора Ламбрускини, летом сарай был духовкой, а зимой, в холода, когда все листы обрастали инеем, туда нечего было и соваться. И все же рабочие держались за мастерскую Ламбрускини. Клиенты были правы, что и говорить: от работы там еще никто не умер. Для хозяина самым приятным делом было попивать мате или кофе – в зависимости от времени дня – и слушать болтовню ребят. Я думаю, что за это они его и уважали. Он был не из тех зануд, которым всегда есть что сказать. Ламбрускини помешивал мате трубочкой и слушал, слушал – красное лицо его светилось благодушием, глаза стекленели, нос пламенел, точно огромная клубничина. Когда воцарялась тишина, он рассеянно спрашивал: «А что еще слышно?», словно боялся, что если все темы будут исчерпаны, ему придется вернуться к работе или утомляться, говоря самому. Конечно, когда он пускался вспоминать об отцовском доме или об уборке винограда в Италии, или о своих годах учения в мастерской Вильоне, где он помогал подготовить первый «гудзон» Риганти, он преображался. Распалившись, он говорил и говорил, бурно жестикулируя. Тогда ребята скучали, но прощали ему, потому что это быстро проходило. Гауна делал вид, что ему тоже скучно, но порой спрашивал себя, что же было скучного в рассказах Ламбрускини.
В тот день Гауна пришел в час дня и огляделся, ища хозяина, чтобы извиниться за опоздание. Ламбрускини сидел в углу на корточках и пил кофе. Гауна открыл было рот, но Ламбрускини сказал:
– Ты много потерял сегодня. Тут явился один клиент со «штутцем». Хочет, чтобы мы подготовили машину к Национальным гонкам.
Гауна попытался заинтересоваться известием, но не смог. В этот день всё его раздражало.
Он оставил работу незадолго до пяти. Оттер руки до локтей тряпкой, смоченной в бензине, потом взял кусочек хозяйственного мыла и вымыл руки, ноги, шею, лицо; тщательно причесался, смотрясь в осколок зеркала. Одеваясь, он думал, что после мытья этим котелком холодной воды ему стало лучше. Сейчас он пойдет в «Платенсе» и поговорит с ребятами. Внезапно он ощутил огромную усталость. Ему уже не было интересно узнать, что произошло прошлой ночью. Захотелось пойти домой и лечь спать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.