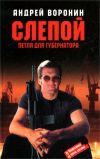Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
XXXVI
Утром в субботу 1 марта 1930 года Гауну «обслуживали» в парикмахерской на улице Конде.
– Так значит, Праканико, – обратился он к парикмахеру, – у тебя нет никакой надежной лошадки на сегодняшние забеги?
– Не говорите мне про скачки, – ответил Праканико, – мне вовсе не хочется умереть в приюте. Игры хороши для сумасшедших. Что рулетка, которая вечно обчищает меня в Мар-дель-Плата, что еженедельная лотерея, съедающая мои сбережения, на которые я мечтаю поехать летом в Мар-дель-Плата.
– Какой ты парикмахер? – спросил Гауна. – В мое время парикмахеры всегда сообщали клиентам, на какую лошадь ставить. И к тому же рассказывали подходящую к случаю забавную историю.
– За этим дело не станет. Моя жизнь почище любого романа, – заверил его Праканико. – Могу рассказать, как плавал на военном судне и так трусил, что даже укачаться было некогда. Или как раз, воспользовавшись тем, что муж уехал в Росарио, я пригласил жену зеленщика.
Гауна принялся напевать:
Ах, страшно вспомнить
мне в песне этой,
каким я грустным
сидел в кафе,
когда гуляла
моя красотка
там по Росарио – де-Санта-Фе.
– Я не расслышал, – сказал Праканико.
– Ничего, ничего, – ответил Гауна. – Просто я припомнил одну песню. Продолжай.
– Так вот, я воспользовался случаем и пригласил пройтись жену зеленщика. Я был тогда молодой и ужасно привлекательный.
Поглядев вбок и вверх, он добавил с искренним восхищением:
– Я был высокий.
(Однако он не пояснил, как ему удалось быть значительно выше, чем сейчас.)
– Мы пошли на танцы в шикарное место – «Театро Архентино». В танго мне не было равных, и когда мы начали первый танец, один бандюга хрипло так говорит: «Парень, вторая половина – для дона Я из Кордобы». Этот невежда очевидно вообразил, что в танце, который мы танцевали, была первая и вторая половина. Я тут же ответил, что он может забирать мою партнершу прямо хоть сейчас, я устал от танцев. И вылетел из театра пулей – не дай бог, громиле что-нибудь не понравится. На другой день женщина зашла ко мне в парикмахерскую, которую я держал тогда на улице Успальята, номер 900, и категорически запретила мне так недостойно вести себя на танцах. Мы снова провели сиесту вместе, в обнимку, и слово за слово, опять немного побранились. И что вы скажете? Вдруг я вижу, что она встает на весь рост, открывает ящик и достает нож «золинген», – она-то хотела отрезать хлеба, чтобы помазать его джемом, но я меньше всего мог подумать о хлебе и джеме. Я вскочил с постели, упал на колени, как святой, и со слезами на глазах просил ее меня не убивать.
Гауна посмотрел на него с удивлением. Праканико пылко и с гордостью объяснил:
– Трудные положения – не для меня. Клянусь вам чем угодно: я низкий трус. Когда я начал приударять за Доритой, она совсем еще недавно разошлась с мужем. Однажды вечером я шел к ней, и вдруг в темном месте мне навстречу выходит муж и говорит: «Я хочу с вами поговорить». «Со мной?» – спрашиваю я. «Да, с вами», – отвечает он. «Быть не может, – сразу же говорю я. – Вы наверное ошиблись». «Какие тут ошибки, – заверяет он. – Доставайте оружие, потому что я вооружен». Я задрожал как листок и стал клясться, что он жестоко ошибается; объяснил, что по соседству нет оружейной лавки, а если бы и была, то так поздно она все равно была бы закрыта, и попросил его: пусть делает со мной что хочет, только даст сперва позвонить по телефону моим девочкам и проститься с ними. Тот понял, что я жалкий трус, просто дальше некуда. У него прошел весь гнев, и он сказал, вполне здраво, чтобы я шел к Дорите, а потом мы поговорим в кафе. Я хотел было ответить, что знать не знаю никакой Дориты, но у меня язык не повернулся, как вы понимаете. Дорита спросила меня в тот вечер, что это со мной. Я сказал, что ровным счетом ничего, все превосходно. И только подумайте, какие они, эти женщины: Дорита стала меня уверять, будто у меня испуганный вид. Когда я вышел, муж ждал меня на улице, и мы пошли в кафе, раз ему так уж этого хотелось. Я со всей искренностью предложил ему свою дружбу, но он строил из себя неприступного. А потом стал объяснять, что работает в военных мастерских и что ему как нельзя кстати было бы сейчас повышение. И вот я поклялся ему не сходя с места, что я это ему устрою, и на другой же день принялся тормошить всех знакомых. Я такой дотошный, что к концу недели повышение этому прохиндею было подписано. Поверите ли, мы стали большими друзьями и виделись каждый вечер. Бывало, все втроем ходили в театр, с Доритой, безо всякого там, честь по чести. И вот так, встречаясь каждый день, мы прожили пять лет, пока этот проходимец наконец не умер от фурункула, и я смог вздохнуть.
Завязывая галстук, Гауна спросил еще раз:
– Так значит, у тебя нет никакой надежной лошадки на сегодняшние забеги?
Сеньор с зонтом, одетый в черное, с лицом зловещей птицы, который уже давно чинно ожидал своей очереди, вдруг заволновался и заговорил:
– Скажи ему, что есть, Праканико, скажи ему, что есть. Я знаю лошадь, которая не подведет.
С большим неудовольствием Праканико взял у Гауны деньги. Гауна нашел в жилетном кармашке старый трамвайный билет, достал карандаш и посмотрел на сеньора в черном. Тот, сильно шевеля губами, глухим, с присвистом голосом произнес имя, которое Гауна записал печатными буквами: «Кальседония».
XXXVII
И как может быть помнит кто-то из вас, Кальседония выиграла в тот день, первого марта четвертый забег. Зайдя к вечеру в парикмахерскую, Гауна получил из рук Праканико тысячу семьсот сорок песо. В таверне на углу они отпраздновали победу вермутом, пахнувшим пробкой, и довольно кислым сыром.
Гауна признал, что должен быть доволен, но возвращался домой нерадостный. Судьба, исподтишка направляющая наши жизни, вдруг проявила себя в этой удаче слишком очевидно, почти жестоко. Для Гауны этот факт имел лишь единственное возможное истолкование: он должен истратить эти деньги, как в двадцать седьмом году; должен промотать их с доктором и ребятами; должен обойти те же места и на третью ночь прийти в Арменонвиль, а потом, на рассвете – в парк; так ему будет дано вновь проникнуть в видения, которые предстали перед ним, а потом рассеялись в ту ночь, и окончательно достичь того, что, словно в экстазе забытого сна, было кульминацией его жизни.
Он не мог сказать Кларе: «Я выиграл эти деньги на скачках и потрачу их с ребятами и доктором в три карнавальные ночи». Не мог объявить, что глупейшим образом выбросит на ветер деньги, которые так нужны в доме, и, что еще хуже, проведет три ночи, мотаясь по барам и по женщинам. Пожалуй, он смог бы так поступить, но не сказать. Он уже привык скрывать от жены кое-какие мысли; но провести с ней вечер и не заикнуться о том, что на следующий отправится пьянствовать с друзьями, казалось ему умолчанием предательским и, кроме того, неосуществимым.
Клара встретила его нежно. Доверчивая радость ее любви отражалась во всем ее существе – в блеске глаз, в округлости скул, в волосах, беспечно откинутых назад. Гауна ощутил некую спазму жалости и печали. Обращаться так с человеком, который настолько его любит, подумал он, просто чудовищно. Да и, в сущности, зачем? Разве они не счастливы? Разве ему нужна другая жена? Словно решение зависело не от него самого, словно все определял кто-то третий, он спросил себя, что произойдет на следующий день. Потом решил, что никуда не пойдет, что не бросит (этот глагол заставил его мысленно содрогнуться) Клару.
Было поздно, когда они погасили свет. Кажется, они даже танцевали в тот вечер. Но Гауна не сказал, что выиграл деньги на скачках.
XXXVIII
Воскресенье выдалось хмурое и дождливое. Ламбрускини пригласил их поехать в Санта-Каталину.
– Сегодня день не для прогулок, – заметила Клара. – Лучше останемся дома. Потом, если решим, сходим в кинематограф.
– Как хочешь, – ответил Гауна.
Они поблагодарили Ламбрускини за приглашение и пообещали поехать с ними в следующее воскресенье.
Утро они провели, почти ничего не делая. Гауна читал «Историю жирондинцев»; между страницами он нашел полоску бумаги со словами «Фрейре 3721» – Клара написала их губной помадой в тот день, когда они гуляли вместе в первый раз. Потом Клара пошла готовить, они пообедали и легли отдохнуть. Когда они поднялись, Клара заявила:
– Честно говоря, у меня нет желания выходить из дому.
Гауна стал копаться в радиоприемнике. Накануне вечером он заметил, что, поработав какое-то время, тот нагревается. Часов в шесть он сказал:
– Я тебе его починил.
Взял шляпу, сдвинул ее почти на затылок и объявил:
– Пойду пройдусь.
– Ты надолго? – спросила Клара.
Гауна поцеловал ее в лоб.
– Не думаю, – ответил он.
Он подумал, что не знает. Какое-то время назад, когда он спрашивал себя, что будет делать вечером, его сердце сжимала тоска. Теперь нет. Теперь, втайне довольный, он любовался своей нерешительностью – быть может, подлинной, своей свободой – быть может, мнимой.
«Надо бы еще дождя», – подумал он, переходя площадь Хуана Баутисты Альберди. Деревья словно тонули в туманном ореоле. Было очень жарко.
Ребята скучали в «Платенсе», за мраморным столиком. Положив руки на спинки стульев Ларсена и Майданы, слегка наклонившись, бледный, сосредоточенный, Гауна сказал:
– Я выиграл больше тысячи песо на скачках.
Он посмотрел на приятелей. Позже, задним числом (но не тогда, тогда он был слишком возбужден), он припомнит, каким озабоченным стало лицо Ларсена.
– Приглашаю вас всех на сегодняшний вечер.
Ларсен отрицательно тряс головой. Гауна сделал вид, что не замечает этого. Он торопливо продолжал:
– Давайте погуляем, как в двадцать седьмом году. Пошли за доктором.
Антунес и Майдана поднялись.
– Вас блохи, что ли, кусают? – спросил Пегораро, откидываясь на спинку стула. – Сразу видна ваша неотесанность. Неужто мы уйдем отсюда, не отпраздновав, пусть даже пивом, удачу Эмилито? Садитесь, сделайте одолжение. Времени предостаточно, не спешите.
– Сколько ты выиграл? – спросил Антунес.
– Больше тысячи пятисот песо, – ответил Гауна.
– Если вы спросите его еще через полчаса, – заметил Майдана, – окажется, что куда больше двух тысяч.
– Официант! – подозвал Пегораро. – Этот сеньор угощает нас всех темной каньей.
Официант вопросительно посмотрел на Гауну. Тот кивнул.
– Несите, несите, – сказал он. – Я плачу.
Выпив, все поднялись, кроме Ларсена. Гауна спросил:
– Ты не идешь?
– Нет, брат. Я остаюсь.
– Что с тобой? – спросил Майдана.
– Я не могу, – ответил Ларсен, многозначительно улыбаясь.
– Пусть она подождет, – посоветовал Пегораро. – Им это на пользу.
– А он уж и поверил, – заметил Антунес.
– Если это не так, с чего мне отказываться? – возразил Ларсен. Гауна сказал другу:
– Но надеюсь, что ночью ты присоединишься к нам.
– Нет, старик, я не могу, – заверил его Ларсен.
Гауна пожал плечами и двинулся к выходу вслед за приятелями. Потом вернулся к столу и тихо попросил:
– Если можешь, зайди к нам и скажи Кларе, что я пошел с ребятами.
– Ты сам должен был это сказать, – ответил Ларсен. Гауна догнал остальных.
– С кем встречается Ларсен? – спросил Майдана.
– Не знаю, – сухо ответил Гауна.
– Ни с кем, – убежденно заявил Антунес. – Разве вы не понимаете, что это просто предлог?
– Просто предлог, – печально повторил Пегораро. – Этому мальчику не хватает человеческой теплоты, он эгоист, себялюбец.
Антунес пропел слащавым голосом, который уже стал раздражать его друзей:
Против судьбы никому не дано устоять.
XXXIX
– Сколько ты выиграл? – спросил доктор. Его тонкие губы слегка улыбались. – Я всегда говорю, что это самый благородный вид спорта.
На нём был синий холщовый пиджак, темные домашние брюки и альпаргаты. Он встретил их холодно, но весть о победе Гауны значительно смягчила его.
– Тысячу семьсот сорок песо, – с гордостью заявил Гауна.
Антунес, подмигнув одним глазом и подобрав левую ногу, весело заметил:
– Это то, что он признает. Хотите, я просвечу его корму.
– Не выражайся, как бандит, – укорил его доктор. – Я буду утюжить тебя всякий раз, как услышу, что ты разговариваешь, словно бандит или жулик. Приличие, молодые люди, приличие. Шалопут Альмейра, человек, замешанный во всех скандалах и сумасбродствах, устраивавшихся в его время, не говоря уж о том, что он приобрел немалую известность в те годы, когда среди золотой молодежи считалось хорошим тоном устраивать охоту на полицейских, так вот, он сказал мне – и я никогда этого не забуду, – что пристойность в одежде приносила ему больше пользы, чем карты. – Потом заметил другим, уже сердечным тоном: – Что же вы не проходите?
Все прошли на кухню и, усевшись на самодельных скамьях и на плетеных стульях (иные из которых были совсем низкими), окружили доктора. Валерга торжественно приготовил мате, отпил его и передал другим.
Наконец Гауна осмелился и заговорил:
– Мы собираемся поразвлечься на карнавале и очень хотели бы, чтобы вы поддержали нашу компанию.
– Я уже говорил тебе, сынок, – ответил Валерга, – что я не банк, чтобы поддерживать компании. Но я с удовольствием принимаю приглашение.
– Когда доктор узнает, на когда это приглашение, он застрелит Гауниту, – заметил Антунес с нервным смешком.
– На когда же? – спросил доктор.
– На сегодня, – ответил Гауна.
Доктор повернулся к Антунесу.
– Ты что себе вообразил, а? Думаешь, я старая кляча и не могу взбрыкнуть при звуке боевой трубы?
– Куда мы пойдем? – спросил Майдана, быть может затем, чтобы отвлечь их от спора.
Гауна понял, что должен быть непреклонным.
– Мы повторим, – сказал он, – маршрут двадцать седьмого года.
– Пройдем по тем же местам? – с тревогой спросил Пегораро. – Зачем? Надо посмотреть, что есть нового, идти в ногу со временем.
– Кто ты такой, чтобы высказывать тут свое мнение? – возразил доктор. – Слово за Эмилито, потому что деньги выиграл он. Это ясно всем или надо прокричать каждому в ухо? Я полностью согласен, пусть хоть ему заблагорассудится кружить по тем же местам, точно вол на току.
Доктор прошел в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся с платком на шее, шалью из викуньи на плечах, в черном пиджаке, тех же брюках и лаковых, очень блестящих туфлях. От него исходил почти женственный запах гвоздики – быть может, талька. Свежепричесанные волосы жирно блестели.
– В поход, рекруты, – скомандовал он, открывая двери и пропуская ребят вперед. Потом обратился к Гауне: – А теперь?
– Теперь мы зайдем в парикмахерскую Праканико, – сказал Гауна. – Это благодаря ему я выиграл деньги. Было бы подло его не пригласить.
– Наш друг всегда любил гулять в обществе парикмахеров, – заметил Пегораро.
– Наверное он забыл поговорку, – высказался доктор, – идти в парикмахерскую и вернуться без парика.
Все долго смеялись. Пегораро прошептал на ухо Гауне:
– Доктор в прекрасном настроении, – в голосе Пегораро слышались восхищение и теплота. – Мне кажется, пока нечего опасаться неприятных стычек.
Довольно долго они стучали в дверь дома, где жил парикмахер. Когда Валерга уже начал проявлять признаки нетерпения, дверь открыла жена Праканико.
– Праканико дома? – спросил Гауна.
– Куда там, – ответила сеньора – Вы же видите, он целый год работает как лошадь, всегда на передовой, как и полагается, раб своего долга, но вам даже не представить, что на него находит, когда начинается карнавал. За ним зашел Савастано с площади Онсе – еще один, кого я просто не переношу, – и оба отправились поглядеть, не найдется ли для них местечка в аллегории на повозке доктора Карбоне.
Они сели в поезд на станции Сааведра. Гауна понял, что его план повторить в точности все действия и весь маршрут трех карнавальных дней двадцать седьмого года был неосуществим: отсутствие – на его взгляд, дезертирство – парикмахера безмерно огорчало его. Он утешался мыслью, что даже будь с ними Праканико, все равно компания была бы другой, ведь, если подумать хорошенько, Праканико – не Массантонио, но несомненно оба были парикмахерами, и этот факт – к чему скрывать – имел огромное значение. Компания двадцать седьмого года состояла из доктора, ребят и парикмахера. И печальная правда заключалась в том, что парикмахера-то теперь с ними не было.
XL
Они сошли в Вилья-Девото и по улице Фернандеса Энсисо дошли до площади Ареналес. По пути они встретили несколько ряженых – казалось, те сбились с пути, и им было стыдно.
– Хорошо еще, водой не обливают, – пробормотал Майдана.
– Пусть только попробуют, – мрачно отозвался Антунес. – Своим 38-м я продырявлю лоб любому.
Доктор похлопал Гауну по спине.
– Твоя прогулочка может получиться скучноватой, – сказал он улыбаясь. – Оживление прошлых лет не имеет места быть.
– Вы помните карнавал двадцать седьмого года? – спросил Гауна. – Проспекты казались сплошным праздничным шествием.
– Еще нет и восьми, – заметил Майдана, – а уже глаза слипаются. Нет жизни, нет веселья. Все бесполезно.
– Бесполезно, – подтвердил доктор. – В этой стране все катится к худшему, даже карнавалы. Кругом сплошной упадок, – и через несколько секунд медленно добавил: – Самый жалкий упадок.
– Пойдёмте выпьем по рюмке в этот клуб с бразильским названием – «Лос Мининос» или что-то в этом роде, – предложил Гауна.
Майдана отрицательно качнул головой. Потом снизошел до объяснения:
– Нас не пустят. Мы не члены клуба.
– Но в прошлый раз пустили, – настаивал Гауна.
– В прошлый раз, – объяснил Пегораро, – у Бриолина были приятели среди членов правления.
Майдана молча кивнул. Они пошли дальше, не особенно заботясь, в каком направлении.
– Ещё слишком рано, чтобы уставать, – запротестовал доктор.
Они продолжили путь. Через какое-то время увидели вдали коляску.
– Коляска! – крикнул Гауна.
Они подозвали экипаж.
– В Ривадавию, – приказал Валерга.
Доктор и Гауна устроились на главном сидении, трое ребят – на приставной скамейке. Майдана, оказавшийся сбоку и почти снаружи, спросил:
– Маэстро, у вас не найдется для этих сельдей бочки чуть побольше?
Доктор задумчиво сказал:
– Надо найти приличное заведение. Я бы поел мяса на углях.
– Я не голоден, – с грустью предупредил Пегораро. – Могу обойтись ломтиком салями и несколькими пирожками с мясом.
Гауна думал о карнавале двадцать седьмого года – тогда с первого же вечера все было иначе. Словно говоря с ребятами, он сказал себе: «Тогда было другое воодушевление, человечность, тепло». Ему казалось, что и он сам в тот раз был меньше озабочен личными обстоятельствами, беспечнее отдавался общению с друзьями, ночному веселью. Быть может, в двадцать седьмом году они уехали с Сааведры, уже пропустив две-три рюмки. А может, теперь ему казалось, что он вспоминает начало той прогулки, а на самом деле вспоминал то, что было потом – конец первой ночи или середину второй.
– Пожалуй, мне лучше съесть немного тушеного мяса по-испански, – продолжил Пегораро, передумав. – С этой тяжестью в желудке мне надо строго придерживаться легкой пищи.
Гауна убеждался, что настроение двадцать седьмого года вернуть нельзя; однако когда они, уклоняясь от встречной процессии, свернули на пустую улочку с неровными рядами домов, он ощутил некий отзвук этого настроения – как улавливаешь отзвук забытой мелодии, – долетающий издалека, легкими, но упорными дуновениями.
– Сделайте мне одолжение, доктор, взгляните на этого цыпленка, – воскликнул Пегораро, наполовину свесившись из коляски; они выезжали на проспект и на повороте почти прижались к тротуару. – Этот цыпленок allo spiedo [39]39
на вертеле (итал.)
[Закрыть], вон тот, второй, который сейчас уже почти скрылся. Не говорите, что вы его не видели.
– Забудь его, – посоветовал доктор. – Ты входишь в заведение, садишься, расправляешь салфетку и раз – тебя самого уже общипали, как курицу.
– Не обижайте Гауну, – жалобно попросил Пегораро.
– Я никого не обижаю, – грозно отозвался доктор.
– Пегораро имел в виду, – встревожено вмешался Майдана, – что Эмилито сегодня не станет затевать споры из-за каких-то жалких песо.
– Почему он сказал, что я обижаю? – настаивал доктор.
Антунес подмигнул и подобрался на сидении.
– Мы должны беречь денежки Гауны, как свои собственные, – комическим тоном объяснил он.
– Другого такого цыпленка нам не найти, – простонал Пегораро.
– Стойте, маэстро, – приказал Валерга кучеру, пожав плечами, и повернулся к Гауне: – Плати, Эмилио.
Когда они вошли в таверну, доктор заметил:
– В мое время цыплятами питались женщины, больные и иностранцы. Мы, мужчины, если мне не изменяет память, ели жареное мясо.
Тщедушный потный старичок в грязном люстриновом пиджаке, с жирной салфеткой подмышкой, в черных, очень мятых и сползших брюках с желтыми подпалинами – должно быть от утюга, – в общих чертах протер стол. Валерга сказал:
– Послушайте, молодой человек, вот этот сеньор, – он указал на Пегораро, – положил глаз на одного из цыплят, что крутятся там на витрине. Он вам покажет, какого.
Когда они вернулись с цыпленком, официант спросил:
– Закажем еще что-нибудь?
– Надо подумать, – ответил Пегораро. – Почему бы не заглянуть в меню?
Доктор Валерга затряс головой.
– В мое время, – сказал он, – никто не голодал, хотя не просил каждую минуту счет или меню. Ты садился за стойку, давал буфетчику круглую сумму, чтобы человек не нес убытки, и потом уж не удивлялся, если тебе подавали яичницу из трех дюжин яиц.
– Я работаю в этой стране уже сорок лет, – заявил официант, – и пусть я ослепну, если видел что-нибудь подобное. Наверное сеньору довелось читать какую-нибудь книжонку с выдумками и стариковскими побасенками.
– Это меня вы называете выдумщиком? – вопросил доктор. – Вы хотите, чтобы я вас убил?
– Не обращайте на него внимания, – торопливо вмешался Майдана. – Дед сам не знает, что говорит.
– А ты не беспокойся, – ответил Валерга. – Я сегодня мягче пуха. Плевать мне на этого старика. По мне пусть подаст, что заказано, а потом катится на скорм червям.
– Но доктор, – умоляюще сказал Пегораро, – цыпленочка не хватит на всех.
– А кто сказал, что должно хватить? Ребята начнут с мясного ассорти, Гауна и я, как люди почтенные, займемся цыпленком, а ты, поскольку должен беречься, ограничишься хлебным супом и чем-нибудь овощным.
Гауна сделал вид, что не заметил подмигивания доктора. Он уже устал от его шуточек и вспышек гнева. Табоада был прав: Валерга – несносный старик. Упрямый, грубый и злой. А что до ребят – они просто жалкие типы, кандидаты в уголовники. Почему он так долго этого не понимал? И вот, чтобы шляться по городу с этими болванами, он ушел из дому, не предупредив жену. Будет ли Клара и дальше его любить? Без нее и без Ларсена мир для него опустеет.
Он отодвинул тарелку. Есть ему не хотелось. Доктор разделывался с половиной цыпленка, ребята пожирали закуску, таская друг у друга кружки вареной колбасы и салями. Пегораро наворачивал суп. Гауна поглядел на них с ненавистью.
– Ты не будешь? – спросил Пегораро.
– Нет, – ответил Гауна.
Пегораро мгновенно ухватил цыпленка, оставленного Гауной, и стал жадно его обгладывать. Доктор как будто рассердился, но помолчал. Гауна отпил вина. Доктор и ребята все еще возились с едой, и Гауна выпил три-четыре стакана. Доктор предложил отправиться в заведение на улице Меданос.
– К немкам, помните? В двадцать седьмом мы почтили его своим посещением.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.