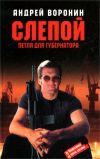Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
XVII
На следующий день после работы Гауна ждал Клару в кондитерской «Лос Аргонаутас». Он поглядывал на свои ручные часы и сверял их с часами, висевшими на стене; смотрел на людей, которые, входя, одинаковым движением толкали бесшумную стеклянную дверь: казалось невероятным, но одна из этих расплывчатых мужских фигур или кошмарных – если вглядеться – женских могла преобразиться в Клару. В свою очередь, на Гауну посматривал – или так ему чудилось – официант. Когда этот снующий наблюдатель впервые приблизился к столику, Гауна на время отослал его прочь со словами: «Я закажу потом. Жду знакомых». Наверное, официант решил, тоскливо думал Гауна, что это просто предлог, чтобы посидеть и ничего не заплатить. Он боялся, что девушка не придет и тогда официант убедится в справедливости своих подозрений или будет презирать его как человека, которого женщины водят за нос и даже посылают понапрасну торчать в кафе «Лос Аргонаутас». Сердясь на Клару – отчего она не идет, – он размышлял над тем, во что превращается мужчина под влиянием женщин. «Женщины разлучают человека с друзьями. Заставляют уходить из мастерской до конца работы, второпях, с чувством, что тебя все ненавидят (и в один прекрасный день это может стоить тебе места). Женщины делают человека мягким, как воск. Из-за них ты томишься в кондитерских, тратишь деньги по кафе, чтобы потом говорить комплименты и басни и слушать с раскрытым ртом всякие объяснения, безропотно глотать все, что услышишь, и отвечать «хорошо, хорошо». Он глядел на огромные стеклянные цилиндры с металлическими крышками, полные карамели, и как во сне воображал, что его зарывают в эту сладкую гущу. Когда он очнулся и с испугом подумал, что вот он отвлекся, а Клара, может быть, заглянула в кафе, не заметила его и ушла, он обнаружил ее в дверях.
Гауна подвел девушку к столику, так торопясь ей услужить, так поглощенный ее созерцанием, что забыл о своем намерении, созревшем во время ожидания, мстительно взглянуть на официанта. Клара попросила чай с бутербродами и кексами, Гауна – только кофе. Они посмотрели друг другу в глаза, спросили друг друга, как поживают, что делали за это время, и молодой человек почувствовал, что его смутная и нежная заботливость каким-то образом предвещает еще далекую, невообразимую и пожалуй унизительную участь. Пока он думал об этом, жажда такого будущего стала настойчивой и определенной. Он спросил:
– Как все прошло вчера вечером?
– Очень хорошо. Я работала совсем мало. Они репетировали отдельные сцены из первого акта. Труднее всего им далась сцена, где Баллестэд говорит о сирене.
– О какой сирене?
– Умирающей сирене, которая заблудилась и не может больше найти дороги к морю. Это картина Баллестэда.
Гауна посмотрел на нее несколько растерянно; потом, словно решившись, спросил:
– Ты меня любишь?
Она улыбнулась:
– Как тебя не любить, когда у тебя такие зеленые глаза?
– С кем ты была?
– Со всеми, – ответила Клара.
– Кто тебя провожал?
– Никто. Представляешь, этот высокий молодой человек, который будет писать о нас в «Доне Гойо», хотел меня проводить, но было рано. Я еще не знала, придется мне еще репетировать или нет. Он устал ждать и ушел.
Гауна посмотрел на нее с выражением простодушным и торжественным.
– Самое главное, – произнес он, взяв ее руки в свои и наклонив голову, – это говорить правду.
– Я тебя не понимаю, – ответила Клара.
– Гляди, – сказал Гауна, – я попробую тебе объяснить. Человек сходится с другим, чтобы поразвлечься или чтобы любить; в этом нет ничего плохого. И вдруг один, не желая причинить боли другому, что-то от него скрывает. Другой обнаруживает, что от него что-то скрыли, но не знает, что. Он пытается докопаться до истины, принимает объяснения, делает вид, что не верит им полностью. Так начинаются беды. Я хотел бы, чтобы мы никогда не причиняли друг другу зла.
– Я тоже, – отозвалась Клара.
– Но пойми меня. Я знаю, что мы свободны. Сейчас, по крайней мере, совершенно свободны. Ты можешь делать все, что хочешь, только всегда говори мне правду. Я тебя очень люблю и больше всего рад, что мы понимаем друг друга.
– Так со мной еще никто не говорил, – заявила девушка.
Он встретил сияющий взгляд ее чистых светло-карих глаз, и ему стало стыдно; ему показалось, что его вывели на чистую воду; захотелось признаться, что вся эта теория насчет свободы и откровенности – сплошная импровизация, отголосок припомненных второпях разговоров с Ларсеном, и теперь он ее излагал, чтобы замаскировать свои расспросы, свою настоятельную потребность знать, что она делала в тот вечер, когда он не захотел ее видеть; чтобы как-то скрыть неожиданное и жгучее чувство, внезапно овладевшее им: чувство ревности. Он начал что-то бормотать, но девушка воскликнула:
– Ты просто замечательный.
Гауне показалось, что она смеется над ним, но взглянув на нее, он понял, что она говорит серьезно, почти восторженно, и теперь не знал, куда деваться от стыда. Он подумал, что даже не особенно верит в то, что сказал, не надеется, что они будут полностью понимать друг друга, и в общем, не так уж ее любит.
XVIII
Когда Гауна, проводив Клару, вернулся домой, Ларсен уже спал. Гауна тихо лег, не зажигая света. Потом прокричал:
– Как ты там?
Ларсен ответил тем же тоном:
– Хорошо, а ты?
Почти каждый вечер они переговаривались таким образом, с койки на койку, в темноте.
– Иногда я спрашиваю себя, – продолжил Гауна, – не лучше ли обращаться с женщинами по старинке, как говорит доктор. Поменьше объяснений, поменьше красивых слов, надвинуть шляпу на глаза и говорить с ними через плечо.
– Так нельзя обращаться ни с кем, – отозвался Ларсен.
– Видишь ли, брат, – пояснил Гауна, – я даже не знаю, что тебе сказать. Не для всех хороши одни и те же идеалы. Мне кажется, что мы с тобой чересчур уступчивы; так можно докатиться до любого позора, до любой трусости. Мы не умеем возражать людям, сразу же выкидываем белый флаг. Надо быть потверже. Кроме того, женщины портят нас своими заботами и вниманием. Бедняжки, их просто жаль: ты говоришь любую чушь, а они слушают тебя раскрыв рот, как малыш учительницу. Понимаешь, смешно опускаться до их уровня.
– Я бы не говорил так уверенно, – ответил Ларсен, уже засыпая. – Они любят обласкивать, но незаметно вертят тобой как хотят. Не забывай, что пока ты день-деньской обливаешься потом в мастерской, они культивируют свои мозги еженедельником «Для тебя» и разными журналами мод.
XIX
Гауна снова сидел на репетиции. На сцене стоял актер, исполнявший роль Вангеля, и Клара в роли Элиды. Мужчина говорил напыщенным тоном:
– Ты не можешь прижиться здесь. Наши горы гнетут тебя, давят на твою душу. Мы не даем тебе того, что так тебе нужно: побольше света, побольше ясного неба, горизонта, простора.
– Это правда, – отвечала Клара. – Днем и ночью, зимой и летом я чувствую, как влечет меня море.
– Знаю, знаю, – отвечал Вангель, поглаживая ее по волосам. – Поэтому наша больная бедняжка должна возвратиться домой.
Гауне хотелось слушать дальше, но критик из «Дона Гойо» бубнил у него над ухом:
– Я хотел бы изложить подоступнее проблемы, стоящие перед нашим театром. Молодой, начинающий автор, аргентинец, задыхается, тонет, не имея возможности увидеть воплощенной свою фантазию. В плане чисто художественном положение, смею вам доложить, просто устрашающее. Я сам сочинил мистерию, нечто в высшей степени современное: некий салат из Маринетти, Стринберга, Кальдерона де ла Барки, сдобренный секрециями моих незрелых желез, поданный в онирическом бреду. И что же? Какие гарантии мне предлагают? Кто будет это ставить? Следовало бы посбить спесь с театральных трупп, пусть даже пригрозив напустить на них конную полицию. В то время как безвестный автор, далекий, если хотите, от совершенства, прозябает в конуре, не в силах явить миру своих уродцев, толстобрюхая публика, это буржуазное божество, изобретенное франкмасонским либерализмом, развалившись в удобных креслах, за которые платит бешеные деньги, смотрит то, что ей заблагорассудится, выбирая пьесы, не будь дура, среди лучшего, что есть в международном репертуаре.
Тем временем Гауна думал: «Хоть ты и много знаешь, братец, прочел уйму книг, но сейчас, не раздумывая, ты поменялся бы местами с таким невеждой, как я, лишь бы проводить Клару». Баумгартен продолжал:
– Нечто подобное, как мне рассказывают, происходит и в книжной сфере. Приведу вам в пример моего двоюродного брата, он совершенно такой же, как я, – красивый, большой, светловолосый, белый, неиспорченный, сын европейца. Его обуревает жажда творчества. Это наше молодое дарование, он подписывается «Ба-би-бу». Так вот, он сочинил книгу «Тоско, карлик-великан». Сам сделал макет, нарисовал обложку. Вся семья вложила деньги. Прекрасная получилась книга. Страниц в ней мало, зато они большие, примерно досюда, – Баумгартен наклонился и похлопал себя по икре, – буквы черные, как на вывеске, поля такие широкие, что текста почти не видно. Так вот, спросите ее в книжном магазине, и продавцу приходится спускаться во второй подвал и доставать ее из упакованной стопки с клеймом Раньо – старого типографа. Откройте газету, можете читать до одурения заметки в так называемом библиографическом разделе – и ни слова, ни строчки. Это просто безобразие. А если вы и встретите заметку, то ее можно легко отнести к чему угодно, скажем, к книге сонетов, которые накропал член-корреспондент Академии истории. Требование нашего времени – это рецензия в газете, под которой стоит подпись, рецензия содержательная. Моральный и материальный долг наших литераторов – броситься на штурм. Нам нельзя останавливаться до тех пор, пока каждая аргентинская книга не удостоится серьезного разбора, и в особенности, разбора дружественного, как она того требует. Иногда мой двоюродный брат пугает свою жену, заявляя, что скоро бросит писать.
Между тем Гауна думал: «Отчего бы тебе немножко не помолчать? Как ни крутись, но этот зеленый джемпер, этот мохнатый пиджак, эта розовая и чистая ряшка – что твоя, что твоего двоюродного братца и наверное всех троих родичей, – все это ничуть не поможет тебе проводить Клару после репетиции, а это единственное, чего бы тебе хотелось».
Он отвлекся. Вдруг он заметил, что здоровяк больше не говорит, а стоит возле сцены. Клара направлялась в их сторону.
– Буду ли я иметь честь, – говорил Баумгартен с самой лощеной своей улыбкой, потирая руки, словно и впрямь их мыл, – видеть вас сегодня вечером и доставить к порогу вашего собственного дома?
– Вы видели меня уже предостаточно, – ответила Клара, не глядя на него. – Я ухожу с Гауной.
На улице она взяла его под руку и, слегка повиснув на нем, попросила:
– Отведи меня куда-нибудь. Мне очень хочется пить.
Они обошли весь район, устали, но ничего не нашли – все кафе и лавки были закрыты. Клара почти не смотрела на них, только повторяла, что очень хочет пить и что падает с ног. Гауна спрашивал себя, почему бы девушке не успокоиться и не вернуться домой: там наверняка есть кран, чтобы напиться и даже вымыться целиком, и кровать, где она может спать, как королева, хоть до Судного дня. Кроме того, его утомляли женские капризы. Об усталости лучше было не вспоминать; он спрашивал себя, каким он будет наутро, когда придется вставать в шесть часов и идти в мастерскую. Быть может под влиянием книги, упомянутой Баумгартеном, он подумал, как было бы хорошо, если бы девушка стала крошкой сантиметров в пять ростом. Тогда он сунул бы ее в спичечный коробок – он вспомнил мух, которым его школьные товарищи обрывали крылья, – спрятал бы в карман и пошел спать.
Вдруг Клара воскликнула:
– Ты не представляешь, как мне нравится бродить с тобой в такую ночь.
Он посмотрел ей в глаза и почувствовал, что очень ее любит.
ХХ
Следующим вечером они не репетировали. Вернувшись с работы, Гауна из лавки позвонил Кларе и спросил, куда они пойдут. Клара сказала, что из деревни приехала ее тетя Марсела и, может быть, придется куда-нибудь ее сводить; девушка попросила перезвонить ей через десять минут, она переговорит с Марселой и будет знать, что они решат. Гауна спросил дочку лавочника, можно ли немного подождать. Девушка смотрела на него большими зелеными грушевидными глазами; у нее были две длинные косы, она была очень бледная и казалась неумытой. В честь Гауны она поставила пластинку с танго «Прощайте, парни». Тем временем лавочник шумно спорил с коммивояжером, который предлагал ему «благороднейший товар – шлепанцы с подкладкой из фетра». Лавочник, погруженный в свои чеки, твердил, что двадцать пять лет стоит за прилавком, но никогда не слышал об обуви с подкладкой из ветра. Быть может из-за врожденной привычки не придавать важности такой мелочи, как произношение, они не замечали разницы между фетром, который предлагал один, и ветром, который отвергал другой; спор все продолжался, спорщики говорили и говорили, презирая друг друга, каждый выжидал, когда другой замолчит, чтобы ответить ему, даже не выслушав, никуда не торопясь, но крайне возмущаясь.
Гауна снова позвонил Кларе. Она сказала:
– Ничего не поделаешь, дорогой. Сегодня мы не встречаемся. Завтра вечером жду тебя в театре.
В свете того, что случилось потом, все подробности этого вечера приобретают особое значение – по крайней мере, для Гауны. Выйдя из лавки, он направился домой, напевая танго, услышанное на пластинке. Ларсена не было. Гауна подумал, что можно сходить в «Платенсе» и повидать ребят; или навестить Валергу; сделать или то, или другое и вместе с тем продолжить расследование – уже такое далекое, такое позабытое – событий, происшедших в третью ночь карнавала. Все эти проекты заранее расслабляли, утомляли его, нагоняли скуку. Ему ничего не хотелось – даже оставаться в комнате. Так начался свободный вечер, которого он столь жаждал.
С новой силой рассердившись на Клару, он подумал, что утратил привычку быть один. Чтобы не сидеть вот так, глядя на пустые стены и думая о чепухе, он отправился в кинематограф. По дороге он опять напевал «Прощайте, парни». На углу улиц Мельян и Мансанарес ему встретилась тележка булочника, запряженная чубарой лошадкой; он скрестил большой и указательный пальцы и загадал, чтобы у него все было хорошо с Кларой, чтобы он раскрыл тайну третьей ночи, чтобы ему повезло. Как раз тогда, когда он собирался войти в кинематограф, по улице проехала еще одна повозка с чубарой пристяжной. Он смог расцепить пальцы.
В кино он успел увидеть последние сцены с Гаррисоном Фордом и Мари Прево; он очень смеялся и почувствовал себя лучше. Потом, после перерыва, во время которого по проходам с шумом носились дети и ходил взад-вперед продавец сластей, начался фильм «Любовь бессмертна». Это была длинная история о сентиментальной любви, продолжавшей за гробом, девушки были прекрасны, юноши – бескорыстны и благородны, все они старели у зрителя на глазах и в конце, седые, сгорбленные, с запавшими глазами, собирались, опираясь на палки, на заснеженном кладбище. Персонажи были или слишком хорошими, или слишком плохими, а действие – целой цепью неудач и невзгод. Гауна вышел с неприятным, мерзким ощущением, и даже возвращение во внешний мир и глоток ночного воздуха не смогли его успокоить. Со стыдом он признался себе, что напуган. Ему показалось, будто горести и несчастья вдруг отравили все вокруг, и больше уже нельзя ждать ничего хорошего. Он попытался запеть «Прощайте, парни».
Когда он вернулся домой, Ларсен собирался уходить. Они поужинали вместе в том ресторанчике на улице Вилела, где едят трамвайные кондукторы. Как всегда, дон Педро – старый француз, шофер грузовика, – тяжело плюхнувшись за обычный стол, крикнул:
– Фрикандо с яйцами.
Как всегда, хозяин уточнил из-за стойки:
– С водой или с содовой, дон Педро?
И как всегда, дон Педро ответил пропитым голосом:
– С вином.
В тот вечер они как-то не находили темы, и Гауна заговорил о Кларе. Ларсен почти не отвечал. Гауна чувствовал, что он молчит умышленно, и, стараясь разговорить друга, пустился в многословные объяснения, оправдываясь и нахваливая девушку. Ему хотелось, чтобы у Ларсена сложилось хорошее мнение о Кларе, но он боялся показать влюбленным, порабощенным; тогда он начинал отзываться о девушке плохо и с досадой видел, что Ларсен кивает и соглашается. Он говорил без остановки, говорил один, и наконец замолк, недовольный, подавленный, словно запал, с каким он хулил Клару, сбивая друга с толку и выставляя себя неуравновешенным глупцом, вдруг иссяк, оставив в душе утомление и пустоту.
XXI
Когда Гауна подходил к дому Надина, появилась Клара в голубом платье и сиреневой шляпке. Открыв дверь, турок объявил:
– Сегодня вы первые. – Огромные черные брови углами поднялись кверху; он улыбался – всеми своими родинками, всеми складками на лице, растягивая красные влажные губы. – Даже мой любезный сеньор Бластейн еще не пришел. Но не стойте в коридоре, здесь вам неудобно. Проходите в сарайчик. Вы знаете дорогу. А я бьюсь над радиоприемником, который не работает.
Словно вдруг вспомнив что-то крайне важное – скажем, об опасности, которая им грозит, – Надин вернулся и спросил:
– Что вы скажете мне об этой жаре?
– Ничего, – ответил Гауна.
– Я тоже не знаю, что и думать. С ума можно сойти. Ну хорошо, не стану вас задерживать. Идите, идите. Я вернусь к своему хитроумному аппарату.
Клара шла впереди. Гауна молча думал: «Я знаю все ее платья. Черное, в цветах, голубое. Знаю удивленное выражение глаз, когда они становятся очень серьезными и детскими; родинку на пальце, скрытую золотым кольцом, форму и белизну затылка там, где начинаются волосы». Клара сказала:
– Здесь пахнет турком.
Они подошли к сараю. Клара не сумела сразу открыть дверь. Гауна смотрел на нее. Было что-то очень благородное в лице девушки, когда она осматривала тяжелую щеколду с выражением искренней сосредоточенности. Теперь она, прикусив губу, толкала щеколду обеими руками, надавливала на дверь коленкой. Наконец створка открылась. От усилия лицо Клары слегка порозовело. Гауна, стоя неподвижно, смотрел на нее. «Бедняжка», – сказал он про себя и внезапно почувствовал нежность и жалость; ему захотелось погладить ее по голове.
Он вспомнил время, когда едва знал ее в лицо. Тогда он и представить себе не мог, что они полюбят друг друга. Клара дружила с ребятами из центра, приезжавшими за ней на автомобилях. Он всегда чувствовал, что не может состязаться с ними; они принадлежали к другому миру – неведомому и конечно же ненавистному; приблизившись к ней, он выставил бы себя на посмешище и потом бы страдал. Клара казалась ему девушкой желанной, далекой, пользующей авторитетом, быть может самой заметной в их районе, но совершенно недоступной. Ему даже не нужно было отказываться от нее, потому что он никогда не смел ее добиваться. Теперь она была перед ним – восхитительная, как зверек или цветок, или маленькая прелестная вещица, которую надо было беречь, которая принадлежала ему.
Они вошли. Клара зажгла свет. С одной стены свисала огромная тяжелая ткань, на которой были нарисованы золотые контуры двух масок с неумеренно раскрытыми ртами. Гауна спросил:
– Что это?
– Новый занавес, – ответила Клара. – Его расписал один друг Бластейна. Погляди на эти разинутые рты – тебе от них не противно?
Гауна не знал, что ответить. Ему не было противно от этих ртов, они не вызывали у него никаких чувств. И тут же он спросил себя: а вдруг эта фраза, казавшаяся ему бессмысленной, объяснялась неодолимой потребностью – все мы ощущали ее когда-нибудь – что-то сказать, сказать что угодно. Девушка нервничала; ему показалось даже, что у нее чуть дрожат руки. Неужели она меня боится? – подумал он с удивлением. – Неужели кто-то может меня бояться? Он снова испытал прилив нежности к Кларе: она походила на бесприютного ребенка, которого хочется пригреть. Клара заговорила. Гауна услышал ее слова не сразу. Клара сказала:
– У меня нет никакой тети Марселы.
Все еще рассеянно, все еще ничего не понимая, Гауна улыбался. Девушка повторила:
– У меня нет никакой тети Марселы.
Продолжая улыбаться, Гауна спросил:
– А с кем же ты была вчера?
– С Алексом, – ответила Клара.
Имя ничего не сказало Гауне. Клара продолжала:
– Он пригласил меня пойти куда-нибудь вчера. Я отказалась, потому что никогда не собиралась встречаться с ним. Ты позвонил, и я поняла, что мы пойдем бродить, как всегда, или забьемся в кино. Почувствовала, что больше не могу, и мне захотелось встретиться с другим. Я попросила тебя перезвонить через десять минут, чтобы за это время позвонить ему и спросить, не передумал ли он. Он ответил, что нет.
– С кем ты встречалась? – спросил Гауна.
– С Алексом, – повторила Клара. – С Алексом, Алексом Баумгартеном.
Гауна не знал, надо ли ему встать и дать ей пощечину. Он продолжал сидеть, улыбаясь с деланным равнодушием. Необходимо было сохранять это полное внешнее равнодушие, потому что внутри смятение нарастало. Если он утратит над собой контроль, может произойти что угодно: он упадет в обморок или расплачется. Наверное он молчал слишком долго. Надо было что-то сказать. Когда он раскрыл рот, его больше тревожило не то, что он скажет, а как он сумеет что-то выговорить. Он произнес первое, что пришло в голову:
– Сегодня ты тоже встречаешься с ним?
Он видел, что девушка улыбается и отрицательно качает головой.
– Нет, – заверила она. – Никогда больше я с ним никуда не пойду. – И через секунду добавила слегка другим тоном (это, быть может, означало, что речь шла уже не о Баумгартене): – Мне не понравилось.
Как до спящего, который, сперва смутно, а затем почти проснувшись, слышит голоса окружающих, до Гауны вдруг дошли шумные возгласы, смех и крики Бластейна, турчаночки Надин и актеров. Входившие на минуту останавливались, хлопали его по спине, здоровались с ним. Тем временем Гауна улыбался, чувствуя – чего с ним никогда не было, – что оказался в центре сцены. Ему хотелось, чтобы все они отошли подальше; он боялся – вдруг кто-нибудь спросит, не болен ли он, не случилось ли с ним чего-нибудь. Наконец Бластейн воскликнул:
– Уже поздно. Даже сам Гауна, с его деланной улыбочкой, и тот сгорает от нетерпения. Давайте готовиться к репетиции.
Он вскочил на стол и исчез за одним из боковых щитов. Остальные последовали за ним. Клара сказала Гауне:
– Ну хорошо, дорогой, мне надо готовиться.
Она быстро поцеловала его в щеку и ушла вслед за другими.
Оставшись один (словно в какой-то миг, сам не зная когда, он уже принял решение), Гауна сбежал. Отступил к двери, пересек двор, прошел по коридору и очутился на улице.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.