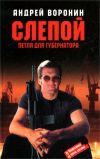Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
XXXII
Было очень холодно. Ветер скользил между голых стволов, на сырой земле лежал толстый слой гнилых листьев и веток. Гауна надеялся или хотел надеяться на внезапное откровение; он хотел думать о третьей ночи. Но он думал о том, что у него промокли ботинки и что у некоторых людей, например у Ларсена, стоит промочить ноги, сразу же начинает болеть горло – горло словно сжимает, объяснил он сам себе. Он сглотнул и ощутил в горле легкую боль. Я отвлекаюсь, подумал он. Надо действовать. В этот миг он заметил, что из автомобиля, к которому он нечаянно подошел слишком близко, на него подозрительно смотрит какая-то пара. Гауна отошел подальше, сделав вид, что не глядит в их сторону. Он походил еще немного, не переставая дрожать от холода и прекрасно понимая, что выглядит нелепо и глупо, и наконец решил на сегодня прервать расследование. Лучше пойти на пристань. Быть может, он увидит Сантьяго; быть может, разговор с ним даст больше, чем это долгое блуждание по пустому унылому парку; быть может, Сантьяго и Немой выучились хорошим манерам и теперь встречают гостей рюмкой граппы, которая всегда согревает, как говорит Пегораро, и делает беседы более дружескими и даже более интересными.
Сантьяго и Немой пили мате. Гауна подумал, что в этот день ему не слишком везет, но смирился и выпил мате, тем более что при этом его угостили печеньем, облитым шоколадом (Немой доставал его из огромной синей жестянки, наугад запуская туда руку, как в ящик за счастливым билетом). Сочетание горького мате с печеньем поначалу ему не понравилось, но постепенно он вошел во вкус, и очень скоро ощущение холодных мурашек на спине исчезло, по всему телу разлилось благодатное, невыразимое тепло. Они по-приятельски побеседовали о годах, когда Гауна играл в пятой лиге, а Сантьяго и Немой работали на стадионе; Сантьяго спросил, правда ли, что он женился – как сказал кто-то – и поздравил его.
– Ты не поверишь, – начал Гауна, но иногда я все еще спрашиваю себя, что же, в сущности, произошло в ту ночь, когда Немой нашел меня в парке.
– Ты начал подозревать что-то в первый же момент, – ответил Сантьяго, – и теперь все бесполезно, никому не выбить эту мысль из твоей головы.
Гауна удивился; нас всегда удивляет мнение, которое высказывают посторонние о наших делах. Однако он не стал возражать, смутно, но с полной очевидностью поняв, что пока не в силах дать настоящего объяснения. Если он заявит: «Я не ищу ничего плохого, я ищу лучший миг моей жизни, чтобы его понять», Сантьяго посмотрит на него с недоверием и с обидой и спросит себя, почему Гауна пытается его обмануть. Сантьяго продолжал:
– Я бы на твоем месте забыл про все эти глупости и жил бы спокойно. А потом, не знаю, что тебе сказать. Если ты не вытянешь правду из своих друзей, не понимаю, как иначе ты ее узнаешь.
Уже притворяясь вовсю, Гауна говорил:
– А если я ошибаюсь? Я не могу показывать, что подозреваю их, – он молча поглядел на Сантьяго, затем добавил: – Ты не узнал ничего нового о том, при каких обстоятельствах нашел меня Немой?
– Ничего нового, друг? Да ведь это дело прошлое, никто ничего и не помнит. А потом, как ты узнаешь что-нибудь у Немого? Только взгляни на него, он заперт надежнее, чем сейф марки «Фишер».
Но очевидно Немой был не настолько уж заперт, как говорил его брат, потому что начал издавать горлом короткие и беспокойные звуки, а потом стал молча смеяться – так, что слезы потекли у него по щекам.
– А ты помнишь, где вы были перед тем, как приехать в парк?
– В самом Арменонвиле, – ответил Гауна.
– Найди какую-нибудь танцорку, обработай ее не спеша, и кто знает, может что-то от нее и узнаешь.
– Я уже думал об этом, но сделай милость, посмотри на меня. Как я в таком виде покажусь в Арменонвиле? Брать одежду напрокат – долгое дело, а так швейцар меня не пустит, хоть торчи у входа до следующего карнавала.
Сантьяго серьезно посмотрел на него и через несколько секунд неторопливо спросил:
– Ты знаешь, сколько тебе придется там истратить? Самое малое, пять песо – говорю тебе, самое малое. Ты садишься и рта не успеваешь раскрыть, тебе уже наливают шампанского, а когда к тебе подкатится какая-нибудь красотка, уже можешь затыкать уши: тебе открывают новую бутылку, потому что сеньорита не пьет шампанское твоей марки, у нее свои, особые вкусы. А посидишь еще – держи ухо востро, потому что к твоему бумажнику уже пристроен таксиметр, и когда наконец соберешься спросить счет и убраться подобру-поздорову, не забудь про чаевые, ведь если официантам не угодишь, они вытолкают тебя взашей и передадут швейцару, а уж тот так тебе поддаст, что очнешься в участке, где тебя оштрафуют за буйство.
Они покончили с мате. Немой, неприметный, как всегда, обтягивал рукоять весла новой кожей. Сантьяго прохаживался по причалу взад и вперед с трубкой в зубах и в своем просторном синем свитере казался старым морским волком. Они распрощались.
– Ну ладно, Эмилио, – ласково сказал Сантьяго, – теперь не пропадай навсегда.
XXXIII
Гауна пересек парк и, обогнув Зоологический сад, вышел на площадь Италии. От холода он шагал очень быстро и выдохся. Какое-то время он ждал 38-го трамвая, но когда тот пришел, оказалось, что вагон набит людьми, ехавшими со скачек. Гауна кое-как уцепился за поручни задней площадки; озябший, устав висеть на подножке, доехал до центра, вышел на углу Леандро Алем и Корриентес, и сказал себе, что немного пройдется по кафе (он имел в виду «кабаре») на проспекте Двадцать пятого мая.
В третью карнавальную ночь 1927 года они пили в каком-то из этих кабаре, прежде чем зайти в театр «Космополита». Теперь он хотел бы его узнать. Но ему было так холодно и он так устал, что просто не смог должным образом продолжить расследование: сказать по правде, он вошел в первое из этих заведений, попавшееся ему на пути. Кабаре называлось «Синьор»; его вестибюль, глубокий, узкий и красный, разрисованный языками пламени и чертями, без сомнения представлял собой вход в ад или, по крайней мере, в адскую пещеру; на стенах висели раскрашенные фотографии женщин с кастаньетами, с шалями на плечах, в яростных позах, танцовщиков во фраках и цилиндрах и девочки с ямочками на щеках – она плутовски улыбалась, прищурив один глаз. Внутри две женщины танцевали танго, которое наигрывала одним пальцем на пианино третья. Четвертая женщина смотрела на них, облокотясь о стол. Двое официантов за стойкой шустро перемывали стаканы. Несколько столов были накрыты, на остальных еще торчали перевернутые стулья. Гауна толкнул дверь, чтобы уйти.
– Желаете что-нибудь, уважаемый? – спросил один из официантов.
– Я думал, у вас открыто… – объяснил Гауна.
– Садитесь, – предложил ему официант. – Не станем же мы вас выгонять, если вы пришли пораньше. Что вам подать?
Гауна дал ему шляпу и сел.
– Двойную граппу, – сказал он.
Он подумал, что быть может они в ту ночь побывали именно здесь. Исподтишка он оглядел женщин; одна из танцевавших походила на низкорослого индейца, у другой (как потом он рассказывал Ларсену) «было совсем глупое лицо». Та, что играла на пианино, была маленькой и большеголовой. А опершись о стол, сидела блондинка с лицом овцы. Эта последняя нехотя поднялась; Гауна с тревогой подумал: «Она идет сюда». Женщина подошла, осведомилась, не помешает ли, и села за столик Гауны. Когда приблизился официант, женщина спросила Гауну:
– Угостишь меня содовой?
Гауна кивнул.
– И пожалуйста, плесни туда побольше виски, – велела женщина официанту.
Чтобы скрыть замешательство, Гауна заметил:
– Не люблю холодный чай.
Женщина принялась объяснять целебные свойства виски, заверила, что принимает его по указанию врача и «потому что, поверь, это вкусно», и затем пустилась подробно описывать болезни, главным образом, желудка и кишечника, которые долго преследовали ее, так что она похудела до неузнаваемости, и теперь доктор Рейнафе Пуйо, с которым она познакомилась совершенно случайно однажды на рассвете, лечит ее виски и другими менее приятными на вкус напитками, от чего она делается сама не своя и лежит, точно больная, в постели, держа на животе платок, смоченный одеколоном. Гауна слушал ее с волнением. Он признавался себе (хотя и со стыдом), что его опыт общения с женщинами невелик и если он оказывается с девушкой – не с теми дурочками из его квартала, а с другими, – он немного трусит и невольно подчиняется ей. Гауна попросил официанта повторить и подумал: «У этой женщины знакомое лицо» (а может, оно казалось ему знакомым, потому что такие лица со своими вариациями и особенностями встречаются у многих). После того как Гауна выпил третий бокал двойной граппы, женщина призналась, что ее зовут «Баби» – она произнесла именно так, а он осмелел и спросил, не встречались ли они здесь же во время карнавала года два-три назад.
– Я был с друзьями, – объяснил он и после паузы добавил другим тоном: – Вы должны помнить. С нами еще был сеньор в возрасте, довольно плотный и почтенный с виду.
– Не знаю, о чем вы говорите, – ответила Баби с явным беспокойством.
– Ну напрягитесь: вы должны помнить, – настаивал Гауна.
– Что значит должна. Хватит. Кто вы такой, чтобы являться сюда и меня раздражать, когда доктор как раз сказал, что для меня нет ничего хуже, чем раздражаться.
– Успокойтесь, – сказал Гауна улыбаясь. – Я не собираюсь ничего вам продавать, и я не полицейский, который расследует убийство. К тому же мне вовсе не хочется, чтобы вы раздражались.
Гнев женщины немного поутих. Если представится еще один удобный случай, как сегодня, Гауна снова навестит Баби; со временем может он что-нибудь и вытянет из нее; она не дурочка, это ясно.
– Когда женщина заговорила, в ее голосе прозвучали успокоительные, вкрадчивые нотки.
– Обещайте мне, что будете хорошим и не станете спрашивать о неприятном.
Гауна посмотрел на часы и подозвал официанта. Было уже восемь; он доберется до дома Колдуна не раньше девяти. Женщина спросила:
– Ты меня бросаешь?
– Ничего не поделаешь, – ответил Гауна и, предупреждая всякие возражения, прищурился, указал на нее пальцем, словно убеждая или обвиняя, и твердо добавил: – Эту физиономию я уже видел прежде.
– Вы опять за свое, – откликнулась Баби с улыбкой.
Она разгадала тактику Гауны, подхватила его шутку, но предпочла не удерживать его.
Гауна заплатил за все без возражений, сказал Баби: «Ну пока, детка», быстро взял шляпу и ушел. Бегом он пустился по Лавалье и тут же сел в подошедший трамвай. Несмотря на холод, он остался на площадке (вагон, как церковь, предназначается для женщин, детей и стариков). Кондуктор посмотрел на него и как будто собирался что-то сказать, но потом передумал и обратился к остальным:
– Проходите внутрь, сеньоры, пожалуйста.
Гауна сердился на себя. «Надо же, так загубить вечер», – повторял он. Часы английского посольства показывали половину девятого. Кто знает, что там с Табоадой, а он допоздна шляется по парку, а потом точит лясы с одной из этих дурочек, похожей на овцу. Сейчас, появившись, что он скажет Кларе? Что гулял с Ларсеном. Завтра утром, пораньше, надо будет зайти к Ларсену и предупредить его. А если Клара видела Ларсена? Он вытер лоб платком и пробормотал: «Как все это скучно». Кондуктор рядом с ним слушал какого-то пассажира, который нахваливал лошадь, бежавшую этим днем в Палермо. Потом кондуктор сказал:
– Но, друг мой, вы знаете, с кем спорите? Я видел, как бежала Монсерга в Мароньяс!
– Если вы, приятель, отстали от жизни, лучше застрелитесь, – возразил пассажир. – Жизнь течет, все меняется, а вы, Альварес, долдоните про этих лошадей, которые, если сравнить их с теперешними, позли, как черепахи.
– Нет, только послушайте его. Вы еще соску мусолили, когда я ставил на Серьезного в забегах, которые выигрывал Рико. Но скажите мне, кто отхватил тогда Золотой кубок? Поле было скользкое, не спорю. А если я спрошу вас про дона Падилью, что вы ответите? Ну-ка, ну-ка.
Гауна подумал, что может быть встретит Ларсена в доме Табоады. Как бы ему узнать, не ходили ли они куда-нибудь вместе? Если он хоть что-то обнаружит, они его больше не увидят. «Боже мой, – пробормотал он, – какие глупости лезут в голову». Он прикрыл глаза рукой. Вышел из 38-го на Монро, сел в 35-й, и когда добрался по проспекта Техар, было уже почти половина десятого. Он спросил себя, не слишком ли сейчас поздно, не ждет ли его уже Клара на улице Гуайра. Поднял голову и увидел, что в квартире Табоады горит свет.
XXXIV
В дверях он столкнулся с каким-то человеком, который поздоровался с ним; в лифте было трое незнакомых. Один из них спросил у Гауны:
– Вам какой?
– Четвертый.
Сеньор нажал кнопку. Когда лифт остановился, он открыл дверь перед Гауной, и молодой человек с удивлением увидел, что остальные вышли следом.
– Вы тоже?.. – смятенно пробормотал он.
Дверь была приоткрыта; незнакомцы вошли; внутри были люди. Тут появилась Клара в черном платье – откуда она его взяла? Глаза ее блестели; она бегом бросилась в его объятия.
– Мой дорогой, мой любимый, – вскрикнула она.
Прижимаясь к Гауне, она содрогалась всем телом. Он хотел взглянуть ей в лицо, но она прижалась еще теснее. «Она плачет», – подумал он. Клара сказала:
– Папа умер.
Потом на кухне, у раковины, где Клара промывала глаза холодной водой, он в первый раз услышал обо всем, связанном с агонией и смертью Серафина Табоады.
– Поверить не могу, – повторял он. – Просто поверить не могу.
Накануне Табоада чувствовал себя плохо – он кашлял и задыхался, – но никому ничего не сказал. Сегодня, когда Клара позвонила Гауне по телефону, Табоада слушал, что она говорит; и именно выполняя указания отца, Клара уговаривала его пойти в кинематограф. «Ты тоже должна бы пойти, – добавил Табоада, – но я не настаиваю, так как знаю, что ты меня не послушаешь. Здесь тебе делать нечего, лучше было бы избежать плохих воспоминаний». Клара заспорила, спросила, неужто он хочет, чтобы она оставила его одного. Очень ласково Табоада ответил: «Человек всегда умирает один, доченька».
Потом он сказал, что немножко отдохнет, и закрыл глаза; Клара не знала, спит он или нет; ей хотелось позвонить Гауне, но тогда надо было пойти к другому телефону, а она не решалась оставить отца. Через какое-то время он попросил ее подойти, погладил ее по волосам и глухо посоветовал: «Береги Эмилио. Я изменил его судьбу. Постарайся, чтобы он не вернулся на прежний путь. Постарайся, чтобы он не превратился в поножовщика Валергу». Потом он со вздохом сказал: «Мне хотелось бы объяснить ему, что в счастье есть великодушие, а в авантюрах – эгоизм». Он поцеловал ее в лоб и пробормотал: «Ну, хорошо, доченька, теперь, если хочешь, позвони Эмилио и Ларсену». Скрывая свое волнение, Клара бросилась к телефону. Плотник воспринял ее звонок как оскорбление; когда она уже спрашивала себя, не бросил ли он трубку, плотник сказал, что дома никого нет, что Гауна должно быть ушел. Тогда она позвонила Ларсену. Тот пообещал сразу же прийти. Она вернулась к постели, увидела, что голова отца слегка склонилась на грудь, и поняла, что он умер. Конечно же, он попросил ее позвонить, чтобы она ненадолго оставила его, чтобы не видела, как он умирает. Он всегда утверждал, что надо заботиться о воспоминаниях, потому что из них состоит наша жизнь.
Клара пошла в спальню отца. Гауна в оцепенении остался на кухне, глядя на раковину, внимательно всматриваясь в окружающие предметы, наблюдая за тем, как он на них смотрит. Вернулась Клара, а он так и не тронулся с места. Она спросила, не хочет ли он кофе.
– Нет, нет, – устыдившись, сказал он. – Надо что-нибудь сделать?
– Ничего, дорогой, ничего, – ответила она, успокаивая его.
Он понимал, как это нелепо, что она утешает его, но он не протестовал, чувствуя, насколько она сильнее. Вдруг встрепенувшись, он испуганно спросил:
– А… это бюро… ведь надо туда сходить?
– Ларсен уже позаботился, – ответила Клара. – Я послала его домой посмотреть, не там ли ты, и попросила кое-что мне принести. Смотри, какое платье он захватил, бедняжка, – добавила она с улыбкой.
Она никогда не отличалась кокетством, практически оно отсутствовало у нее, но сейчас в этом платье было в ней что-то нелепое, чего он ранее не замечал.
– Оно очень тебе идет, – сказал он и тут же добавил: – Пришло много народу.
– Да, – согласилась она. – Ты лучше пойди к ним.
– Конечно, конечно, – поспешно отозвался он.
Выйдя из кухни, он столкнулся с незнакомыми людьми, которые бросились его обнимать. Он был взволнован, но чувствовал, что известие об этой смерти поразило его слишком внезапно, он еще не мог понять, как оно на него подействовало. Увидев Ларсена, он очень растрогался.
Люди пили кофе, который подала Клара. Гауна сел в кресло. Вокруг него разговаривало несколько мужчин; вдруг он услышал слова:
– Это самоубийство.
(Он с удовольствием отметил, какой интерес вызвали эти слова, и тут же возненавидел себя за него.)
– Это самоубийство, – повторил господин. – Он знал, что еще одной зимы в Буэнос-Айресе ему не перенести.
– Значит, он умер, как великий человек, – заявил «образованный» сеньор Гомес, живший на продажу лотерейных билетов. Он был очень худой, очень серый, очень бледный, постриженный почти наголо, с жидкими усами. Глазки у него были маленькие, окруженные морщинами, ироничные и, как говорили люди, японские; поверх темного костюма был накинут большой шарф; когда он двигался и даже говорил, по всему его телу сверху донизу пробегала дрожь, и самой примечательной его чертой была исключительная слабость. В юности, как утверждали в квартале, он был грозным профсоюзным деятелем и даже хуже – каталонским анархистом. Теперь, благодаря своей выдающейся коллекции спичечных коробков, он был вхож в лучшие дома. «Каких только глупостей не наслушаешься на прощании с покойником», – подумал Гауна.
– Если вникнуть хорошенько, – продолжал Гомес, – то смерть Сократа – настоящее самоубийство. И смерть… этого…
(Он забыл второй пример, сказал себе Гауна.)
– И даже смерть Юлия Цезаря. И Жанны д’Арк. И Солиса, которого съели индейцы.
– Эваристо прав, – провозгласил фармацевт.
Гауна успокоился. Поляк из лавки, с голубыми глазами и сонным лицом, похожий на толстого дремлющего кота, объяснял:
– Меня больше всего беспокоит лестница… такая узкая… Не знаю, как они станут спускать катафалк…
– Гроб, тупица, – поправил его фармацевт.
– Да, вот именно, – продолжал поляк. – В домах я прежде всего я обращаю внимание на ширину лестницы… не знаю, как будут его выносить.
Очень недурной из себя молодой человек, на которого Гауна поглядывал с недоверием, спрашивая себя, не из тех ли он, кто ходит на проводы умерших, чтобы выпить кофе, возбужденно заявил:
– Это форменное безобразие, что вытворяют в такой час соседи с третьего этажа. Запускают музыку, хотя прекрасно знают, что здесь у нас лежит покойник. Так и хочется заявить официальный протест привратнику.
Поверх осыпанной перхотью шали на плечах сеньора Гомеса Гауна увидел, что кто-то здоровается с Кларой. «Кто этот головастый», – подумал он. Гауне показалось, что он где-то видел этого бледного, светловолосого человека. «Похоже, они знакомы. Надо будет спросить у Клары, кто это. Но только не сейчас. Сейчас неудобно, – сказал он себе. – Однако надо обязательно спросить ее, кто это такой».
Хилый сеньор Гомес продолжал:
– Мы цепляемся за жизнь изо всех сил. Великий человек знает, когда ему уйти, и уходит, как Табоада, без лишней борьбы, быстро, решительно, почти весело.
Под предлогом того, что надо поздороваться, Гауна подошел к дамам. Блондин уже ушел. Сеньора Ламбрускини была очень ласкова. Гауна подумал: «Турчаночка хорошеет с каждым днем, но страшно подумать, что она невеста Феррари». Разговоры и кофе помогли скоротать ночь. В углу несколько мужчин играли в карты, но остальные посматривали на них с неодобрением.
XXXV
Судьба – полезное изобретение людей. Что произошло бы, если бы некоторые события были иными? Случилось то, что должно было случиться; этот скромный вывод вытекает ненавязчиво, но абсолютно ясно из истории, которую я рассказываю. И все же я продолжаю думать, что участь Гауны и Клары была бы другой, если бы Колдун был жив. Гауна снова стал захаживать в кафе «Платенсе», стал встречаться с приятелями и доктором Валергой. Неизбежные сплетники повторяли, что Гауна позаботился о том, чтобы его короткие отлучки из дому не огорчали жену; что в таких случаях его заменял Ларсен; что стоило одному выйти из дверей, как другой уже входил…
Правда, заключенная в этом, была совершенно безобидной: чувства Ларсена к Гауне и Кларе оставались прежними, и раз теперь он не мог ходить к Колдуну, он приходил в дом Гауны.
Лишенный опеки Табоады, Гауна без конца говорил о тех трех таинственных днях. Клара так любила его, что, дабы не быть в стороне от чего-то, его касавшегося, или просто чтобы ему подражать, тоже обсуждала происшедшее, оставаясь наедине с турчаночкой; наверное она предчувствовала, что навязчивая идея Гауна таила глубины, куда в конце концов канет ее счастье, но в ней было это благородное смирение, эта прекрасная отвага иных женщин, которые умеют быть счастливыми в минуты, когда их несчастья дают им передышку. Однако, по правде говоря, даже эти передышки омрачала тень, тень несбывавшегося желания – иметь ребенка (кроме Гауны, об этом знала лишь турчаночка).
А Гауна говорил – с каждым разом все яснее – о карнавальных воспоминаниях, о тайне третьей ночи, о своих неясных планах ее раскрыть; верно, что присутствие Ларсена немного сдерживало его, но он уже упоминал при Кларе о маске из Арменонвиля. Если он зарабатывал несколько песо в мастерской, то вместо того, чтобы откладывать их на «форд», или на швейную машинку, или на выплаты по закладной, тратил их в барах и других заведениях, куда они заходили в те три ночи двадцать седьмого года. Как-то он сам признался, что эти походы напрасны: те же места, увиденные по отдельности, без пелены усталости, хмельного тумана и безумного помрачения тех ней, не вызывали у него никаких воспоминаний. Ларсен, чья осмотрительность часто казалась трусостью, немало тревожился по поводу этих экскурсий Гауны и не слишком скрывал от молодой женщины свое беспокойство. Однажды Клара сказала ему завуалировано раздраженным тоном, что она уверена: Гауна никогда не бросит ее ради другой женщины. Клара была права, хотя одна блондинка с чуть овечьим лицом, работавшая за стойкой в низкопробном заведении под названием «Синьор», завлекала его почти с неделю. Во всяком случае, слухи об этом дошли до их квартала. Гауна мало что про это говорил.
Когда Гауна получил наследство Табоады – около восьми тысяч песо, – Ларсен боялся, что его друг растратит их в беспорядочных походах за три-четыре вечера. Клара не усомнилась в Гауне. Он выплатил по закладным и принес домой швейную машинку, радиоприемник и несколько оставшихся песо.
– Я принес тебе это радио, – сказал он Кларе, – чтобы ты не скучала, сидя одна.
– Ты думаешь оставить меня одну? – спросила Клара.
Гауна ответил, что не мыслит жизни без нее.
– Почему ты не купил автомобиль? – спросила Клара. – Мы ведь так хотели.
– Мы купим его в сентябре, – заверил он, – когда пройдут холода, и мы сможем гулять.
День был дождливый. Прижавшись лбом к оконному стеклу, Клара сказала:
– Как хорошо быть вместе и слушать дождь за окном.
Она приготовила ему мате. Они заговорили о третьей ночи карнавала двадцать седьмого года. Гауна сказал:
– Я сидел за столом с девушкой в маске.
– А что было потом?
– Потом мы пошли танцевать. Тут ударили в тарелку, танец прервался, все взялись за руки и побежали цепью по салону. Потом снова раздался звон тарелки, и мы опять образовали пары, только с другими. Так я потерял девушку в маске. Как только смог, я вернулся к столу. Доктор и ребята ждали меня, чтобы я расплатился. Доктор предложил выйти прогуляться к озерам, чтобы немного проветриться и не закончить карнавал в полиции.
– И что ты сделал?
– Пошел с ними.
Казалось, Клара усомнилась.
– Ты уверен? – спросила она.
– Конечно же уверен.
– Ты уверен, – настаивала она, – что не вернулся к столу, где сидела маска?
– Уверен, дорогая, – ответил Гауна, поцеловав ее в лоб. – Однажды ты сказала мне то, чего никто бы не сказал. Тогда мне было очень больно, но я всегда был благодарен тебе за это. Теперь моя очередь был откровенным. Я был в отчаянии оттого, что потерял девушку в маске. Внезапно я увидел ее у стойки бара. Я уже поднялся, чтобы подойти к ней, как вдруг понял, что она улыбается молодому человеку – головастому, со светлыми волосами. Быть может, потому, что я так обрадовался, увидев ее, я сразу же разозлился. А может, то была ревность, кто ее знает. Я ничего не понимаю. Я люблю тебя, и мне кажется невероятным, что я ревновал кого-то еще.
Словно не слыша его, Клара продолжала настаивать:
– А что было потом?
– Я принял предложение прогуляться к озерам, поднялся, оставил на столе деньги и ушел с Валергой и ребятами. Потом завязался какой-то спор. Это мне словно приснилось. Антунес или кто-то другой заявил, что я выиграл на скачках больше, чем сказал. Здесь все становится смутным и обрывочным, как во сне. Наверное я совершил непростительную ошибку. Насколько я помню, доктор встал на сторону Антунеса, и в результате я вижу, как мы деремся с ним на ножах при свете луны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.