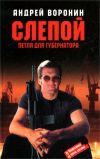Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
XXII
Он направился к югу, свернул на Гуайру, потом налево, по улице Мельян. «Променяла меня на этого мерзавца, – думал он, – на этого упитанного, лощеного, чистого кабана. А еще говорит, что мы близки. Если ей нравится этот кабан в вязаном жилете, если ее вкусы так отличаются от моих, как она может считать, что мы близки?» Он улыбнулся своим мыслям. «У всех женщин вкусы иные, чем у меня». Он заметил, что какой-то мальчуган удивленно уставился на него. «Только этого не хватало. Иду по улице и смеюсь сам с собой». Он ощутил прилив благородной беспечности, словно был слегка пьян. «Я словно пьян от вина ее черного коварства», – продолжил он. Подумал, что эти слова должны были бы его огорчить, но почему-то уже ничто его не огорчало. «Ах, черное вино ее коварства», – сказал он вслух. Начал напевать танго. Понял, что напевает «Прощайте, парни». Он обтер рот рукой и сплюнул.
Пожалуй, лучше всего было бы закончить вечер в «Платенсе». Он мысленно увидел всех, кого встретит там: Пегораро, Майдану, Антунеса, быть может, Черную кошку. Услышал, как шепчет: «Если кто-то захочет подраться, то я готов». (Поскольку почти все они были его друзья, странно, что такая мысль пришла ему в голову.) В кафе он забудет о своих огорчениях. А для этого он станет другим человеком, большим забавником, чем дон Браулио, рабочий из Управления санитарных работ. Представив себя в образе красноречивого говоруна, предвидя успехи, сулящие мимолетное забвение, он почувствовал тоску.
Потом ему подумалось, что лучше было бы остаться в театре. «Они заметят мое отсутствие. Не только Клара, но и Бластейн и все остальные. Быть может, Клара всем все объяснит. Она не такая, как другие женщины».
«Мне безразлично, – продолжал рассуждать он, – будут эти люди знать или нет. Больше они меня не увидят. Клара тоже. Хуже всего, что сегодня, раз меня там не будет, ее снова будет провожать этот омерзительный тип. Нет, это не должно меня волновать. Хуже, если она станет меня искать, будет поджидать у мастерской или возле дома. Хуже всего, если придется объясняться». Мысль о грядущем объяснении лишала его сил. Хорошо бы дать ей две пощечины и оставить навсегда. Но он не сможет так поступить. У него не хватит духа так ее унизить. Когда Клара взглянет на него, его решимость растает. «Поделом мне за все мое дружелюбие и рассудительность. Какая глупость. Дружить с женщинами – это для гомиков».
Улица полого уходила вниз; метрах в ста спуск кончался, и улица терялась среди деревьев, словно тенистая аллея. Глядя на туманные городские дали, на эти тонущие в сумерках крыши, дворы и купы деревьев, Гауна ощутил ностальгию, какую порождает у нас созерцание моря, когда стоишь на берегу; он подумал о других далях; припомнил, как велика страна, и ему захотелось сесть в поезд и ехать долго-долго, наняться на сбор урожая где-нибудь в Санта-Фе или затеряться в пампе.
Но от этих проектов приходилось отказаться. Он не мог уехать, не переговорив с Ларсеном. И даже Ларсену он не хотел рассказывать, как с ним обошлась Клара.
Не оставалось ничего другого, как вернуться, притвориться любящим, веселым. «Выстроить прочную линию обороны, в которой она не могла бы найти ни малейшей щели, – и постепенно взращивать в себе равнодушие, а потом начинать отдаляться. Понемногу, не торопясь, очень ловко». Размышляя об этом, он воспламенялся, словно наблюдая со стороны за собственным подвигом, словно был собственной публикой. «Очень ловко, с таким мастерством, что эта несчастная Клара никогда не свяжет мое охлаждение с Баумгартеном, с этой историей». Кларе будет казаться, что он отдалился, потому что разлюбил ее, а не потому, что презирает ее, не потому, что она его предала, разбила его сердце. Гауна почувствовал, что очень взволнован.
Незачем было спрашивать, что делала она с Баумгартеном. «А я-то был так спокоен, уверен в себе, чувствовал себя настоящим мужчиной, и оказалось, что в этой истории именно я оказался несчастным, именно меня обманули, будто женщину».
Был и другой выход: подстеречь этот кабана на пустыре и спровоцировать. «Если он начнет драку, я сделаю ему одолжение и пощекочу его ножичком, по самую рукоятку. Хуже всего, что Клара подумает, что я сошел с ума. А что я скажу Ларсену? Я покажусь ему идиотом, от каких бывает противно».
Он вошел в бар – зеленый дом в виде маленького замка с зубцами вдоль крыши – на углу улиц Мельян и Оласабаль. За стойкой маячил грязный тщедушный человечек; с мокрой тряпкой в руках он склонялся над металлическим краном в виде стройной шеи и горбоносой головы фламинго, и с безутешным отчаянием смотрел в раковину, полную немытых стаканов. Гауна попросил порцию темной каньи. После третьего стакана он услышал пронзительный гнусавый и, как ему показалось, дьявольский голос, повторявший «Судьба, судьба». Он глянул вправо и увидел, как по краю стойки к нему идет попугайчик.
Дальше, ниже, откинувшись на спинку маленького стула, почти лежа на полу и глядя в потолок, отдыхал негнущийся человек; параллельно с ним, прислоненный к спинке такого же стула, лежал ящик, из которого торчала, точно нога, длинная палка. Попугай настойчиво твердил: «Судьба, судьба» и продолжал перебирать лапками; он был уже совсем рядом. Гауна хотел расплатиться и уйти, но буфетчик куда-то запропастился, нырнув в дверь, которая вела в темные глубины. Птица захлопала крыльями, раскрыла клюв, взъерошила зеленые перья и сразу же стала снова аккуратно-гладкой; она сделала еще один шаг в сторону Гауны. Тот обратился к человеку, отдыхавшему на стуле.
– Сеньор, – сказал он, – Ваша птица чего-то хочет.
Не шевельнувшись, человек ответил:
– Она хочет предсказать вам судьбу.
– А во сколько это обойдется? – спросил Гауна.
– Недорого, – отозвался человек. – Для вас – двадцать сентаво.
Он взялся за ящик и ловко, не сгибаясь, поднялся. Гауна обнаружил, что у него деревянная нога.
– Да вы с ума сошли, – возразил молодой человек, с неудовольствием наблюдая, как птица вертит головой, собираясь вскарабкаться на его руку.
Деревянная нога с готовностью сбавил цену:
– Десять сентаво.
Он схватил попугая и поставил его перед ящиком. Птица наклонилась и вытащила зеленый билетик. Ее хозяин взял билетик и протянул Гауне. Тот прочел:
Спросите – мудрый ворон вам ответит:
всё, что вы ищете на жизненной дороге,
в безмерной щедрости дадут вам боги.
Пока пируйте же на праздничном банкете.
– Я так и думал, что у этой птицы дурной характер, – заметил Гауна. – Она не хочет, чтобы мне повезло.
– Не смейте так говорить, – уже рассерженно ответил человек с деревянной ногой, поворачиваясь к Гауне. – Мы оба всегда желаем клиенту счастья. А ну-ка покажите мне билетик. Вот видите, вы даже читать не умеете. Здесь написано большими буквами, что вы получите все, что ищете. Не знаю, чего вам еще надо за столь умеренную плату.
– Ну ладно, – ответил Гауна, почти смирившись. – Но там написано, что это ворон, а не попугай.
– А мой попугай мудр, как ворон, – ответил хозяин птицы.
Гауна протянул ему монету, заплатил за канью и вышел на улицу. Спустившись по улице Мельян до Пампы, он свернул направо и потом двинулся по проспекту Форест. Здесь все было не так, как в его районе. Вместо убогих домишек, казавшихся ему простосердечными и веселыми, тут, отступив от улицы, среди загадочного узора садов, за строгими оградами стояли молчаливые виллы. Ветви деревьев сплетались шатром. Гауне думалось, что высокомерные привратники смотрят на него подозрительно и свысока; в его жилах кипела отвага, его обуревало желание созвать всегда готовых ребят из Сааведры и устроить тут бог знает что… Но вся беда в том, что ребята за ним не пойдут. К несчастью, в эту эпоху эгоизма подвиги – дело одиночек. А одиночка – на что он способен?
Гауна припомнил свой район. Слово Сааведра вызывало в его памяти не окруженный рвом сквер, где тянулись к небу тонкие эвкалипты; он вспоминал пустую, довольно широкую улицу, вдоль которой шли ряды низких, неодинаковых домов, таких отчетливых в безжалостном послеполуденном свете.
Как человек, который в неправдоподобные ночи и бесконечные серые рассветы, следующие за чьей-то смертью, среди глубокой скорби вдруг ловит себя на мысли уже посторонней, уже отрешенной, Гауна внезапно спохватился: о чем он думает? Ему захотелось вернуться к своей боли, к одиночеству, к Кларе.
Он искал причину несчастья в себе, в явно неправильном своем поведении, но при этом подозревал, что каким-то смутным и глубинным образом во всем виноваты поступки, на первый взгляд никак не связанные с желаниями Клары: например то, что он напевал танго «Прощайте, парни», или то, что утром сначала завязал шнурки на левом ботинке, а потом на правом, или то, что вечером окунулся душой в дурман несчастья, исходивший от фильма «Любовь бессмертна».
Он брел, точно лунатик, не глядя по сторонам, или вдруг непроизвольно сосредотачивал взгляд на каком-то одном предмете: скажем, почему-то стал разглядывать с пристальностью художника могучий наклонный ствол дерева на пустом тротуаре проспекта Форест; сизо-зеленые ветви гнулись, словно проливаясь дождем мелких листьев, и Гауна спросил себя, отчего дерево не спилили.
Теперь он шел на запад; снова подумал о Кларе, снова оказался среди домишек, похожих на те, что стояли в его районе (похожие, но не такие же, сказал он себе); его путь лежал по бесконечным незнакомым улицам; с некоторой печалью он отметил, что дни становятся короче; вошел в бар, спросил стопку, затем другую; вышел и зашагал дальше, увидел проспект – оказалось, что это Триумвирато – и свернул налево.
Инстинктивно ему хотелось наказать Клару и наказать Баумгартена. «Чем больше будет шума, тем дальше отступит сегодняшняя боль». Пусть даже люди узнают о его унижении, но тогда он сможет ее забыть. Надо ее забыть, чтобы жить с новыми силами. Плохо то, что в какой-то неизбежный момент, когда волнение утихнет, он вспомнит сегодняшний день и то, что девушка ему сказала. Плохо то, что месть увековечивает позор. Раз Клара обманула его сегодня, ни к чему ударить ее и даже потом убить… «И напротив, – пробормотал он, – если ухаживать за ней, чтобы позже забыть…» К сожалению, тогда пришлось бы вернуться и опять лицемерить, казаться самоотверженным, преданным. Хотя и не столь разумно, но гораздо приятнее было дать ей пощечину – сначала ладонью, затем тыльной стороной руки – и уйти навсегда.
Казалось, он шел целую вечность; обогнул стену кладбища Чакарита, пересек железнодорожные пути и различил вагоны, стоящие среди домов, прошел мимо огороженных пустырей, печей для обжига кирпича и наконец побрел с опаской по улице Артигас, под темными деревьями, своды которых вздымались словно выше небес. Опять перешел через пути, вышел на площадь Флорес и внезапно понял, что очень устал; хотелось есть, сойти в кафе или ресторан, сесть и что-нибудь перекусить. Но везде было слишком много народу. Народу было столько, что он рассердился. Пошел дальше, увидел проходивший трамвай – двадцать четвертый номер, побежал и догнал его. Он собирался было, как всегда, остаться на площадке, но ноги у него подкашивались, «просились сесть», как выразился он; пришлось пройти в вагон. Он понял, что судьба улыбнулась ему: сиденья были мягкими. Удобно устроившись, он заплатил за билет и с некоторой гордостью (похожей на ту, что испытывает каждый, видя в избирательном списке свое имя, написанное заглавными буквами) прочел надпись: «Вместимость: сидячих мест 36». Достал из кармана брюк зеленоватую пачку сигарет «Баррилете» и принялся курить – спокойно, не торопясь.
XXIII
Трамвай то катился на восток, то петлял по улицам южных кварталов; Гауна думал о Кларе, о Баумгартене, рисовал себе, как расправляется с Баумгартеном в присутствии Клары, как бьет Клару по щекам и потом прощает ее, как ему не удается ни то, ни другое, потому что соперник тяжелее Гауны и руки у него длиннее, а девушка выставляет его на смех; расстроившись, он воображал тогда, как угрюмо и окончательно замыкается в себе, и все жители Сааведры говорят о нем с почтением. Лязг колес, достигавший мгновенной кульминации, когда трамвай набавлял скорость или поворачивал, втайне аккомпанировал течению его мыслей. Гауна ощущал всю глубину своего несчастья, жалел себя, убеждался, что случай его – исключительный, и думал, что если бы кто-то дал ему сейчас бумагу и карандаш и знай он хоть начатки музыки, хоть половину того, что понимает в фортепьяно самая некрасивая из его двоюродных сестер, он прямо тут же сочинил бы танго, которое в один миг сделало бы его любимцем, идолом великого аргентинского народа, а Гардель-Раццано остался бы с носом; но нет, его жизнь не изменит курса, будущее предначертано: после поездки в трамвае он рано или поздно вернется в Сааведру. Хуже всего, что и мысли тоже останутся прежними: он неизбежно будет помнить о предательстве Клары, что заставит его удалиться от мира, искать одиночества; и столь же неизбежно будут присутствовать его отношения с Кларой – не только сентиментальные, но и дружеские, полные взаимопонимания, которые потребуют объяснений, воскресят в нем некое чувство ответственности, будут подталкивать к самому разумному из решений: помириться, забыть, принести в жертву уязвленное самолюбие; а Ларсен и все соседи – они будут взирать с огорчением, с удивлением, с презрением на его позор. Чтобы все изменить, надо совершить безумный поступок, и не просто безумный, который лишь усугубил бы его падение, но нечто особенное, остроумное – такое, что перечеркнуло бы прошлое, сбило бы людей с толку, заставив их смотреть в другую сторону, уже не помня о нынешнем плачевном положении. Но тут ему не хватит фантазии, он чувствовал, что способен только совершить огромную глупость, которая сделает его посмешищем. А может, и нет. Может, ему не хватит решимости. Перед ним еще оставалось два пути. Вернуться, спрятав свои чувства, проглотив свою обиду, – то, что было самым для него важным, притворяться, чтобы укрыться в одиночестве, мечтая о далекой мести; или второй путь – устроить драку. Вот это был выход. После драки все переменится. Сам путь не важен, просто на него будут смотреть иначе, но это уже немало. Хорошо, драка – но с кем? Самым очевидным противником был Баумгартен, но надо будет подыскать другого, кого никак нельзя будет связать с изменой Клары. Надо предпринять нечто такое, что отвлекло бы внимание людей в другую сторону и заняло бы его самого.
Трамвай, дергаясь, катился по пустынной улице Барракас. Гауна увидел свет, падавший на тротуар. Он встал с места, но когда вышел на площадку, трамвай был уже на углу. Гауна посмотрел назад. Легким и точным движением спрыгнул на мостовую и медленно зашагал по середине улицы, глядя на рельсы, – мерцание голубоватых бликов тревожило его, вызывая мгновенное ощущение чего-то уже виденного. Он поравнялся с освещенным подъездом. Дверь была приоткрыта, и он вошел, не позвонив. «Слишком много народу, – сказал он себе. – Лучше уйти». Прямо перед ним была спина мужчины в черном, рядом – плечо другого, в куртке пекаря. Он попытался протиснуться вперед, приподнимаясь на цыпочки, чтобы увидеть, что там делается, и думал: «Лишь бы не случилось чего, не то еще возьмут в свидетели». В этот миг он почувствовал, как кто-то стиснул его локоть. Это была немолодая низенькая дама, чересчур белокурая, в чересчур зеленом платье. Гауна с интересом оглядел ее: жирно наложенная губная помада слегка растеклась, а накладная мушка на щеке казалась пятнышком сажи. Дама сказала ему с резким иностранным акцентом:
– Вы знали, что у нас свадьба?
– Нет. Я тут ни с кем не знаком, – ответил Гауна.
– Тогда вам придется прийти завтра, – объяснила дама и сразу же добавила: – Но сейчас попразднуйте с нами. Идемте, выпейте вина – у нас есть «Сарагосское» и «Веселый дед», отведайте пирожного.
Они с трудом пробились к столу, где стоял поднос с пирожными. Его угостили обещанным и представили двум барышням, очень строгим с виду. У одной были раскосые глаза и кошачье лицо; она говорила без умолку, с деланным возбуждением. Другая была темноволосая, молчаливая, и ее участие в разговоре казалось сводилось к простому присутствию, к тому, что она стоит рядом, к тому, что здесь, под скромным легким платьем, пребывает в покое ее тело. Гауна смутно уловил, что сеньориты работают в Росарио, и услышал, как несколько минут спустя сам рассуждает о неудержимом прогрессе этого аргентинского Чикаго – города куда более веселого, чем Буэнос-Айрес, города, где он надеется когда-нибудь побывать.
– Мы-то никогда не выходим из дому, – с обидой заметила разговорчивая сеньорита, – так что нам безразлично, как там веселится Росарио.
Дама-иностранка рассказывала ему о свадьбе:
– Найдутся злые языки, которые станут говорить, что это несерьезно, потому что нет ни священника, ни гражданской регистрации. Но я прошу вас, подумайте, какие браки в наши дни. Нудила – славный человек, и я уверена, что у Магги будет теперь кому позаботиться о медицинских справках, о разрешении из муниципалитета и многом другом. Скажите, чего еще надо женщине от своего мужа.
Потом она предложила Гауне еще пирожных и позвала пойти поздравить молодых. Гауна попытался уклониться, но вынужден был последовать за дамой, прокладывая себе путь среди толпы. Новобрачные, стоя в углу столовой, принимали поздравления гостей, которые в доказательство того, что здесь все было отмечено непринужденностью и хорошим вкусом, быстро переходили к сальностям и скользким шуткам. Молодая – бледная, возможно белокурая девушка в круглой шляпке, надвинутой на самые глаза, была в очень коротком платье и туфлях на высоких каблуках. Новобрачный оказался плотным седым человеком; его черный костюм и подчеркнутая опрятность наводили на мысль, что он приехал погостить из провинции; и напротив, руки у него были маленькие, мягкие, ухоженные. Поздравив их, Гауна стал протискиваться во двор. Он подумал, что необходимо проветриться (в доме стояла страшная духота, дышать было нечем). Гауна обливался холодным потом; на миг ему показалось, что он теряет сознание. «Какой позор, какой позор», – повторял он про себя. Тут его отвлекли плаксивые звуки скрипки. Наконец он очутился во дворе – довольно узком, вымощенном красными, уже затоптанными плитками; в горшках и жестяных банках виднелись растения с белыми и желтыми цветами. Музыкант стоял в углу, прислоняясь к тонкой железной колонне, в окружении группы любопытных. Дама-иностранка говорила почти в ухо Гауне.
– Как вам показались новобрачные? – спросила она.
Чтобы хоть что-то ответить, Гауна сказал:
– Невеста совсем недурна.
– Вам придется прийти завтра, – отозвалась дама. – Сегодня она не может вас обслужить.
В смутной надежде отделаться от своей спутницы, Гауна подошел к скрипачу. Ему показалось, что на лбу музыканта нарисована корона – то был венчик из маленьких бледных отметин, вероятно, рубцов, в виде цепочки или ряда ромбов. Лет скрипачу было около тридцати; он был без шляпы, и его длинные негустые каштановые волосы волнами падали на плечи, придавая ему некую изысканность и определенное достоинство. В странно открытых глазах застыло выражение скорби; бледное лицо заканчивалось остроконечной, мягкой и чахлой бородкой. Возле скрипача стоял маленький мальчик, рассеянно вертя шляпу.
– Сыграйте нам еще вальсок, маэстро, – смиренно попросил Гауна.
Плавно, словно затем, чтобы заслониться от сильнейшего, но замедленного удара, музыкант воздел руки – казалось, он распят на колонне, – хрипло застонал, в страхе отступил и бросился бежать, натыкаясь на стены, окружавшие дворик. Мальчик со шляпой очнулся, кинулся к скрипачу, схватил его за руку и потащил к выходу. Гауна ничего не мог понять, но вместо того, чтобы задуматься о причине столь неуместного бегства, вдруг припомнил, как отчаянно металась по комнате залетевшая в окно птица, – он видел это ребенком в доме дяди, в Вилья-Уркиса. Потом он опомнился и заметил, что все смотрят на него опасливо, возможно даже с почтением. Было очевидно, что дама-иностранка пыталась что-то сказать, но отчего-то не могла произнести ни слова. Не дожидаясь, пока она придет в себя, Гауна двинулся к выходу. Люди расступались перед ним и провожали его взглядами. Молодой человек вышел на улицу, перешел на другую сторону и не торопясь зашагал прочь. Пройдя метров двести, он оглянулся. Никто его не догонял. Он продолжил путь и через какое-то время спросил себя, что же собственно произошло. Ответить он, конечно, не мог. И вновь непроизвольно на какой-то миг в голове возникло танго «Прощайте, парни».
Когда он вернулся, Ларсен спал. Гауна тихо разделся, открыл кран над раковиной и подержал голову под холодной струей. Потом лег спать с мокрыми волосами. Перед его закрытыми глазами возникали образы, маленькие живые лица, выраставшие одно из другого, как вода из фонтанов; они гримасничали, исчезали и заменялись другими – похожими, но чуть иными. Так, тихо лежа на спине, он следил за этим непроизвольно развивавшимся и бесконечным внутренним спектаклем, пока наконец не заснул и проснулся почти сразу же от звонка будильника «Тик-так». Было шесть часов утра. К счастью для Гауны, сегодня была очередь друга готовить мате.
– Ты поздно лег вчера, – сказал ему Ларсен.
Гауна ответил неопределенным «да», посмотрел на Ларсена, который разжигал примус, и подумал: вечно он найдет повод осудить Клару. Гауна чуть было не сказал, что накануне был не с ней, как бы объясняя: на этот раз Клара не виновата. И сразу же рассердился на себя, обнаружив, что его первым побуждением было встать на ее защиту. Один за другим оба помыли лицо и шею. Покончив с мате, оба были уже одеты.
– Что ты делаешь вечером? – спросил Гауна.
– Ничего, – ответил Ларсен.
– Поужинаем вместе.
На миг Гауна задержался в дверях, думая, что Ларсен спросит, не поссорились ли они с Кларой, но самое большее, чего мы можем ждать от ближнего, – это безразличное непонимание; Ларсен промолчал, Гауна смог уйти, и неприятное объяснение было отложено, возможно – навсегда.
Улицу заливал яркий белый свет, воздух был горяч и неподвижен, как в полдень; одна лишь тележка молочника, звонко прогремев на пустом углу, свидетельствовала, что еще очень рано. Гауна двинулся по теневой стороне, спрашивая себя, как избежать встреч с девушкой во время новогодних праздников. Потом подумал, что день двадцать четвертого декабря был самым жарким за все лето. И философски улыбнулся, припомнив рождественские картинки, с изображенными на них снежными пейзажами. Он вошел в мастерскую и почувствовал, что сейчас задохнется: там не было воздуха, одна духота. «А в два часа дня, – содрогнулся он, – металл будет раскаленным. Сегодняшний день серьезно поспорит с рождественским».
Присев – кто на корточки, кто на шины, – Ламбрускини и механики потягивали мате. У Феррари были редкие тонкие волосы в мелких завитках, голубые глаза, смотревшие на все презрительно, бледное, безбородое лицо; в углу рта вечно торчал замусоленый, жеваный окурок. Когда он говорил, были видны длинные, слабо сидящие зубы и черная дыра между ними; он был худой и сутулый и как-то неестественно выворачивал свои большие ступни. Когда его просили сходить куда-нибудь, он почему-то всегда поглаживал ноги – обутые или босые – и недовольно восклицал: «Плоскостопие. Освобожден от всякой службы». У Факторовича были каштановые волосы, темные глаза, блестящие и пристальные, широкое белое лицо, странно плоское и твердое, словно вырезанное из дерева, огромные остроконечные уши и большой заостренный нос. Смуглая кожа Касановы так блестела, будто была покрыта лаком; густые короткие волосы спускались чуть ли не до бровей, словно на голову был натянут черный тесный чулок. Низкий, почти без шеи, он казался не столько толстым, сколько раздутым, а двигался мягко, ловко. Он всегда улыбался, но ни с кем особенно не дружил. Как утверждали механики, нужно было иметь терпение Ламбрускини, чтобы его выносить.
Разговор шел о поездке за город, к одному родственнику сеньоры Ламбрускини. Хозяин приглашал всех.
– Выезжаем первого числа на рассвете, – сказал он Гауне. – На тебя тоже рассчитываем.
Гауна торопливо кивнул. Когда остальные продолжили разговор, он спросил себя, сможет ли поехать, умудрится ли провести первое января без Клары.
– Сколько нас? – спросил Ламбрускини.
– Я сбился со счету, – ответил Феррари.
– Ты забыл о самом главном, – прерывал их Факторович. – Вопрос транспорта.
– Нет ничего лучше, чем «броукуэй» сеньора Альфано, – заметил Касанова.
– Машины клиентов неприкосновенны, – провозгласил Ламбрускини. – Их можно брать только для крайних надобностей и только под предлогом обкатки. Нам хватит и «букашки».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.