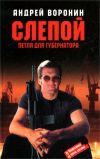Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
XLI
Отяжелев от еды, все решили пройтись. Наконец они добрались до улицы Меданос. Заведение было закрыто. Почти все места, где они побывали в двадцать седьмом году, теперь были закрыты. Они вышли на широкий проспект, и под оглушительный и непрерывный грохот ближайшего оркестра доктор рассказал, как много лет назад поджег ряженую, которая чем-то ему не угодила.
– Видели бы вы, как она бежала, бедняжка, в соломенной юбочке, с маленькой гитарой, которую называют укелеле. В газетах, в полицейской хронике ее описывали, как «живой факел».
В одном кафе, уже недалеко от Ривадавии, Гауна припомнил, что в двадцать седьмом году они сидели здесь, даже быть может за тем же столиком, и что здесь что-то произошло с каким-то мальчиком. На миг ему показалось, что он вспомнил этот эпизод, почувствовал то, что чувствовал тогда. Он спросил:
– Мне кажется, тут случилась какая-то история с ребенком, вы помните, что это было?
– Абсолютно ничего не помню, – заявил доктор, глотая звук «б» и удваивая «с».
– Сдохнуть мне на этом месте, если мне хоть что-то запомнилось, – сказал Антунес.
Гауна подумал, что если он вспомнит этот случай, из глубины памяти всплывут чудесные утраченные мгновения… Пока ясно было одно: тогдашнего настроения уже не вернуть. Сейчас он не мог отдаться чувству безраздельного единения с друзьями, чувству почти магической власти, пронизанному щедрой беспечностью. Сейчас он был лишь придирчивым и недобрым наблюдателем.
Осушив рюмку джина, Гауна уловил что-то похожее на воспоминание о карнавале двадцать седьмого года. Ощущая себя невероятно хитрым, он спросил:
– Где мы проведем ночь, доктор?
– Не беспокойся, – ответил Валерга. – В Буэнос-Айресе нет недостатка в постелях по песо за ночь.
– По мне, – заметил Пегораро, – так Эмилито уже не прочь вернуться в свою нору. Он какой-то скучный, как в воду опущенный, понимаешь ли.
– В тот раз, – продолжал Гауна, – мы отправились в усадьбу какого-то вашего друга.
– Куда-куда? – переспросил доктор.
– В усадьбу. Нас встретила очень недовольная сеньора и куча собак.
Валерга только улыбнулся.
Ребята говорили свободно, словно чувствуя, что у доктора не было настроения их попрекать.
– Теперь ты решил экономить? – спросил Пегораро. – Такой человек, как ты не станет дрожать над жалким песо.
– Не обращай внимания, – с жаром вмешался Антунес. – Мой постоянный девиз: мы должны беречь каждый твой сентаво.
– Они не понимают тебя, Эмилито, – заметил доктор почти ласково. Затем, обращаясь к молодым людям, пояснил: – По определенной причине, известной ему одному, Эмилио хочет, чтобы мы повторили путь, пройденный нами в двадцать седьмом году. Вам незачем знать эту причину, иначе, я полагаю, он объяснил бы все нам, своим друзьям.
– Но доктор, – запротестовал Гауна.
– Не терплю, когда меня прерывают. Я говорил, что мы друзья всей твоей жизни и что меня удивляет твоя уклончивость. Другому бы я этого не простил. При одной только мысли у меня закипает кровь. Но Эмилито – иное дело: он человек везучий, он был так любезен, что вспомнил о нас, пригласил нас, и, чтобы выразить это одним словом, никто не скажет, что я не умею быть благодарным.
– Но доктор, уверяю вас… – настаивал Гауна.
– Тебе не надо оправдываться, – остановил его Валерга, снова говоря дружеским тоном. Потом обратился к ребятам: – Порой нам хочется вернуться туда, где мы часто бывали в пору золотой юности. Порой, сказал я, потому что даже самый настоящий мужчина не свободен от воспоминаний о какой-нибудь женщине. – Он снова повернулся к Гауне. – Я хочу сказать, что одобряю твое поведение. Ты прав, что ничего не говоришь. Эти сегодняшние пустозвоны рассказывают все подряд и даже не уважают доброе имя вертушки, обратившей на них внимание.
Гауна спросил себя, верить ли доктору, верить ли, что доктор верит в то, что сказал. А он сам верит в это? В чем смысл этого беспорядочного странствия? В том, чтобы отметить памятную встречу с маской в «Арменонвиле»? Или он повторяет путь в магической надежде, что повторится и сама встреча?
Они заказали еще по порции джина и вышли из кафе. Доктор объявил двусмысленным тоном:
– Теперь отправились в усадьбу.
Антунес подтолкнул Майдану локтем, и оба засмеялись, Пегораро тоже. Валерга строгим взглядом призвал их к молчанию.
Вдали светились огни Ривадавии, оттуда доносился шум. Они разминулись с двумя сеньоритами, наряженными испанками, и молодым человеком в костюме пирата.
– Уф! – воскликнул молодой человек. – Какое счастье, что мы ушли.
– В этом году карнавал просто ужасный, – пожаловалась одна из сеньорит. – Шагу нельзя ступить без того, чтобы первый же нахал…
– Вы заметили, – прервала ее другая, – он прямо ел меня глазами…
– А я, клянусь, боялся, что от духоты задохнусь, – заверил молодой человек.
– Да что вы говорите, – пробормотал Валерга.
Уличные торговцы предлагали маски, полумаски, носы, серпантин, коробки с бутылочками; местные ребятишки предлагали тайком, за умеренную цену, использованные бутылочки, наполненные заново – как уверяли люди, водой из канавы; другие продавцы торговали свежими и засахаренными фруктами, мороженым «Лапландия», крендельками из кукурузной муки, кексами и арахисом. Ребята и доктор протолкались сквозь толпу, чтобы посмотреть на процессию. Пока они наблюдали за большими ангелами, выделывавшими странные движения на повозке с некой аллегорической сценой, рыжая девушка, сидевшая в большом наемном фаэтоне, метко прицелившись, угодила красным шариком доктору в глаз. Валерга, явно рассердившись, попытался швырнуть в нее бутылочку, отнятую в порыве гнева у плаксивого мальчика, наряженного гаучо, но Гауна сумел его удержать. После этого молодые люди и Валерга медленно двинулись дальше среди толпы, глядя по сторонам и задирая девушек, входили в бары, пили канью и джин. Потом, усевшись в такси, продолжали бесконечный путь, выкрикивая комплименты и ругательства. Где-то на уровне домов под номерами, начинавшимися с 7200, Валерга приказал:
– Стойте, шофер. Я больше не могу.
Гауна расплатился. Они зашли в еще один бар и потом по неширокой тенистой улочке, возможно Лафуэнте, двинулись к югу. В тишине пустынных кварталов громко раздавались их пьяные голоса.
Слева, на фоне лунного неба и облаков, виднелись беловатые стены и высокие трубы какой-то фабрики. Вдруг стены сменились крутыми оврагами. Гауна увидел густую траву, росшую по их краям, кое-где сосну-другую и кресты. Воздух был пропитан душным запахом сладковатого дыма. Здесь уже царила темнота, последний одинокий фонарь, стоявший над обрывом, остался позади. Они шли дальше. Тучи скрыли луну. Теперь слева, как показалось Гауне, простиралась тёмная равнина; справа – холмы и долины. На равнине слева появлялись и исчезали круглые огоньки. Два таких огонька стремительно надвинулись на них из темноты. Внезапно Гауна увидел почти рядом огромную голову лошади. Наверное, после жутких масок, которых он навидался этой ночью, мирная морда животного испугала его как дьявольское наваждение. Он понял: слева был загон для лошадей; круглые огоньки – лошадиные глаза. Потом у него подкосились ноги, ему показалось, что он теряет сознает. В голове его промелькнуло и сейчас же исчезло какое-то воспоминание – так человек, проснувшись, мгновенно вспоминает и тут же забывает приснившийся сон. Когда ему удалось снова зацепиться за это воспоминание, он выразил его вопросом:
– Что произошло в ту же ночь двадцать седьмого года с лошадью?
– Ну вот, – отозвался доктор. – Сперва это был мальчик.
Все засмеялись. Пегораро заметил:
– Эмилито у нас очень переменчив.
Гауна поднял глаза и увидел зарницу на небе. Он загадал желание: вернуться к Кларе.
Вслед за Валергой они сошли с дороги и зашагали по холмам и долинам – так ему казалось, – простиравшимися справа. Идти было трудно, потому что земля, сухая и мягкая, проседала под ногами.
– Какой противный запах, – воскликнул Гауна. – Дышать невозможно.
Вокруг стоял этот отвратительный запах сладковатого дыма.
– Гауна у нас неженка, – пропел Антунес высоким женским голосом.
Гауна услышал его словно издалека. Холодный пот выступил у него на лбу, в глазах потемнело. Когда он пришел в себя, его поддерживала рука доктора. Валерга дружелюбно сказал:
– Давай Эмилито. Уже близко.
Они двинулись дальше. Вскоре послышался лай. Их окружила стая бродячих собак; собаки лаяли и повизгивали. Точно во сне Гауна увидел женщину в лохмотьях – женщину, встретившую их в дверях усадьбы в 1927 году. Валерга заспорил с ней, взял ее за локоть, отодвинул в сторону, освобождая им дорогу. Комнатка была маленькой и грязной. Гауна увидел в углу овечью шкуру. Без сил он свалился на нее и уснул.
XLII
Когда Гауна проснулся, в комнате было темно. Он слышал дыхание спящих. Заткнул уши, закрыл глаза. И сразу вернулся к тому же сну, который видел перед пробуждением: с ножиком в руках он топтался в кольце людей, почти скрытых под причудливо сплетавшимися тенями; понемногу в свете луны он узнал их всех: это были доктор и ребята. Он снова проснулся и широко раскрыл глаза, глядя в темноту. Почему он дрался, почему во сне его сжигала такая ненависть к Валерге? Он уже не слышал дыхания спящих, а напрягшись, забыв обо всем, ловил какое-то воспоминание. Он нашел его во сне, а, проснувшись, потерял. Наконец он вспомнил. Да, то был случай с мальчиком. Во сне снова произошло то, что случилось в двадцать седьмом году. Теперь Гауна помнил это во всех подробностях.
Там был не один мальчик, а два. Первый – лет трех-четырех, в костюме Пьеро, вдруг возник у их столика, тихо плача, а другой, чуть постарше, сидел за соседним столом. Доктор рассказывал одну из своих историй, когда первый мальчик внезапно остановился возле него.
– Ну, рекрут, что надо? – раздраженно спросил его доктор.
Ребенок продолжал плакать. Доктор заметил второго мальчика, подозвал его, сказал ему на ухо несколько слов и дал бумажку в пятьдесят сентаво. Мальчишка – без сомнения, подчиняясь приказу, – пнул Пьеро ногой и убежал к своим. Пьеро ударился ртом о край стола, выпрямился, утер кровь с губ и продолжал тихо плакать. Гауна спросил его, что случилось: мальчик потерялся и хотел вернуться к родным. Доктор встал и заявил:
– Минуту, ребята.
Он подхватил мальчика и вышел из кафе. Вернулся он очень скоро, воскликнул: «Готово» и объяснил, потирая руки, что посадил ребенка в первый же проходящий трамвай, в вагон, полный масок. И добавил со вздохом:
– Видели бы вы, как перетрухнул бедняга рекрут.
Это был случай с мальчиком, это было первое приключение, пример, по которому можно было судить о том, что осталось в его памяти героической эпопеей, о трех славных ночах двадцать седьмого года. Теперь Гауна хотел припомнить, что было с лошадью. «Мы ехали в коляске», – сказал он и попытался представить себе эту сцену. Закрыл глаза, сжал рукой лоб. «Бесполезно, – подумал он, – больше я ничего не вспомню». Чары развеялись, он превратился в зрителя, следившего за собственными умственными процессами, которые замерли… Или нет, не замерли, но не подчинялись его воле. Он видел одну сцену, только одну сцену другого эпизода, но не эпизода с лошадью. Сильно накрашенная женщина в голубом халате, под которым виднелась рубашка в черный горошек с вышитым сердцем, сидя за плетеным столиком, разглядывала ладонь кого-то незнакомого и восклицала: «Белые пятнышки на ногтях. Сегодня предприимчив, а завтра – как пришибленный». Слышалась музыка: ему сказали, что это «Лунный свет». Теперь Гауна припомнил все. Эту комнату на улице Годоя Круса, входную дверь с цветными стеклами, у входа – темные растения в мозаичных вазонах, большие зеркала, лампочки под красными шелковыми абажурами; розоватые блики и особенно «Лунный свет», волнение, вызванное у него этой мелодией, которую играл слепой скрипач. Скрипач стоял в дверях; его склоненная к скрипке голова что-то напоминала Гауне. Где видел он это измученное лицо? Каштановые волосы, длинные и волнистые; печальные, широко открытые глаза; бледная кожа. Лицо заканчивалось короткой изящной бородкой. Рядом с ним был мальчуган в шляпе (наверняка, шляпе скрипача), надвинутой на уши, и с фарфоровой мисочкой в руке – для денег. Увидев мальчика, Гауна тогда подумал: «Бедняга Христос, с плевательницей в руке – прямо помрешь со смеху!» Но он не засмеялся. Слушая «Лунный свет», он ощущал в груди жажду обнять присутствующих и всех людей на земле, неудержимое призвание творить добро, меланхолическое желание стать лучше. Горло его перехватило, глаза увлажнились, и он сказал себе, что Колдун сделал бы из него другого человека, если бы не умер. Когда скрипач закончит пьесу, он объяснит этим друзьям, как ему невероятно повезло в жизни – он познакомился с Ларсеном, удостоился дружбы Ларсена. Но так ничего и не объяснил. Когда музыка замолкла, Гауна уже забыл о своем намерении и лишь робко и просящее обратился к музыканту:
– Сыграйте еще вальсок, маэстро.
Но больше он не услышал скрипача, по крайней мере, в ту ночь. Где-то неподалеку поднялся скандал. Потом он узнал, что между доктором, который считал себя обиженным, и хозяйкой разгорелся спор из-за денег: доктор утверждал, что у него прикарманили несколько монет, а хозяйка повторяла, что он среди честных людей; чтобы закончить перепалку, доктор, воодушевленный аплодисментами парней, аккуратно положил хозяйку на пол, поднял ее за щиколотки и потряс вниз головой. Действительно, на плитки упало несколько монет, которые доктор тут же подобрал. Потом все произошло с головокружительной быстротой. Он (Гауна) только что попросил сыграть что-нибудь еще, как дверь с цветными стеклами распахнулась, и в зал шумно ввалился Валерга с парнями. Доктор устремился туда, где стоял слепой; заметил мальчика, вырвал у него мисочку, высыпал из нее деньги и одним шлепком нахлобучил слепому на голову. Поднялся крик. Доктор воскликнул: «Пошли, Эмилио», и они бросились бежать по коридорам, потом по улице; может быть, за ними гнались полицейские. Но еще прежде Гауна успел заметить ошеломленное лицо слепого и струйки крови, стекавшие по его лбу.
XLIII
В комнате было холодно. Гауна съежился на овечьей шкуре. Открыл глаза, чтобы поглядеть, нельзя ли чем-то укрыться. Было уже не так темно. Сквозь щели в дверях, сквозь какие-то отверстия в стенах просачивался свет. Гауна встал, набросил шкуру на плечи, открыл дверь и выглянул наружу. Он вспомнил Клару и рассветы, которые они встречали вдвоем. Под лиловатым небом, где мраморные и стеклянные пещеры мешались с бледно-изумрудными озерами, уже разливался свет. Рыжая собака лениво подошла к нему; остальные спали, растянувшись на земле. Он огляделся: вокруг были коричневатые холмы, он находился словно посреди большого холмистого муравейника. Вдали он различил тонкую струйку дыма. Его по-прежнему преследовал этот отвратительный сладковато-дымный запах.
Он вышел и поглядел на дом, где провел ночь: это была лачуга с жестяными стенами. Неподалеку стояли другие такие же лачуги. Это была городская свалка. К северу он увидел овраги, сосны и кресты кладбища Флорес; еще дальше – фабрику с высокими трубами, виденную прошлой ночью. Здесь и там на волнистой поверхности свалки двигались человеческие фигуры – без сомнения, те, кто роется в мусоре. Он вспомнил, что на другом карнавале, после ночи, проведенной в усадьбе у друга доктора, они ехали в повозке мусорщика; мысленно он увидел, как дождь поливает грязные борта повозки. И во внезапном озарении понял, что усадьба была той же лачугой, в которой они спали сейчас. «Хорош же я был, – подумал он, – если принял ее за усадьбу». И он продолжал рассуждать: «Поэтому мы уехали отсюда в повозке мусорщика, другого транспорта здесь не найти, разве что катафалки, которые приезжают на кладбище. Конечно, доктор удивился, когда я заговорил об усадьбе».
Появился человек верхом на лошади. Одной рукой он придерживал узду и наполовину заполненный мешок, покоившийся на лошадиной холке; в другой у него была длинная палка с гвоздем на конце, этим инструментом он накалывал то, что ему подходило, а затем складывал в мешок. При виде усталой лошади с длинными, развернутыми в стороны ушами, Гауна вспомнил другую лошадь: впряженная в коляску, она везла их из Вильи-Луто во Флорес, а потом в Нуэва-Помпея. Антунес сидел на передке, распевая «Ночь волхвов» и прикладываясь к бутылке джина, купленной где-то в таверне.
– Этот бедняга расшибет себе голову, – говорил Валерга, глядя, как пьяный Антунес качается на сидении. – По мне – ну и пусть.
Чтобы не упасть, пьяный обнимал кучера. Тот не мог править, ерзал и стонал. Коляска выписывала зигзаги, Валерга тихим голосом напевал:
А бедняжка мать
Ничего не знала…
Парикмахер Массантонио хотел выброситься из коляски, он уверял, что они разобьются, заламывал руки и всхлипывал. Наконец Гауна велел кучеру остановиться. Он влез на передок, стащил Антунеса и отослал назад. Доктор взял у того бутылку из рук, убедился, что она пуста, и метким броском швырнул ее в металлический фонарный столб – бутылка разлетелась вдребезги.
Сидя на передке, Гауна смотрел на костлявую лошадь, сосредоточенно трусившую вперед. Он видел худые темные ляжки, почти горизонтальную шею, узкую покорную холку, длинные уши – потные, подрагивающие.
– Похоже, хорошая лошадь, – сказал он, с намеренной сдержанностью выражая переполнявшую его щемящую жалость.
– Не только похоже, но так оно и есть, – с гордостью подтвердил кучер. – Знаете, я повидал лошадей на своем веку, но такой, как Новента, не встречал никогда. Только устала она, бедняжка.
– Как не устать, сколько мы едем, – отозвался Гауна.
– А до этого она тоже прошла немало. Тянет по доброте душевной, – заверил кучер. – Другая лошадь после половины такого пути шагу бы не сделала. А эта такая усердная. Говорю вам, мы ее загоним.
– И давно она у вас?
– Я купил ее одиннадцатого сентября девятнадцатого года на конном дворе Эчепареборда. И не думайте, что ей жилось сытно и беззаботно. Я всегда говорил: если бы время от времени Новенте доводилось хоть нюхнуть кукурузы, ни один рысак в Буэнос-Айресе с ней бы не сравнился.
Дома кончились. Они ехали по земляному проулку среди каких-то загонов. По временам луна пряталась за плотными тучами, потом снова появлялась, ярко сияя. В воздухе стоял этот тошнотворный запах сладковатого дыма.
Впереди что-то происходило. Лошадь начала двигаться как-то очень плавно и вбок – то ли шагом, то ли трусцой. Кучер дернул за поводья, лошадь тут же встала.
– Что случилось? – спросил доктор.
– Лошадь больше не может, – объяснил кучер. – Рассудите сами, сеньор: надо дать ей отдохнуть.
Сурово и надменно Валерга спросил:
– Можно узнать, по какому праву вы обращаетесь ко мне с такой просьбой?
– Так ведь лошадь сдохнет, сеньор, – сказал кучер. – Когда она начинает трусить вот так, значит, силы на исходе.
– Ваша обязанность довести нас до места. Ради чего-то ведь вы опустили флажок, и таксиметр с каждым триктрак набрасывает нам по десять сентаво.
– Если хотите, зовите полицейского. Я не стану убивать свою лошадь ни ради вас, ни ради кого угодно.
– А если я убью вас, лошадь позаботится о похоронах? Лучше скажите вашей лошадке, чтобы трусила дальше. Эти дебаты начинают действовать мне на нервы.
Спор продолжался в том же духе. Наконец кучер смирился, тронул лошадь кнутом, и та двинулась дальше, однако очень скоро споткнулась и с почти человеческим стоном повалилась на землю. Коляска резко дернулась и остановилась. Все спустились и окружили лошадь.
– Ай, – воскликнул кучер, – больше она не встанет.
– Как это не встанет? – живо спросил Валерга.
Кучер словно не слышал. Он не спускал глаз с лошади и наконец сказал:
– Нет, она не встанет. Ей конец. Бедная моя Новента.
– Я пошел, – сказал Массантонио.
Его подергивало, казалось, он на грани припадка.
– Погодите вы, – отмахнулся доктор.
Но парикмахер продолжал, чуть не плача:
– Сеньор, мне надо идти. Что скажет моя сеньора, когда увидит, что я явился домой под утро? Я пошел.
– Вы остаетесь, – сказал Валерга.
– Бедная моя лошадка, конец тебе пришел, – безутешно причитал кучер. Казалось, он не может ни на что решиться, не может сделать хоть что-то для своей лошади, он лишь скорбно смотрел на нее и качал головой.
– Если этот человек говорит, что лошади конец, полагаю, он уже считает ее мертвой, – солидно произнес Антунес.
– А что потом? На чем мы поедем, верхом на кучере? – спросил Пегораро.
– Это уже другой вопрос, – возразил Антунес. – Все в свое время. Сейчас я говорю о лошади по кличке Новента. Полагаю, надо сжалиться над ней и пристрелить, чтобы не мучилась.
В руках у Антунеса был револьвер. Гауна поглядел в глаза лежащей лошади. Безмерная печать и боль, отражавшаяся в этих глазах, явно доказывали, что она еще жива. Было страшно слушать разговоры о том, чтобы ее пристрелить.
– Обещаю вам два песо за труп, – говорил Антунес кучеру, который слушал его в оцепенении. – Покупаю его для моего старика, он у меня мечтатель. Надеется в один прекрасный день образовать компанию по разделке павших животных, а потом продавать их по частям: шкуру одним, жир другим, понимаете? Из костей и крови мы со стариком готовили бы прекрасное удобрение. Вы не поверите, но по части удобрений…
Валерга прервал его.
– Зачем вы собираетесь прикончить коня, – сказал он, – который так хорошо сохранился? Лучше помогите ему подняться.
– Иначе, – подхватил Пегораро, – кто отвезет нас со всеми удобствами к месту нашего назначения?
– Все бесполезно, – повторил кучер. – Новента подыхает. Надо бы ее выпрячь, – добавил он.
Выпрягли лошадь с большим трудом. Потом оттолкнули коляску назад. Доктор подобрал поводья и приказал Гауне взять кнут. Крикнул: «Давай!» и дернул за поводья. Гауна кнутом попытался подбодрить животное. Валерга начал раздражаться. Каждый рывок поводьев был резче и грубее прежнего.
– Что это с тобой? – спросил доктор Гауну, глядя на него с возмущением. – не умеешь держать кнут или жалеешь лошадь?
Удила резали рот животного, из раненых уголков губ сочилась кровь. Бездна спокойствия отражалась в печальных глазах. Он ни за что не ударит лошадь кнутом. «Если понадобится, – думал он, – лучше я ударю кнутом доктора». Кучер принялся плакать.
– Такую лошадь, – стонал он, – мне не найти даже за шестьдесят песо.
– Ну, давайте разберемся, – сказал Валерга. – Что толку плакать? Я делаю, что могу, но советую вам не утомлять меня.
– Я пошел, – сказал Массантонио.
Валерга обратился к парням:
– Я дерну за поводья, а вы ставьте ее на ноги.
Гауна бросил кнут на землю и собрался помогать.
– Это уже не рот, а черт знает что, – заметил Валерга. – Голое мясо. Стоит дернуть, и все разрежется.
Валерга потянул, остальные налегли и все вместе подняли лошадь. Ее окружили, крича: «Ура!», «Да здравствует Новента!», «Да здравствует «Платенсе»!». Парни хлопали друг друга по спинам и прыгали от радости.
Доктор сказал кучеру:
– Вот видите, приятель, нечего было плакать.
– Я ее запрягу, – вызвался Пегораро.
– Не будь идиотом, – вмешался Майдана. – Несчастная лошадь чуть жива. Дай ей немножко отдышаться.
– Какое еще, отдышаться, – возразил Антунес, потрясая револьвером. Не торчать же нам тут всю ночь.
Пегораро добродушно заметил:
– Наверное, он хочет, чтобы мы впрягли его.
Он подтолкнул коляску к лошади. Антунес свободной рукой попытался ему помочь: взял за узду и дернул. Лошадь снова упала.
Валерга подобрал лежавший на земле кнут и погрозил им Антунесу.
– Тебя бы хлестануть этим по лицу, – сказал он. – Дерьмо ты, последнее дерьмо.
Он вырвал поводья у него из рук, повернулся к кучеру и сказал спокойным тоном:
– Честно сказать, маэстро, похоже, ваша лошадь смеется над нами. Я отобью у нее охоту.
Левой рукой он повернул поводья вверх, а правой изо всей силы стегнул ее кнутом, потом еще и еще. Лошадь хрипло застонала, содрогнулась всем телом, попыталась встать. Чуть приподнялась, задрожала и снова свалилась.
– Пожалейте ее сеньор, сеньор, пожалейте ее, – воскликнул кучер.
В глазах лошади отразился такой страх, что, казалось, они вылезут из орбит. Валерга снова поднял кнут, но Гауна шагнул к Антунесу и еще до того, как кнут опустился, выхватил у Антунеса револьвер, прижал дуло к затылку лошади и, широко раскрыв глаза, спустил курок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.