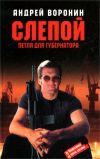Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
XV
Когда они вышли из кинематографа, Гауна предложил:
– Давайте зайдем в кондитерскую «Лос Аргонаутас» и выпьем по рюмочке уругвайской вишневки.
– Не могу, какая жалость, – ответила Клара. – Мне надо пораньше поужинать.
Сначала он почувствовал недоверие, потом обиду и произнес лживым голоском, которого девушка еще у него не слышала:
– Вы вечером куда-то идете?
– Да, – простодушно ответила она. – Сегодня репетиция.
– Это наверное весело. – заметил Гауна.
– Иногда. Хотите, приходите меня посмотреть.
Удивившись, Гауна ответил:
– Не знаю. Не хочу вам мешать. Но если вы меня приглашаете, я приду.
И тут же добавил делано искренним тоном:
– Я очень люблю театр.
– У вас есть клочок бумаги? Я запишу адрес.
Он нашел бумагу – полоску от программы кинематографа, – но ни у кого из них не было карандаша. Клара написала губной помадой: «Фрейре 3721».
Сколько раз потом на протяжении последующих лет, в кармане брюк, лежавших на дне сундука, или между страницами «Истории жирондистов» (книги, которую Гауна очень ценил, так как унаследовал ее от родителей, и которую несколько раз начинал читать), или в самых невероятных местах, он натыкался вдруг на эту полоску бумаги – неоднозначный символ, знак, как бы говоривший: «Этим все началось».
Часов в десять, под моросившим дождем, Гауна торопливо шел по улице, глядел на номера домов, сверял их с бумажкой; ему казалось, что он сбился с пути. Он собственно не знал, что ожидал увидеть под номером 3721, но удивился, обнаружив, что это магазин. Вывеска гласила: «Аргентинский Ливан. Галантерея “А. Надин”». Здесь было две двери: одна, закрытая металлической шторой, находилась между двумя витринами, тоже закрытыми металлическими шторами; вторая – деревянная, с решетчатым окошечком посредине, украшенная большими гвоздями из кованого железа. Он нажал звонок у деревянной двери, хотя номер «3721» был написан на другой.
Какое-то время спустя ему открыл тучный мужчина; в полумраке Гауна разглядел две черные арки бровей и отдельные пятна на лице. Мужчина спросил:
– Сеньор Гауна?
– Он самый, – ответил Гауна.
– Проходите, проходите, мой любезный сеньор. Мы вас ждем. Я сеньор А. Надин. Как вам эта погода?
– Плохая, – отозвался Гауна.
– Просто с ума сошла, – подхватил Надин. – Поверьте, я прямо не знаю, что и думать. Раньше не скажу, чтобы она была прекрасная, но худо-бедно вы хоть могли приготовиться. Теперь же, напротив…
– Теперь всё вверх тормашками, – подтвердил Гауна.
– Хорошо сказано, мой любезный сеньор, хорошо сказано. То вдруг тебе холодно, то вдруг тебе жара, а кое-кто еще удивляется, если вы подхватите грипп или ревматизм.
Они вошли в маленькую гостиную с мозаичным полом, освещенную лампой под абажуром со стеклянными подвесками. Лампа была водружена на некую усеченную пирамиду, деревянную с перламутровой инкрустацией. На стене висел национальный герб и картина, изображавшая историческое объятие Сан-Мартина и О’Хиггинса. В углу стояла фарфоровая раскрашенная статуэтка, она представляла собой девушку и собаку, носом приподнимавшую ей юбку. Смирившись с судьбой, Гауна перевел взгляд на громадного Надина: полукружия бровей были очень черные, очень широкие; лицо покрыто родинками самых разных оттенков черного и коричневого; нечто в нижней челюсти напоминало удовлетворенное выражение пеликана. Лет ему было около сорока. Ворочая языком так, словно вылизывая дно кастрюльки из-под молочной помадки, он объяснил:
– Идемте скорее. Репетиция уже началась. Артисты превосходны; драма несравненна, но сеньор Бластейн загонит меня в гроб.
Он достал из заднего кармана штанов красный платок, от которого в воздухе разлился сильный запах лаванды, и словно салфеткой провел им по губам. Казалось, рот у Надина всегда был влажный.
– Где они репетируют? – спросил Гауна.
Надин не остановился для ответа. Жалобным тоном он пробормотал:
– Здесь, мой любезный сеньор, здесь. Следуйте за мной.
Они вышли во двор.
– Где они будут играть? – не отставал Гауна.
Голос Надина больше походил на стон.
– Здесь. Сейчас вы все увидите сами.
«Так значит, вот какой это театр», – подумал Гауна, улыбнувшись. Они подошли к сараю с беленым фасадом, стены и крыша которого были из цинка, и открыли раздвижную дверь. Внутри шел спор: несколько человек сидело, а двое стояли на очень большом столе, по обе стороны которого до обеих стен шли фанерные щиты, выкрашенные в лиловый цвет. На столе, служившем сценой, не было никаких декораций. В углах громоздились ящики с товарами. Надин указал Гауне на стул и ушел.
Один из актеров, стоявших на столе или помосте, держал перекинутое через руку женское пальто. Он объяснял:
– У Эллиды должно быть пальто. Она возвращается с купанья.
– Какая связь, – кричал маленький человечек с веснушчатым лицом и густыми, соломенного цвета всклокоченными волосами, – между тем обстоятельством, что Эллида возвращается с купанья и этим невыразимым предметом, переходящим в рукава, пояса, пелерины?
– Не кипятитесь, – советовал второй человечек (темноволосый, с двухдневной бородой, одетый в куртку молочника; к презрительно искривленным губам, липким от высохшей слюны, была приклеена обмусоленная сигарета, в руке он держал либретто). – Автор голосует за пальто, так что склоните головы. Вот здесь стоит печатными буквами: «Под деревьями, в аллее, появляется Эллида Вангель. На ее плечи накинуто пальто; волосы распущенные, еще влажные».
Вошел Надин, приведя новых зрителей. Те уселись. Человечек с всклокоченными волосами вскочил на помост и схватил пальто. Потрясая им, он завопил:
– Зачем вам распинать Ибсена на этих реалистических рукавах? Хватит накидки. Чего-нибудь, что намекало бы на накидку. Помните, что мы будем разыгрывать магическую сторону. На самом деле, Эллида – это девушка, которая видела море с маяка, а главное, знала моряка с дурной репутацией. Извращенность притягивает женщин. На Эллиде лежит клеймо. Вот и вся история, согласно библии, которой потрясает Антонио, – он указал на человечка с либретто. – Но у кого хватит жестокости бросить гения на произвол судьбы? Мы не откажем ему в помощи. В нашей драме Эллида – это сирена, как на картине Баллестэда. Она таинственным образом вышла из моря и обручилась с Вангелем. Они создают счастливую семью. Точнее, все знают, что в их дом пришло счастье, но никто из них не может быть счастлив, потому что Элида томится и страдает, ее притягивает море. – Он сделал паузу, потом добавил: – Но что говорить с тупицами, – и спрыгнул с помоста. – Репетиция продолжается!
Безо всякого перехода актеры вернулись к пьесе. Один из них сказал:
– Жизнь на маяке отметила ее неизгладимой печатью. Здесь никто ее не понимает, ее называют женщиной с моря.
Второй актер отозвался с преувеличенным удивлением:
– Да неужели?
Антонио – человечек с либретто – закипятился:
– Но откуда вы возьмете накидку?
– Отсюда, – яростно закричал человек с всклокоченными волосами, двинувшись к ящикам.
Огромный сеньор А. Надин бросился к нему, воздевая руки.
– Я отдаю вам мою жизнь, мой дом, мой сарайчик! Но товар – нет! Товар трогать нельзя!
Бластейн невозмутимо открывал один ящик за другим.
– Где тут желтая ткань? – спросил он.
– Этот сеньор меня убьет, – простонал Надин. – Товар трогать нельзя.
– Я спросил, где вы прячете желтую ткань? – неумолимо повторил Бластейн.
Он нашел материю, попросил ножницы (которые Надин протянул ему с глубоким вздохом), отмерил две длины на руке и отрезал свирепо и неровно.
Увидев рваные края, Надин горестно затряс головой, сжимая ее в своих громадных руках, на которых блистали созвездия красных и зеленых камней.
– Нет больше порядка в этом доме! – воскликнул он. – Как теперь запретишь прислуге таскать понемногу то одно, то другое?
Бластейн, взмахнув материей, точно золотым пламенем, обернулся к помосту.
– Что вы окаменели, – спросил он актеров, – словно два соляных истукана?
Он опять вспрыгнул на помост и тут же исчез за лиловым щитом. Репетиция продолжалась. Внезапно Гауна, очень растроганный, услышал голос Клары. Она произнесла:
– Вангель, ты здесь?
Один из актеров ответил:
– Да, дорогая.
Клара вышла из-за щита в желтой накидке на плечах. Актер протянул к ней руки и воскликнул с улыбкой:
– А вот и наша сирена!
Быстрыми шагами Клара подошла к нему, взяла его за руки и проговорила:
– Наконец-то я тебя нашла! Когда ты приехал?
Гауна следил за репетицией, не отрывая глаз и приоткрыв рот. Его обуревали противоречивые чувства. В нем еще слабым и долгим эхом отдавалось первоначальное разочарование. Ему было словно стыдно перед самим собой. «Как это я не усомнился, – думал он, – когда мне сказали, что театр находится на улице Фрейре?». Но теперь, удивленный и гордый, он видел, как знакомая Клара преобразилась в незнакомую Эллиду. Он полностью отдался бы приятным чувствам – тщеславному, почти супружескому удовлетворению, – однако мужские лица, невыразительные и внимательные, глядевшие на сцену, наводили на мысль о неизбежном стечении обстоятельств, которое могло бы отнять у него Клару или даже оставить ее ему, внешне нетронутую, но пропитанную изнутри изменами и ложью.
Тут он заметил, что девушка приветствует его с выражением доверчивой радости. Репетиция прервалась. Все присутствующие громко высказывали свое мнение о драме и о игре актеров. Гауна подумал, что он глупее всех – только ему нечего было сказать. Клара, сияя молодостью, красотой и некой новой значительностью, спустилась с помоста и шла к нему, глядя так, будто никого вокруг не существовало, будто ожидая, что он один поздравит ее за всех, одарит лаской и теплотой. Но между ними возник Бластейн. Он вел за локоть какого-то громадного молодого человека, золотистого, очень чистого, с розовой кожей, словно только что вылезшего из горячей ванны; этот великан был одет во все новое и в целом блистал обилием серого и темно-коричневого, фланели, трикотажа и трубок.
– Клара, – воскликнул Бластейн, – представляю тебе моего друга Баумгартена. Новое слово в театральной критике. Если я правильно понял, он дружен по клубу Санитарных работ с племянником фотографа из журнала «Дон Гойо» и напишет небольшую заметку о нашем начинании.
– Надо же, как хорошо, – отозвалась девушка, улыбаясь Гауне.
Тот взял ее под руку и отвел в сторону.
XVI
По вечерам он провожал ее на репетицию. После работы он тоже заходил за ней, и если в этот день репетиции не было, они гуляли в сквере. Так прошло несколько дней; когда настал четверг, Гауна не знал, что ему делать: встретиться с Кларой или идти к доктору Валерге. В конце концов он решил сказать ей, что этим вечером занят. Девушка, не скрывая разочарования, сразу же приняла объяснение Гауны.
Ларсен и Гауна пришли к доктору около десяти. Антунес по прозвищу Жердь говорил на экономические темы: о возмутительных процентах, которые дерут некоторые ростовщики, поистине позорящие эту профессию, и о сорока процентах прибыли, которые он получал бы, если бы смог осуществить свои заветные и тщеславные мечты. Глядя на Гауну, Валерга пояснил:
– У нашего друга Антунеса, присутствующего здесь, смелые планы. Его влечет коммерция. Он хотел бы открыть на рынке овощной киоск.
– Но остановка за малым, – вмешался Пегораро. – У мальчика нет начального капитала.
– Может Гауна что-нибудь подкинет, – с улыбкой предположил Майдана, наклоняясь вперед, чуть ли не складываясь пополам.
– Хотя бы нарисованных, – добавил Антунес, словно желая обратить все в шутку.
Доктор Валерга очень серьезно посмотрел Гауне в глаза и слегка качнулся в его сторону. Потом молодой человек говорил, что в этот миг почувствовал, будто на него обрушилось водонапорная башня, которую привезли из Англии на пароходе. Валерга спросил:
– Так сколько же осталось у вас после карнавала, дружок?
– Нисколько, – ответил Гауна возмущенно. – Ничего у меня не осталось.
Ему дали высказаться, излить свой гнев. Успокаиваясь, он слабо добавил:
– Даже жалкой бумажки в пять песо.
– Ты хочешь сказать, в пятьсот, – поправил Антунес, подмигивая.
Воцарилась тишина. Наконец Гауна, бледный от ярости, спросил:
– Сколько, по-вашему, я выиграл на скачках?
Пегораро и Антунес собрались что-то ответить.
– Довольно, – приказал доктор. – Гауна сказал правду. Кто сомневается – пусть проваливает. Хоть бы даже и готовился стать звездой зеленщиков.
Антунес что-то забормотал. Доктор поглядел на него с интересом:
– Что вы пучите глаза, – спросил он, – точно ягненок, у которого глисты? Не будьте эгоистом, дайте нам услышать ваш голос. Какой он там у вас, соловьиный, что ли? – теперь он говорил удивительно мягко. – Не заставляйте себя просить, по-вашему, прилично, чтобы все вас ждали? – Он изменил тон. – Ну, начинайте, начинайте.
Антунес сидел, уставившись в пустоту. Он закрыл глаза. Потом открыл. Дрожащей рукой провел платком по лбу, по щекам. Когда он спрятал платок, показалось, будто его лицо фантастическим образом впитало белизну ткани. Он был бледен, как мел. Гауна подумал, что кто-нибудь должен заговорить – возможно Валерга, – но молчание не прерывалось. Наконец Антунес шевельнулся на стуле; казалось, он расплачется или упадет в обморок. Поднявшись со стула, он сказал:
– Я все позабыл.
Гауна быстро пробормотал:
– «Мне не забыть, как танцевал он танго».
Антунес взглянул на него бессмысленно. Снова вытер лицо платком, провел им по сухим губам. Через силу, медленно, натужно, раскрыл рот. Плавно полилась песня:
Куда ж ты уехал, мой милый Хулиан?
Неужто все было коварство, обман?
Гауна подумал, что совершил ошибку: как его угораздило подсказать Антунесу именно это танго? Валерга не упустит возможности поглумиться над ним. Почти с тоской Гауна уже заранее слышал его шутки («Ну-ка, скажи нам откровенно: кто он, твой милый Хулиан?» и так далее). Смирившись, он поднял глаза: Валерга слушал с невинно-благостным выражением, но вскоре поднялся и едва заметно сделал Гауне знак следовать за ним. Певец замолк.
– Быстро же кончается у тебя завод, как я вижу, – укорил его доктор. – Ты пой, пока мы не вернемся, не то я отобью у тебя охоту изображать граммофон. – Он обратился к Гауне: – С этой слащавостью ему бы быть скрипачом в веселом доме.
Антунес затянул «Мой грустный вечер»; молодые люди сидели, делая вид, что слушают певца. Гауна с некоторым апломбом, но томясь душой, последовал за Валергой. Тот провел его в соседнюю комнату, где стоял сосновый столик, лакированный платяной шкаф из светлого дерева, кровать под серым одеялом, два стула с соломенными сиденьями и венское кресло, казавшееся неуместным, почти изнеженно-роскошным среди этой спартанской обстановки. Посреди облупленной стены висела маленькая, круглая, в рамке, но без стекла, засиженная мухами фотография доктора, сделанная во времена его невероятной молодости. На сосновом столике были расставлены голубой стеклянный графин с водой, коробка с мате марки «Наполеон», сахарница, сосуд для мате с серебряным мундштуком, лампа с золотыми украшениями и оловянная ложка.
Доктор обернулся к Гауне и, положив руку ему на плечо – что было необычно, потому что Валерга, казалось, из инстинктивного отвращения избегал касаться людей, – провозгласил:
– Сейчас, если вы не станете болтать, я покажу вам кое-какие вещи, которые показываю только друзьям.
Он открыл коробку из-под печенья «Изящные искусства», которую достал из платяного шкафа, и вывалил на стол ее содержимое: три-четыре конверта, набитые фотографиями, и несколько писем. Указывая пальцем на фотографии, он сказал:
– Пока вы смотрите, выпьем мате.
Из того же шкафа он вытащил эмалированную посудинку, наполнил ее водой из графина и поставил на примус. Гауна с завистью подумал, что их примус поменьше.
Здесь было изрядное количество фотографий Валерги. На иных, с балюстрадами и растениями в вазонах, красовалась подпись фотографа, другие – проще обставленные, менее напряженные – явно были произведениями безвестных любителей. Кроме того, на столе оказалась огромная куча фотографий стариков, старух, младенцев (одетых и стоящих; голых и лежащих); все это были люди, Гауне совершенно не известные. Иногда доктор пояснял: «это двоюродный брат моего отца», «моя тетя Бланка», «мои родители в день золотой свадьбы», но по большей части предоставлял Гауне изучать снимки безо всяких комментариев, храня почтительное молчание и бросая на молодого человека придирчивые взгляды. Если тот слишком быстро перекладывал какую-либо фотографию к уже просмотренным, доктор советовал тоном, в котором смешивались упрек и поощрение:
– Тебя никто не погоняет, сынок. Так ты ничего не разберешь. Рассматривай их с чувством и с толком.
Гауна был очень взволнован. Он не мог понять, почему Валерга показывал ему все это, и чувствовал с недоумением и благодарностью, что его учитель и образец оказывает ему большую честь, торжественно подтверждая, что ценит его, быть может, даже считает своим другом. Он был бы в любом случае чрезвычайно тронут и признателен, но ему казалось, что в этот вечер его чувства были особенно горячи, ведь сейчас, думал он, он уже не тот, что прежде, не тот, каким представлялся доктору, не предан ему безраздельно. Или предан? Да, он был уверен, что не изменился, однако важнее всего в тот мин было знать, что доктор, с его требовательностью, смотрит на него новыми глазами.
Потом они пили мате. Гауна сидел на стуле, доктор – в венском кресле. Они почти не разговаривали. Если бы кто-нибудь взглянул на них со стороны, он бы подумал: это отец и сын. Это же чувствовал и Гауна.
Рядом, в соседней комнате, Антунес в третий раз затянул «Стакан забвения».
Валерга заметил:
– Надо заткнуть пасть этому горлопану. Но прежде я хочу тебе еще кое-что показать.
Какое-то время он шарил в шкафу, потом повернулся, держа в руках бронзовую лопатку, и объявил:
– Этой лопаткой доктор Сапонаро положил раствор на первый камень, легший в основание часовни здесь за углом.
Гауна благоговейно взял предмет и несколько секунд восхищенно его созерцал. Перед тем как вернуть лопатку в шкаф, Валерга быстро протер рукавом те места, на которых остались следы неумелых и влажных пальцев молодого человека. Потом достал из неисчерпаемого шкафа еще одну вещь – гитару. Когда его молодой друг торопливо и послушно попытался осмотреть и ее, доктор отстранил его, говоря:
– Пошли в кабинет.
Антунес, пожалуй уже с меньшим энтузиазмом, чем раньше, пел «Мой грустный вечер». Победно потрясая гитарой, доктор спросил громовым низким голосом:
– Ну, скажите мне, кому взбрело в голову петь всухую, когда в доме есть гитара?
Все, включая Антунеса, встретили шутку взрывом искреннего смеха, быть может приободренные интуитивным ощущением, что напряженность прошла. Впрочем, достаточно было взглянуть на Валергу, чтобы увидеть: он в прекрасном настроении. Избавившись от опасений, молодые люди просто рыдали от хохота.
– Сейчас вы увидите, – заявил Валерга, отталкивая Антунеса и садясь, – на что способен этот старик, когда берет гитару.
Улыбаясь, он неторопливо начал перебирать струны. Время от времени среди его умелых, нервных аккордов проскальзывала мелодия. Тогда он вкрадчиво напевал:
А бедняжка мать ничего не знала,
сидела под вечер, мате попивала.
Потом обрывал себя и замечал:
– Больше никаких танго, мальчики. Пусть они остаются для хулиганов и скрипачей в веселом доме, – и хрипло добавлял: – Или для зеленщиков.
И опять с благостной улыбкой, ласково и спокойно, словно времени не существовало, перебирал струны. За этим занятием, которое, казалось, нисколько не утомляло его, он просидел до полуночи. В комнате царила атмосфера общей сердечности, радостного дружелюбия. Перед тем, как попросить их уйти, доктор велел Пегораро принести из кухни пиво и стаканы. Они провозгласили тост за счастье всех и каждого.
Собственно, выпили они мало, но были так возбуждены, что походили на пьяных. Выйдя кучей, они зашагали по пустым улицам; далеко вокруг разносились их шаги, песни, крики. Залаяла какая-то собака, петух, которого они наверняка разбудили, разразился хриплым кукареканьем – и в ночи повеяло деревней и далью предрассветных полей. Первым откололся от группы Антунес; затем ушли Пегораро и Майдана. Когда они остались вдвоем, Ларсен решился спросить:
– Скажи честно, тебе не показалось, что доктор был слишком жесток с Антунесом?
– Конечно, – ответил Гауна, снова поразившись, как они с Ларсеном понимают друг друга. – Я хотел сказать тебе то же самое. А как тебе номер с гитарой?
– С ума сойти, – отозвался Ларсен, трясясь от смеха. – Откуда бедняге было знать, что в доме есть гитара? Ты знал об этом?
– Я – нет.
– Я тоже. Но признайся, что шуточки со словом «всухую» были немножко противными.
Гауна откинулся на стену, чтоб удобнее было смеяться. Он знал, что Ларсен не терпел соленых шуток; не защищая его, он все же каким-то образом сочувствовал другу, а кроме того, это всегда его очень смешило.
– Чего ты хочешь, брат, – смело заявил Гауна. – Положа руку на сердце, признаюсь, что Антунес, пожалуй, лучше поет, чем Валерга играет на гитаре.
Эти слова вызвали у них такой приступ хохота, что они согнулись пополам, и держась за животы, шли, шатаясь из стороны в сторону, стоная и подвывая. Когда они немного успокоились, Ларсен спросил:
– А для чего он водил тебя в другую комнату?
– Показать кучу фотографий совершенно незнакомых людей и даже бронзовую лопатку, которой какой-то там доктор неизвестно когда положил первый камень какой-то там церкви. Вот бы ты смеялся, если бы меня увидел, – потом он добавил: – А самое странное, что временами мне казалось, будто доктор Валерга похож на колдуна Табоаду.
Наступило молчание, потому что Ларсен старался не упоминать ни о колдуне, ни о его семье; но напряженность быстро прошла, Гауна почти что ее и не заметил. Он предпочел вновь отдаться чувству радостного единения с другом – тесного и неизменного. С некой братской гордостью он подумал, что вместе они оказываются намного проницательнее, чем поодиночке, и наконец, с преждевременной ностальгией, в которой предугадывалось будущее, понял, что эти разговоры с Ларсеном – как бы родина его души. И тут же с неодобрением вспомнил о Кларе.
«Завтра я мог бы сказать, – промелькнуло у него в голове, – что не встречусь с ней вечером. Но я этого не скажу. Дело не в том, что я слабоволен. Просто с какой стати я буду предлагать Ларсену пойти вместе куда-нибудь в будний день? Мы можем видеться, когда нам нечего делать». И тут же печально признался себе: «С каждым днем мы видимся все меньше».
Когда они пришли домой, Ларсен заметил:
– Сказать тебе откровенно, поначалу мне все это не понравилось. Мне показалось, что все сговорились напасть на тебя.
– А мне кажется, что они попытались натравить Валергу, – сказал Гауна. – Тот понял их маневр и поставил их на место.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.