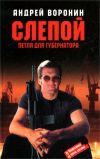Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
XXVIII
Незадолго до темноты, когда Гауна уже собрался выходить, хлынул дождь. Молодой человек подождал в парадной, пока не прояснится, и вдруг увидел, как обычные цвета их квартала – зелень деревьев, светлая у эвкалипта, который вздрагивал всеми листьями на дальнем краю пустыря, более темная у параисо, росших вдоль тротуара, коричневатые и серые двери и оконные рамы, белые стены домов, охристо-желтый галантерейный магазин на углу, красные афиши, все еще извещавшие о провалившейся продаже земельных участков, синее стеклянное объявление в доме напротив – все эти краски неудержимо и враз заиграли ярче, словно охваченные каким-то паническим восторгом, поднявшимся из земных глубин. Гауна, обычно ненаблюдательный, отметил увиденное и подумал, что надо рассказать об этом Кларе. Примечательно, как воспитывает нас общение с любимой женщиной – впрочем, ненадолго.
Улицы были залиты водой, и кое-где на углах люди перебирались с тротуара на тротуар по скользким шатким дощечкам. На проспекте Техар он встретился с Пегораро. Тот, словно желая убедиться, что Гауна – не призрак, трогал его, хлопал по спине, обнимал, восклицая:
– Надо же, брат, откуда ты взялся? А то ведь совсем пропал…
Гауна ответил что-то неопределенное и попытался продолжить путь; Пегораро зашагал рядом.
– Давненько ж ты не приходишь в клуб, – отметил он, останавливая Гауну и разводя руки ладонями наружу.
– Давно, – согласился Гауна.
Он думал, как отделаться от Пегораро, не доходя до дома Колдуна. Ему не хотелось, чтобы приятель знал, куда он идет.
– Видел бы ты новую команду. Тогда бы вспомнил о добрых временах и понял бы, что нет ничего лучше футбола. Клуба теперь не узнать. Клянусь мамой, что дала мне этот медальон, у нас никогда не было такого переднего края. Видел Потенцоне?
– Нет.
– Тогда не говори мне о футболе. Лучше закрой пасть, другими словами, помалкивай. Потенцоне – новый центр нападения. Ведет мяч, как волшебник, какие финты и обводки, но как дойдет до ворот – весь запал пропадает, чего-то ему не хватает. Казалось бы, верный гол, и вдруг шиш, если ты меня понимаешь. А Перроне ты тоже не видел?
– Тоже.
– Да чего ж ты зеваешь, друг? Теряешь лучшее в жизни. Перроне – самый быстрый крайний за всю нашу историю. Это совсем другой случай. Мчится, как стрела, подлетает к воротам, а там вроде бы теряется и выкидывает мяч в аут. А Негроне ты видел?
– Ну, этот и в мое время был уже почти ветераном.
Пока Пегораро, делая вид, что не слышал ответа, объяснял дефекты этого игрока, Гауна размышлял, что как-нибудь в воскресенье надо изобрести хороший предлог и заглянуть в клуб. С грустью припомнил он времена, когда не пропускал ни одной игры.
– Ты куда сейчас идешь? – спросил Пегораро.
Гауна подумал, что, наверное, девушка ждет его в дверях, и вдруг понял: неважно, пусть Пегораро знает, куда он идет. Он вспомнил слова Ларсена о Кларе и удовлетворенно улыбнулся.
– В дом Табоады, – ответил он.
Пегораро снова остановил его, расставив руки, вывернув ладони наружу. Склонив голову набок, он спросил:
– А ты знаешь, что этот человек – настоящий колдун? Помнишь вечер, когда мы все были у него? Ну так вот, ты помнишь, что у меня все ноги были в фурункулах? Ну так вот. Этот тип пробормотал два-три слова, я и не расслышал, начертил в воздухе какие-то закорючки, и на другой день от всех фурункулов и следа не осталось. Клянусь тебе этим медальоном. Только знаешь, я никому не сказал ни слова, чтобы не подумали, будто меня можно провести всякими колдовскими штучками.
Клара ждала Гауну у дверей. Издали она показалась ему не такой уж красивой. Он вспомнил, что вначале, когда они встречались на улице или в других людных местах, ему нравилось представлять себе, с каким завистливым одобрением все смотрят, как он берет ее под руку. Сейчас он даже не был уверен, хорошенькая ли она. Он простился с Пегораро.
– Так когда же ты придешь в клуб? – спросил тот.
– Скоро, Толстяк. Обещаю тебе.
Пока Пегораро не скрылся из виду, Гауна не переходил улицу. Девушка двинулась ему навстречу и поцеловала его. Она закрыла дверь, нажала кнопку выключателя, и они вошли в лифт.
– Видел, какой дождь? – заметила Клара, пока они поднимались.
– Прямо ливень.
Он вспомнил о своем намерении рассказать ей о буйстве красок и яркости света после дождя, но вдруг ощутил внезапный гнев и замолчал. Они вошли в гостиную.
– Что с тобой? – спросила Клара.
– Ничего.
– Как это ничего? Скажи мне, что случилось.
Надо было найти какое-то объяснение. Гауна спросил:
– Ты все еще встречаешься с Баумгартеном?
Чтобы замаскировать неуверенность, он заговорил слишком громко.
Клара делала ему знаки, боясь, что его услышат. Ожидая ответа, он все больше накалялся.
– Отвечай же, – повторил он презрительно.
– Я никогда с ним не встречаюсь, – заверила Клара.
– Но ты думаешь о нем.
– Нет.
– Так почему же ты встретилась с ним в тот вечер?
Он загнал ее в угол дивана, настаивал, требовал объяснений. Клара не смотрела на него.
– Почему? Почему? – настаивал он.
Клара взглянула ему в глаза.
– Ты сводил меня с ума, – ответила она.
Гауна слегка опешил.
– А теперь? – спросил он.
– Теперь нет.
Она замолчала, спокойно улыбаясь. Гауна уложил ее на диван, склонился к ней. «Это зверек, бедный зверек, – подумал он. – Вблизи она так хороша». Он нежно поцеловал ее в лоб, в веки, в губы.
– Пойдем к твоему отцу, – сказал он потом.
Клара продолжала лежать, не открывая глаз. Наконец она медленно поднялась, подошла к зеркалу, чуть улыбнувшись, посмотрела на себя. «Ну и вид!» – воскликнула она, тряхнув головой. Слегка привела себя в порядок, тронула прядь на лбу Гауны, подтянула ему галстук, взяла за руку и постучала в дверь к отцу.
– Войдите, – отозвался голос Табоады.
Колдун лежал в постели; его рубашка, распахнутая на груди, была такой широкой, что по контрасту сам он казался особенно маленьким и щуплым. Его седые волосы большими волнами обрамляли высокий и узкий лоб и в благородном беспорядке падали назад. Простыни сверкали безупречной белизной.
– Какой дождь, а? – заметил он, гася сигарету в пепельнице, стоявшей на ночном столике.
– Прямо ливень, – подтвердил Гауна.
В комнате царила смесь безразличия и претенциозности, неприятный бедняцкий разнобой – быть может, из-за отсутствия вкуса, этакая нагота, несовершенная, но суровая, какую нечасто встретишь внутри и снаружи аргентинских домов, и в селениях, и в городах. Кровать Табоады была узкая, железная, выкрашенная в белый цвет, а ночной столик – тоже белый – деревянный и совсем простенький; в комнате стояло три венских стула, у стены – маленькая кушетка с одной боковой спинкой, обитая кретоном (когда Кларе было четыре-пять лет, она была обита плетеной тканью); на угловом столике угадывался телефон, накрытый тряпичной куклой-негритянкой (вроде тех кур, какими накрывают чайники); на современном комоде из кедра с черными блестящими ручками красовался цветок, который в хорошую погоду был розовым, а перед дождем становился голубым, коробочка, выложенная ракушками и перламутром, с надписью «На память о Мар-дель-Плата», фотография в бархатной рамке, вышитой бисером, изображавшая родителей Табоады (старомодных людей, конечно же, менее культурных, чем их сын, но гораздо культурнее, чем родители всех его соседей), и книга в тисненом кожаном переплете – «Симуляторы таланта в борьбе за жизнь» Хосе Инхеньероса.
– Все это, – объяснил Табоада, заметив, с каким любопытством рассматривает Гауна предметы на комоде, – принесла мне Клара. Бедняжка совсем меня избалует такой массой подарков.
Девушка вышла из комнаты.
– Как ваше здоровье, дон Серафин? – спросил Гауна.
– Ничего, – ответил Табоада, затем, улыбнувшись, добавил: – Но на этот раз Клара испугалась. Теперь она не дает мне вставать с постели.
– Да и к чему? Отдыхайте. Пока другие работают, вы лежите себе на кровати, курите и почитываете газету.
– Ты хочешь сказать, на ложе терпения; впрочем, это неважно. Угадай-ка, что она сделала, – продолжил Табоада смеясь: – Эта девочка совсем меня с ума сведет. Только никому не говори: она привела врача и заставила меня его принять.
Гауна посмотрел на него с любопытством и серьезно заметил:
– Поберечься никогда не мешает. И что же сказал врач?
– Когда мы остались с ним вдвоем, он сказал, что мне нельзя оставаться зимой в Буэнос-Айресе. Но об этом Кларе ни слова. Мне не нужны здесь учителя и командирши, которые будут решать, что мне делать.
– А вы что решили?
– Не обращать на них внимания, сидеть в Буэнос-Айресе, где я прожил всю жизнь, а не шататься, как неприкаянная душа, по горам Кордовы, перенимая тамошний говор.
– Но дон Серафин, – вежливо возразил Гауна, – ведь это для вашей же пользы.
– Нет, приятель, брось меня уговаривать. Я уже менял – или думал, что менял – чужие судьбы. Пусть моя собственная идет сама по себе, как ей вздумается.
Гауна не мог настаивать, потому что вернулась Клара. Она вошла с подносом и подала им кофе. Они заговорили о свадьбе.
– Мне придется пригласить доктора Валергу и ребят, – намекнул Гауна.
Как всегда, Табоада возразил:
– Доктора каких наук? Оставь пожалуйста… Все, что он умеет, – это нагонять страху на детей и на слабоумных.
– Как вам угодно, – ответил Гауна, не обижаясь, – но мне придется его пригласить.
– Лучшее, что ты можешь сделать, Эмилито, – вкрадчиво сказал Табоада, – это порвать со всеми этими людьми.
– Когда я с вами, я думаю, как вы, но они – мои друзья…
– Не всегда можно сохранить верность. Наше прошлое, как правило, – сплошной позор, и нельзя быть верным прошлому за счет измены настоящему. Я хочу сказать, что нет ничего хуже, чем не прислушиваться к своему внутреннему голосу.
Гауна не ответил. Он подумал, что в словах Табоады есть доля правды, а главное, у колдуна будут веские аргументы, чтобы вогнать его в краску, если он попытается спорить. Но он твердо знал, что верность – одна из самых главных добродетелей, и даже подозревал, припоминая только что услышанные путаные фразы, что Табоада был того же мнения.
– Для меня в свадьбе самое худшее шум и суета, – признал Табоада, словно размышляя вслух.
– Мы могли бы никого не звать и ничего не устраивать, – предложила Клара.
– Я думал, что для девушек самое важное – подвенечное платье, – сказал Гауна.
Табоада зажег новую сигарету. Его дочь вынула сигарету из отцовского рта и раздавила в пепельнице.
– На сегодня тебе хватит, – сказал она.
– Только поглядите на эту малявку, – беззлобно заметил Табоада.
Гауна посмотрел на часы и поднялся.
– Не поужинаешь с нами, Эмилио? – спросил Колдун.
Гауна заверил, что его ждет Ларсен, и стал прощаться.
– У меня есть просьба к вам обоим, – объявил Табоада, поправляя подушки, чтобы сесть поудобнее. – Когда пойдете гулять, добегите до улицы Гуайра и, сделайте милость, посмотрите мой домишко. Не бог весть что, но мне кажется, что для людей работящих не так уж плохо. Это мой свадебный подарок.
Оставшись один, Гауна подумал, что Кларе будет труднее бросить отца, чем ему – Ларсена. Какой Табоада ни колдун, все же он достоин сочувствия, и Гауна решил, что отнимать у него дочь – большая жестокость. Клара, вероятно, чувствовала то же и, однако, ничего не говорила ему. Гауна недоверчиво спросил себя, неужели Клара так же сердится на него за это, как он на нее.
XXIX
Они были так заняты своим новым домом, что сам факт свадьбы – церемония, свидетелями на которой были дон Серафин Табоада и дон Педро Ларсен, – потеряла для главных действующих лиц свою значимость и слилась с прочими делами и заботами суматошного дня. Табоада и Ларсен не разделяли этого безразличия.
Табоада, как и обещал, подарил молодоженам дом на улице Гуайра – свою единственную собственность. Гауна взял на себя заботу о закладной – предстояло выплатить всего несколько взносов. Когда Гауна и Клара сказали, что не могут принять такой крупный подарок, Табоада заверил их, что денег, получаемых за консультации, вполне хватает на его не слишком бурную жизнь.
Хотя молодые никого не приглашали, они получили подарки от Ламбрускини, от товарищей по мастерской, от турчаночки и от Ларсена. Последний наверное совсем разорился, потому что преподнес им столовую мебель. Бластейн – директор труппы «Элео» – прислал им смеситель для коктейлей из белого металла, который Гауна потерял при переезде. Все соседи знали, что они поженились; однако чересчур тихая свадьба вызывала кое-какие пересуды.
Гауна попросил у Ламбрускини отпуск, и две недели они трудились в доме не покладая рук. Молодому человеку это было так интересно, что он и не вспоминал о проблеме утраченной свободы; все его внимание было теперь сосредоточено на закладной, расстановке мебели, водостойкой краске, циновках, полочках, нагревательных колонках, электропроводке и газе. С особой тщательностью он соорудил маленький шкафчик для Клариных книг – та очень любила читать.
В спальне они поставили двуспальную кровать; когда он предложил купить койку на случай, если кто-то из них заболеет, Клара ответила, что болеть им незачем.
В кафе «Платенсе» он захаживал очень редко – лишь затем, чтобы не подумали, что обижен, или презирает друзей, или Клара держит его на привязи. В первый вечер, когда они собрались в доме Валерги, Антунес, чтобы досадить Гауне, спросил:
– Вам известно, что наш приятель, присутствующий здесь, связал себя узами брака?
– А можно узнать, кого он осчастливил? – спросил доктор.
Гауна подумал, что это неведение должно быть притворным и что дело принимает неприятный оборот.
– Дочь Колдуна, – сообщил Пегораро.
– Девушку я не знаю, – серьезно отозвался доктор. – Отца да. Стоящий человек.
Гауна посмотрел на него с доверчивой признательностью, вспомнив, с каким презрением неизменно отзывается о Валерге сам Табоада. В то же время его пронизала тревога при мысли, что, пожалуй, это презрение оправданно. Чтобы отогнать эти мысли, он заговорил.
– Мы поженились без шума, – объяснил он.
– Как будто им было стыдно, – заметил Антунес.
– Замечание не кажется мне удачным, – сказал Валерга, высокомерно глядя на Антунеса и глотая звук «а» в первом слове. – Одним людям нравится тарарам, другим – нет. Я женился, как Гауна, без пышных церемоний и без толпы зевак, – он обвел всех вызывающим взглядом. – У кого-нибудь есть возражения?
Конечно же, в последнем слове почти ничего не осталось от звука «о».
О приключении на озерах Гауна почти не вспоминал; но как-то ночью, когда ему не спалось, он снова вернулся к этой тайне и с нелепым восторгом поклялся себе обязательно в будущем ее раскрыть, а также не забыть о своей клятве. Он был уверен, что если когда-нибудь встретит рассвет в парке Палермо, само место подскажет ему разгадку. Кроме того, надо еще раз расспросить Сантьяго. И подумать только, что, быть может, Немой знает правду! Нужно обойти все кафе и, если понадобится, набраться смелости, взять напрокат смокинг и появиться в Арменонвиле. Вдруг какая-нибудь девушка-танцовщица, если угостить ее рюмкой, вспомнит, что она видела или что ей рассказывали.
Думал он и о том, что собирался подраться с Баумгартеном. Он знал, что непредвиденное стечение обстоятельств заставило его отложить стычку, а потом и вовсе забыть о ней; но знал он и то, что если бы публика была осведомлена о сути дела, все решили бы, что он трус. И у него не было уверенности, что они были бы так уж неправы.
XXX
В те годы с деньгами было туго; чтобы платить по закладным, им приходилось кое в чем себе отказывать. И все же они были счастливы. Закончив работу, Гауна шел домой; по субботам они спали после обеда, а потом шли в кино; по воскресеньям их приглашали Ламбрускини с женой; они садились в «ланчу» и ехали в Санта-Каталина или в Тигре. Вчетвером они ездили на автомобильные гонки в Сан-Мартин, и женщины делали вид, что им тоже интересно. Как-то они доехали до Ла-Платы и рассеянно обошли Музей естественных наук; на обратном пути, разглядывая том «Сокровищницы юности», который одолжил им один сеньор, зубной врач, они с испугом познакомились с доисторическими животными на картинках, как они предполагали, рисованных с натуры. Летом они вместе с Ларсеном ходили купаться на пляж Баландры и, глядя на равномерные речные волны, говорили о дальних странах и воображаемых путешествиях. Договаривались они и о вполне возможной поездке – снова побывать у Чорена, посидеть у ручья Лас-Флорес; но этот проект так и не осуществился. Клара и Гауна не теряли надежды подкопить денег и купить «форд-Т», чтобы ездить на прогулки одним.
Иногда, выйдя из мастерской, Гауна шел навестить Колдуна. Клара ждала его у отца; обычно туда приходил и Ларсен. Порой, видя их втроем, Гауна думал, что они-то и образуют семью, а он – посторонний. И сразу же ему становилось стыдно своих мыслей.
Однажды под вечер они разговорились о храбрости. Гауна с удивлением – и даже пытаясь возражать – услышал, что Табоада считает его храбрее Ларсена.
Последний, казалось, принял это утверждение как нечто само собой разумеющееся. Гауна сказал, что его друг никогда не уклонится от драки с кем угодно, а он, а он, а он… он хотел что-то добавить, правдиво и чистосердечно, но его никто не слушал. Табоада объяснил:
– Эта храбрость, о которой говорит Гауна, мало что значит. Человек должен обладать некой философской беспечностью, неким фатализмом, который позволял бы ему всегда быть готовым, как рыцарь, в любой миг потерять все.
Гауна слушал его с восхищением и недоверием.
К этому времени Табоада обучил их («чтобы слегка расширить ваши узкие лбы») начаткам алгебры, начаткам астрономии, начаткам ботаники. Клара тоже участвовала в занятиях: ее ум был, пожалуй, более восприимчив, чем умы Гауны и Ларсена.
– Вот удивились бы ребята, – воскликнул Гауна как-то раз, – если бы узнали, что я целый вечер изучаю розу.
– Твоя судьба изменилась, – заметил Табоада. – Два года назад ты постепенно, но верно превращался в доктора Валергу. Клара тебя спасла.
– Отчасти Клара, – признал Гауна, – и отчасти вы.
В начале зимы 1929 года Ламбрускини предложил ему «перейти в качество компаньона». Гауна согласился. Момент казался удачным, чтобы кое-что заработать: никто не покупал новые автомобили; старые разваливались, и, как говорил Феррари, «все, что ходит и бегает, рано или поздно окажется у нас в мастерской». Но кризис принял такие размеры, что люди предпочитали не ремонтировать автомобили, а просто их бросать. Однако это никак не влияло на счастье Гауны.
Его уверяли, что люди, живущие вместе, постепенно начинают смотреть друг на друга с презрением, а потом с раздражением. Но ему казалось, что его потребность в Кларе неисчерпаема – потребность все больше узнавать Клару, все теснее сходиться с ней. Чем больше он был с Кларой, тем больше ее любил. Он вспоминал свой прежний страх потерять свободу, и ему делалось стыдно: эти опасения представлялись ему теперь нелепыми и подлыми.
XXXI
Была зима, воскресенье, время послеобеденного сна. Гауна лежал в постели, завернувшись в несколько пончо, среди хаоса иллюстрированных газетных страниц, и рассеянно следил за легкой игрой теней на потолке. Он был дома один. Клара пошла навестить отца и должна была вернуться в пять, чтобы успеть в кино. Перед уходом она посоветовала ему выйти погреться на солнышке на площадь Хуана Баутисты Альберди. Пока что он вылез из постели только раз – чтобы дойти до кухоньки и согреть воду для мате. Снова улегшись, он выпрастывал руку, быстро делал глоток-другой, кусал корочку французской булки (Ларсен как-то сказал, что если мате ничем не заедать, может разболеться живот), оставлял мате и булку на стуле, служившем тумбочкой, и снова укрывался поплотнее. Он подумывал, что если бы мог, не вставая, дотянуться до шляпы – она лежала на плетеном столике у дверей, – то обязательно бы ее надел. Но поля, решил он, мешали бы на затылке. В старину люди были правы. Отказ от ночных колпаков был несправедливостью по отношению к голове. Он тут же пожалел нос и уши и пока размышлял, что следовало бы добавить соответствующие наушники и наносники, в дверь постучали.
Гауна поднялся, чертыхаясь; дрожа от холода, наступая на концы пончо, в которые был укутан, кое-как добрел до двери и открыл.
– Пошевеливайтесь, – сказала ему женщина, которая готовила плотнику. – Вас зовут к телефону.
Серая и низенькая, как крыса, женщина тотчас ускользнула прочь. Гауна, разволновавшись, кое-как привел себя в порядок и, все еще полуодетый, побежал к плотнику. Клара каким-то странным голосом сказала, что отцу не совсем хорошо.
– Я сейчас же иду, – сказал Гауна.
– Нет, не надо, – заверила его Клара. – Ничего страшного, я просто не хочу оставлять его одного.
Она попросила его выйти и немного поразвлечься, ведь он целую неделю работает в такой холодной мастерской, ему надо отдохнуть; она считает, что он похудел и стал нервным. Она спросила, выходил ли погреться на площадь, и еще до того, как он успел солгать, предложила ему сходить в кино за них обоих. Гауна на все говорил «да», а Клара продолжала: пусть он зайдет за ней часов в восемь, на ужин они обойдутся чем угодно, может быть, откроют какую-нибудь банку консервов, которые так никогда и не решались попробовать.
Гауна вернулся домой, поблагодарив плотника за любезность (плотник ничего не ответил, даже не поднял головы) и понял, что ему наконец представился долгожданный случай. Сегодня же он вновь вернется к расследованию своих приключений на озерах, попытается раскрыть тайну третьей ночи. Он не испытывал никакого нетерпения, никаких сомнений. С удовольствием он подумал, что решение, принятое уже давно, всегда находилось, так сказать, под рукой и дожидалось подходящего момента и что он мог бы показаться стороннему наблюдателю человеком слабовольным или, по крайней мере, человеком, очень слабо желающим раскрыть именно эту тайну. Однако дело обстояло не так, и теперь, когда миг настал, он это докажет.
Конечно, для того, чтобы осуществить столь смутные планы, было бы свинством просто сказать Кларе в субботу или в воскресенье: «Сегодня мы никуда вместе не пойдем» или как-нибудь вечером уйти одному, чтобы она подумала невесть что. А если бы ему все же пришлось что-то объяснять – ведь женщины как прицепятся… – она решила бы, что он обманщик или не в своем уме.
Он отнес на кухню принадлежности для мате и собрался было вытряхнуть старую заварку в раковину, но передумал, долил воды, попробовал и сразу же с отвращением выплюнул; затем сполоснул посуду и убрал все в шкафчик.
Хотя на нем была шерстяная нижняя рубашка, он натянул свитер, связанный ему Кларой (он всегда выражал откровенную нелюбовь к свитерам, а именно этот, в частности, казался ему слишком ярким и броским для мужчины; но бедняжка Клара огорчалась, если он не радовался ее подарку, да и какого черта, холод в тот день был нешуточный). Он надел на себя все, что мог, влез бы и в пальто, если бы только когда-нибудь собрался его купить.
Быстрым шагом, чтобы согреться, но какой-то вялый и усталый, он пришел на перрон Сааведры, купил билет до Палермо и сел ждать поезда. Не успел он сесть, как подумал, что его план еще не созрел: скажем, пойдет он бродить до изнеможения по парку Палермо, а, в сущности, для чего? Все это впустую. Гораздо лучше было бы предварительно разработать в деталях весь план действий, а пока что пойти в кинематограф с Ларсеном. Билет жег ему карман, но он не осмеливался его вернуть, потому что в кассе сидел совершенно незнакомый человек. Если Ларсена нет дома, решил он, вставая и направляясь к выходу, тогда он воспользуется билетом. Но с чего это Ларсену не быть дома?
Район, где он прежде жил, теперь вызывал в нем некую ностальгию, смешанную то ли с нежностью, то ли с раздражением; рассеянно он вошел в дом и постучал в дверь своей бывшей комнаты. Никто не ответил. Хозяйка – которую он позвал слишком громко, которую обидел своей невнимательностью и нетерпением, не откликнувшись на неизбежные приветствия и вежливые расспросы, – сказала, что сеньор Ларсен только что ушел, и захлопнула двери. Выйдя на улицу, Гауна заколебался: то ли идти на станцию, то ли отправиться к Табоаде. В этот миг, весело нажимая на педали трехколесного голубого велосипеда и улыбаясь во все заросшее щетиной лицо, показался Мусель (так называли в квартале приказчика магазина «Ла Суперьора» из-за его привычки упрямо, под любым предлогом, упоминать в разговоре свой родной порт); Гауна спросил у него, не знает ли он, где Ларсен.
– Нет, не знаю, не знаю, – ответил Мусель. – Ну, а вы что тут делаете? Отчего вы один? Неужто вам уже наскучила семейная жизнь? Не может быть, не может быть.
Они дружески похлопали друг друга по спине, и Гауна пошел на станцию. Он уже жалел, что задал Муселю этот вопрос. Кроме того, подумал он, можно ли упускать случай заняться окончательным расследованием? Как он ни старался себя обмануть, ему было тревожно и не по себе. Он пришел как раз вовремя – поезд уже отходил, он едва успел вскочить в последний вагон. Он вышел на проспекте Вертис, прошел под мостами, пересек Роседаль и углубился в парк.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.