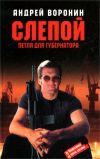Текст книги "Изобретение Мореля. План побега. Сон про героев"

Автор книги: Адольфо Касарес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
XLIV
Опершись о косяк, Гауна смотрел на рассвет, который занимался над городом, далеко за свалкой, и спрашивал себя: значит, это и были те забытые магические эпизоды карнавала двадцать седьмого года, и теперь он наконец воссоздал их после того, как мучительно, жадно, обрывками припоминал в течение трех лет? Точно в отраженном лабиринте, в карнавале 1930 года он нашел три события другого карнавала; так надо ли стремиться к кульминации своего приключения, к источнику его темного сияния – лишь затем, чтобы постигнуть тайну и убедиться в ее гнусной мерзости?
Какое несчастье, подумал он. Какое несчастье целых три года мечтать вновь пережить эти минуты – как человек мечтает вновь пережить чарующий сон; в его случае это был не сон, но главная, грандиозная тайна его жизни. И когда он сумел извлечь из темноты часть этого великолепия, что же он увидел? Случай со скрипачом, случай с мальчиком, случай с лошадью. Самую неприкрытую жестокость. Как простое забвение могло превратить эти эпизоды в нечто бесценное, полное ностальгии?
Почему он подружился с парнями? Почему восхищался Валергой? И подумать только: ради того, чтобы болтаться по городу с этими людьми, он оставил Клару… Гауна закрыл глаза, сжал кулаки. Надо отомстить за эти низости, в которые он оказался замешан. Надо сказать Валерге, как он презирает его.
Гауна взглянул в бездонную голубизну неба. Причудливое нагромождение рассветных облаков и прогалины между ними исчезли. Начиналось утро. Гауна провел рукой по лбу – холодному и влажному. Он почувствовал, что бесконечно устал. И тогда он понял – мгновенно и смутно, – что не должен никому мстить, не должен устраивать драку. Ему захотелось оказаться далеко отсюда. Забыть об этих людях, как о кошмаре. Он немедленно вернется к Кларе.
Как и можно было предположить, он не вернулся. Он снова прибегнул к легкому средству – принялся заводить себя, повторять: «пусть эти мерзавцы знают, что я о них думаю»; но очень скоро эта вспышка энергии угасла, им овладело безразличие, и с некой подспудной радостью он отдался на волю судьбы. Мне лично кажется, что Гауна понял: если он бросит приключение на полдороге, оно будет мучить его до самой смерти. Стоя в дверях лачуги и опершись на косяк, он ощущал ход времени, казался себе самому ловким игроком, который без спешки, постепенно разглядывает свои карты одну за другой и знает, что пока он спокоен, он непобедим; Гауна пытался думать о карнавале двадцать седьмого года, но его отвлекало настоящее, отвлекал блестящий образ ловкого игрока. Однако, ибо мысль то течет потайными кругами, то перескакивает с одного на другое напрямик, Гауна, полный туманной беспечности, вдруг обнаружил, кто же был тот слепой скрипач, которого он так необъяснимо (как показалось ему) напугал во дворе дома в Барракасе в день, когда Клара сказала ему, что встречалась с Баумгартеном: тот же самый, которого поранил доктор на улице Годоя Круса. Слепой испугался, потому что узнал голос Гауны: ведь перед нападением Валерги молодой человек попросил его, как и в Барракасе, сыграть еще один вальсок. А горечь, которую он сейчас ощущал, была легко объяснима: его снова щемила память о том, что было для Гауны необъяснимой изменой Клары.
Рыжий пес опять подошел ближе. Гауна сделал шаг, чтобы его погладить, движение отдалось в голове мучительной болью, которая пошла кругами, точно волны от камня, брошенного в недвижную гладь озера. Постепенно из лачуги вышли один за другим парни и доктор, они болезненно щурились, словно белизна дня причиняла им боль. Утро прошло в безделье, кто-то раздобыл бутылку джина, и парни распили ее, растянувшись в тени какой-то повозки. Гауну преследовал и мучил едкий сладковатый дым, веявший над свалкой; других – нет, и они дружески посмеивались над Гауной, называя его неженкой. Пока они дремали, над их усталыми и больными головами кружили зеленые мухи.
Под вечер приехал верхом хозяин лачуги. Он был в городском костюме, низы брюк зажаты прищепками, как у велосипедиста. За ним шагали четверо-пятеро мужчин в фуфайках и широких бриджах – команда его работников. Хозяин был крепкий мужчина лет пятидесяти с лишком; на его бритом, широком, веселом лице постоянно играла открытая улыбка, изображавшая то симпатию, то интерес к словам собеседника, что порой наводило на мысль о лицемерии. Волосы его были подбриты на затылке и на висках; у него были короткие толстые руки, толстый живот, толстые ноги. Здороваясь с доктором, он наклонился вперед верхней частью корпуса, свесив несгибающиеся руки, словно кукла на шарнирах. На свалке он работал сам по себе; его специальностью были лекарственные средства, и он сделался даже своего рода импресарио, ибо держал бригаду работников, которые, рассеявшись по свалке, рылись в мусоре для него. Валергу он приветствовал с сердечностью, не лишенной помпы, а на парней почти не обратил внимания.
– Как работается, дон Понсиано? – спросил его доктор.
– Да что тут, дружище, эта работа – как любая другая. Раз в кои веки случается момент процветания, а потом опять все замирает, доходы нищенские, с позволения сказать. Гвоздь всего, если вам угодно, самый больной вопрос – это работники. Я плачу им по-королевски – если, конечно, говорить о расценках, существующих на свалке, здесь сколько соберешь, столько и получишь. Но они – моя головная боль, и нет против нее никакого отечественного лекарства. Поверьте, страшно сказать, чего тут не натерпишься. Для меня самое главное – порядочность, чтобы все было по закону и справедливости, а их так и тянет урвать то, что им не принадлежит, забраться в огород коллеги. Ясно, тот мчится сюда, будто я ему соли на хвост насыпал, с ножом в руке. Представьте себе человека, который живет сбором золота, и которого, если он подберет, к примеру, пузырек касторки, я выпотрошу чисто из принципа – так какими же глазами он должен смотреть на моих работников, когда те стоят и скалятся, точно министры какие, сверкая двойными рядами золотых зубов?
Наверное, доктор очень любил дона Понсиано, раз безропотно слушал и слушал его. Парни были просто потрясены терпением Валерги и, стуча по дереву, клялись, что никогда не видели его в таком добром настроении, как в этот карнавал. Потом произошел короткий спор между доктором и его другом, в котором первый снова доказал свою покладистость: дело было в том, что хозяин пригласил всех отужинать с ним, а доктор, из воспитанности, никак не соглашался принять приглашение. Вскоре пришла хозяйка, которая так неласково встретила их прошлой ночью, и принесла мясо. Пока оно жарилось – Гауна смотрел на капельки свинца, скатывавшиеся по бокам котла, поставленного на угли, – хозяин лачуги принимал мешки, которые подносили ему работники, и расплачивался с ними. Ужин – куски мяса, сухого, как подошва, сухари и пиво – затянулся допоздна. Само собой разумеется, главным была царившая тут сердечность и неторопливость. Хозяин пригласил их на вечеринку «высокого полета» в один дом на проспекте Годоя Круса.
– Материал там, – объяснял дон Понсиано, – самый что ни на есть качественный. Амфитрион – настоящий магнат, умеет жить, разбирается в жизни – надеюсь, вы меня понимаете – и приглашает женщин из Вильи-Сольдати и Вильи-Креспо. У меня там карт-бланш: я могу приводить кого вздумается, потому что уважает он меня просто исключительно. Это интересный человек, добившийся всего собственными руками, он собирает вату – дело приносит большой доход, хоть и кажется пустяком. Надо ли добавлять, что он к тому же иностранец, из тех, что дорожит каждым сентаво?
Доктор заявил, что он и его молодые друзья не могут пойти сегодня на вечеринку, потому что должны двинуться дальше, в Барракас; хозяин предложил переговорить с владельцем повозки.
– Мы, сторонники частной инициативы, – объяснил он, – никогда особенно не ладим с этими бездельниками и лентяями, которые живут на государственное жалованье, и – надеюсь, вы меня понимаете – точно носят на лбу официальную бляху. Но у меня добрые отношения со всеми, и если вы сегодня пойдете на вечеринку, то утром, выходя на работу, он отвезет вас в повозке – удобнее некуда. Насчет транспорта на завтрашний день я уверен на девяносто пять процентов.
Даже перспектива повозки не могла переубедить доктора и Гауну, но все уладилось как нельзя лучше. Вскоре появился владелец повозки, который вел в поводу двух вороных коней.
– Мне надо запрягать, – сказал он дону Понсиано.
Мусорщикам предстояло немного прибрать город, сгрести серпантин, набросанный за день. Дон Понсиано спросил:
– Вы не могли бы подбросить моих друзей?
– Я еду на проспект Монтес-де-Ока, – ответил возчик. – Если им подходит, пожалуйста.
– Нам подходит, – ответил доктор.
XLV
Когда возчик запряг лошадей, доктор и парни простились с доном Понсиано и сели в повозку: доктор и возчик на передок, Гауна и ребята – посредине, на ящик.
Они проехали по проспекту Круса, потом свернули направо по проспекту Ла-Плата, где уже начали собираться маски; на Альмафуэрте Гауна увидел стену с изображением Санта-Риты и подумал, что легче вообразить себе смерть, чем то время, когда мир будет жить без него; спустившись по Фаматине и по проспекту Алькорта, они добрались до темного района фабрик и газовых счетчиков; на проспекте Саэнса им встретились кое-какие группы масок, немногочисленные и шумные, напомнив, что идет карнавал; они свернули на Пердриэль и поехали затем вверх по улице Брандсен мимо стен, решеток и задумчивых садов с эвкалиптами и казуаринами.
– Это приют Девы милосердной, – объяснил Пегораро.
Гауна спросил себя, как он мог подумать, что окунувшись в карнавал, вновь обретет то, что ощутил в прошлый раз, вновь переживет карнавал двадцать седьмого года. Настоящее – неповторимо; этого он не знал, оттого и терпел поражение в своих бессильных попытках заклинаниями вернуть прошлое.
Они остановились во Вьейтес, возле статуи. Доктор сошел и сказал:
– Мы остаемся здесь.
Пока возчик привязывал поводья к передку, Валерга показал парням ресторан «Старый Сола» и жаровню перед ним.
– Здесь можно недурно поужинать. Готовят без претензий, но вкусно. Году в двадцать третьем мне порекомендовал это место один кучер наемной коляски – это люди сведущие, они много ездят и умеют поесть. Потом мне сообщили, что брат хозяина – старший служащий в одной компании, торгующей растительным маслом. Так что здесь не скупердяйничают. А знаете ли вы, что это значит в нынешние времена? Поверье, такие связи дороже золота. Кроме того, район этот на отшибе, так что, может, нам повезет, и мы избавимся от масок, музыкантов и прочих радостей. Всему свое время, а пищеварение требует тишины.
Валерга пригласил возчика выпить с ним по рюмке. Они пили у стойки, а парни ждали, сидя за столом. Казалось, хозяин заведения не узнал Валергу; тот не обиделся, и когда возчик ушел, тоном завсегдатая и знатока начал делать пространные комментарии насчет масла, мяса и колбас.
Ужин начался с вареной колбасы, салями и сырокопченого окорока; затем принесли блюдо с мясом и овощной салат. Валерга заметил:
– Не забудьте проверить, не оставили ли без машинного масла компанию «Зингер».
Было выпито много красного вина. Потом официант предложил им сыр и джем.
– Это десерт для полицейского. Принесите нам сыр, – ответил Валерга.
В зал вошла группа музыкантов – четыре чертенка. Еще до того, как они ударили в тарелки, Гауна протянул им песо. Он сказал извиняющимся тоном:
– Предпочитаю выбросить песо на ветер, лишь бы посидеть в тишине.
– Если тебе жаль этих расходов, мы уж, так и быть, скинемся, – едко заметил Майдана.
Черти благодарили и кланялись.
– Мне кажется неразумным тратить деньги на ряженых, – изрек Валерга.
Ужин закончился фруктами и кофе. Перед тем как уйти, Гауна прошел в уборную. На стене виднелась карандашная надпись, сделанная неумелой рукой: «Для хозяина». Гауна спросил себя, не заходил ли сюда Валерга, но к этому времени он уже выпил столько красного вина, что ничего не помнил.
Они прошлись немного, чтобы освежиться. Доктор повернулся к Антунесу:
– Ну, скажи, отчего ты такой бесчувственный? В подобную ночь я, если бы только умел, пел бы во всю глотку. Ну, спой «Дон Хуана».
Пока Антунес пел, как мог, «Дон Хуана», Валерга, глядя на низенькие ветхие домишки, сказал:
– Когда же, наконец, вместо этих трущоб здесь построят фабрики и заводы?
– Или чистенькие домики для рабочих, – осмелился предложить Майдана.
XLVI
Они опять почувствовали жажду и, отпуская шуточки насчет засухи, сравнивая свое горло с мотором без смазки и наждачной бумагой, зашли в бар «Аэроплано» на площади Диас Велес. Возле их столика пили два человека: один у стойки, другой – облокотившись о соседний стол. У стойки пил высокий и веселый молодой человек беззаботного вида, в шляпе, заломленной на затылок. Второй был менее стройный, белокурый, с очень белой кожей, голубыми глазами – задумчивыми и печальными – и светлыми усами.
– Видите ли, друг, – громко объяснял блондин, словно желая, чтобы все его слышали, – судьба этой страны весьма необычна. А ну-ка скажите, чем эта Республика известна в мире?
– Бриолином, – ответил молодой человек, – мазью из трагаканта, которую присылают из Индии.
– Не будьте кретином. Я говорю серьезно. Взвесьте все хорошенько: я не говорю о богатстве, потому что до восстановления и оздоровления мы янки в подметки не годились, ни о квадратных километрах, потому что, даже считая округленно, мы не можем не признать, что у Бразилии территории вдвое больше, ни о поголовье скота, ни о сельском хозяйстве – ведь стоит оглянуться, и на любом рынке Чикаго ты найдешь больше продуктов, чем в главной житнице страны, ни о мате, этом напитке, от которого мы с каждым глотком все больше чувствуем себя настоящим гаучо, а его привозят из Бразилии и Парагвая; я не собираюсь твердить вам о книжках, даже о лучших творениях наших славных борзописцев – креольских поэмах на манер «Мартина Фьерро», которого, кстати, выдумал Идальго, молодчик с уругвайского берега.
Молодой человек у стойки ответил, зевая:
– Вы уже сказали, о чем не будете говорить, теперь скажите, о чем будете. Порой я спрашиваю себя, Амаро, не становитесь ли вы испанцем – такой вы болтун.
– Не говорите этого даже в шутку, будучи таким же аргентинцем, как вы, хоть и не ношу этих новомодных канотье, я выкладываю вам как есть всю правду, которая жжет мое сердце, как жжет руки жареный картофель, который продают в киоске на Пасео-де-Хулио. Ведь просто умереть можно, Аросена. Я говорю не о мелочах, я говорю о том, чем мы издавна и по праву гордимся, о том, что не подлежит сомнению и что питается живительными силами самого нашего народа: я говорю о танго и о футболе. Прислушайтесь только, друг мой: по словам этого защитника всего аргентинского, покойного Росси, который жил в Кордове и не иначе как был родом с уругвайского берега, танго, наше танго, более типичное, чем дурной запах, воистину наш посол в Старом свете, танго, которое танцуют в Европе, до обсуждения которого лично снисходит сам папа – это танго родилось в Монтевидео.
– Должен вам заметить, что если послушать уругвайцев, окажется, что все мы, аргентинцы, родились там, от Флоренсио Санчеса до Орасио Кироги.
– Нет дыма без огня. Не будем уже вспоминать о Гарделе, который если не француз, так наверняка уругваец. Да и что говорить, ведь самое знаменитое танго тоже уругвайское.
– Я больше не могу, – заявил Гауна. – И простите, что я вмешиваюсь, но каким бы плохим аргентинцем человек ни был, нельзя же сравнивать эту ерунду с таким танго как «Иветт», «Ночной загул», «Койка», «Портеньито» и массой других.
– Не надо кипятиться, юноша, – отозвался говоривший, – и не стоит превращаться в каталог магазина пластинок. Я не сказал «самое лучшее», я сказал «самое знаменитое». – Потом, словно забыв о Гауне, белокурый снова повернулся к молодому человеку у стойки. – А что касается футбола, спорта, которым мы занимаемся с колыбели, на мостовой, играя тряпичным мячом, спорта, от которого мы все – члены правительства и оппозиция – одинаково сходим с ума, который привил нам привычку раскатывать в грузовиках, крича равнодушным: «Бока! Бока!» – что касается этого спорта, прославившего нас по всей нашей круглой планете, нам, дружище, надо посторониться: нас то и дело обыгрывают уругвайцы, и на олимпиадах, и на мировых первенствах.
– А отчего вы молчите о велогонках? – спросил молодой человек у стойки. – Мне припоминается, будто Тортероло или Легисамо – уругваец или что-то в этом роде.
Сказав это, молодой человек, которого называли Аросена, выхватил сандвич из-под стеклянного колпака, и добавил:
– Быть может, это поможет мне восстановить память.
Доктор тихо заметил:
– Мне кажется, за всем этим что-то кроется. – Он помолчал и добавил: – Теперь у меня все закипает внутри, но словесный поединок – это не по мне.
Забыв о недавней неприязни, Гауна посмотрел на него с былым безраздельным восхищением: ему снова хотелось верить в своего героя, в его миф и легенду, хотелось надеяться, что действительность, так чутко отзывающаяся на его тайные и страстные желания, наконец подарит ему случай, не такой уж для него необходимый, но дорогой и убедительный (каким для других верующих бывает чудо), блестящий случай, который после стольких противоречивых ощущений утвердит его в первоначальной вере, вере в романтическую, торжествующую иерархию, где над всеми доблестями возвышается храбрость.
Тем временем человек в шляпе на затылке продолжал говорить, а говорил он вот что:
– Но ведь не только в этих благословенных краях зарабатываем мы себе добрую славу: поглядите, во французских и калифорнийских кабаре вам непременно встретится аргентинец с прилизанными волосами, зарабатывающий на жизнь тем, что знакомит вас с такими женщинами, которые, честно говоря, рассчитаны разве что на тех, у кого нет глаз.
– А какое отношение это имеет к противоположному берегу? – спросил человек за столиком.
– Как какое? Их всех зовут Хулио, и все они уругвайцы.
– Теперь окажется, что мы, аргентинцы, даже в женщинах не смыслим, – заметил доктор и, повысив голос, распорядился: – Официант, подайте-ка что-нибудь этим сеньорам, пусть они объяснят, отчего мы такие несчастные. Они-то должны знать.
Оба попросили вишневую настойку.
– Уругвайскую, друг, потому что здешняя порядочное пойло, – сказал белокурый, обращаясь к официанту.
– Слабая выпивка, – отметил Пегораро.
– Чисто женская, – добавил Антунес.
– Поглядите, этого сеньора мы называем Жердью или Башней Бароло, – быстро сказал Майдана, указывая на Антунеса. – В нем больше метра восьмидесяти. Облазив с лупой весь Монтевидео, отыщете ли вы там дом, похожий на Башню Бароло?
– Не знаю, я там никогда не был и желания не испытываю.
Доктор тихо объяснил Гауне:
– Парни – точно шавки, горластые шавки, они лают на дичь и чаще всего спугивают ее. Увидишь, они вот-вот начнут кидаться хлебным мякишем или кусочками сахара.
Но этого не случилось. Все кончилось слишком быстро. Внезапно молодой человек в шляпе на затылке сказал:
– Доброй ночи, сеньоры. Большое спасибо.
Белокурый тоже сказал «большое спасибо». Оба спокойно вышли за дверь. Доктор встал, чтобы последовать за ними.
– Пусть их, доктор, – вмешался Гауна. – Пусть себе идут. Сначала мне хотелось, чтобы вы проучили их как следует. Теперь уже нет.
Валерга подождал, пока он кончит, потом сделал шаг к двери. Гауна вкрадчиво взял его за локоть. Доктор с ненавистью посмотрел на коснувшуюся его руку.
– Пожалуйста, – продолжал Гауна. – Если вы выйдете, доктор, вы убьете их. Карнавал длится до завтра. Не будем прерывать праздник из-за этих людей, которых совершенно не знаем. Прошу вас, не забывайте, что вы мой гость.
– Кроме того, – встрял Антунес, желая разрядить атмосферу, – все случилось между аргентинцами. Будь они иностранцы, мы бы им не спустили.
– А тебя спрашивают? – в ярости крикнул доктор.
Гауна с признательностью подумал, что с ним Валерга обращается уважительно.
XLVII
По проспекту Освальдо Круса они дошли до Монтес-де-Ока. Заведение, где они побывали в 1927 году, стало теперь жилым домом. Майдана сказал: – Интересно, какие здесь живут сеньориты?
– Такие же, как везде, – ответил Антунес.
– С одной разницей, – многозначительно заметил Пегораро.
– Не вижу ничего особенного, – заверил Антунес.
– Как пить дать, – продолжал Майдана, – местные ребята, разговаривая с ними, вставляют всякие намеки.
Они заходили в кафе. Казалось, доктор обиделся на Гауну. А тот смотрел на доктора с прежней теплотой, в которой было нечто сыновнее. Обида Валерги растрогала, но не слишком встревожила его: важнее было другое – примиренность, переполнявшее его чувство дружбы. Забыть утреннюю неприязнь побуждали его не усталость и не множество выпитых рюмок; там, в баре на площади Диас Велес, диалог этих незнакомцев больно задел Гауну, ибо они насмехались над тем, что было для него самым милым и драгоценным, и Валерга, верный себе – или тому образу, который в прежние времена сложился у Гауны, – как олицетворение отваги, встал на защиту идеалов.
Они пошли по улице Монтес-де-Ока подыскивать какой-нибудь отель, где бы провести ночь. Вошли было в один на углу Гимараэнса и Морейры, но обнаружив, что внизу находится конюшня, двинулись дальше.
– Лучше всего – сказал Валерга, – заглянуть к хромому Араухо.
Хромой Араухо был хозяином, или точнее, сторожем, большого склада строительных материалов на улице Ламадрид. Парни пришли в изумление. Покачивая головами, они обсуждали это удивительное обстоятельство.
– Подумать только, – подчеркнул Пегораро, – доктор, живущий в Сааведре, имеет столько знакомых в самых глухих местах, в таких удаленных районах, чтобы не сказать, на окраинах.
– И при том он неотделим от Сааведры, как тамошний сквер, – добавил Антунес.
– Чего тут странного, – осмелился возразить Майдана. – Мы тоже из Сааведры, а смотрите, где оказались.
– Не будь идиотом, сейчас другое время, – урезонил его Пегораро.
– Этот никого не уважает, – сказал Антунес, указывая на Майдану. – У него мания отрицать чужие заслуги.
Пегораро догнал доктора, который шел впереди с Гауной, и спросил:
– Как вам удается, доктор, иметь столько знакомых?
– Видишь ли, дружок, – ответил Валерга с некой печальной гордостью, – поживите-ка вы все с мое и увидите, если не просвистите жизнь понапрасну, что, по крайней мере, обзавелись в этом божьем мире прорвой друзей – чтобы как-то их назвать, – которые в час нужды не откажут вам в пристанище на ночь, хотя бы это был всего-навсего вот такой сарай, полный крыс.
Пока доктор стучал в дверь, Гауна думал: «Если бы на его месте был другой, судьба наказала бы его за эту фразу и его не пустили бы на порог, но с доктором такого никогда не случится». И, конечно, такого не случилось. Араухо уже ковылял, хрипло ругаясь, по ту сторону стены – казалось, этому не будет конца. Наконец, он открыл дверь и в разгар приветствий испуганно подался назад, заметив в тени фигуры парней. Доктор оперся о дверь, – может быть, затем, чтобы помешать Араухо ее закрыть, и заговорил спокойным тоном:
– Не пугайтесь, дон Араухо. Сегодня мы не собираемся вас грабить. Эти сеньоры вышли из дому с намерением воздать должное празднику и, подумайте только, они настолько любезны, что попросили старика сопровождать их. Конечно, когда спустилась ночь, я подумал: прежде чем тыкаться в отель, не лучше ли навестить хромого?
– И поступили совершенно правильно, – заявил хромой, успокоившись. – Совершенно правильно.
– В нашем возрасте, – продолжал доктор, – уже можно не бояться оговора, друг Араухо. Если вы идете с молодыми людьми, человек незлонамеренный примет вас за учителя, гуляющего с учениками; а если, напротив, вы выходите в компании людей вашего возраста, остается лишь идти на площадь и, усевшись на скамейку, переговариваться криками, чтобы тебя расслышали. Думаю, единственное, что нам пристало – это пить мате в одиночестве, поджидая гробовщика.
Хромая и кашляя, Араухо высказал уверенность, что для них обоих судьба приберегла кое-что получше – и долгие года жизни.
Они заговорили о том, как расположиться на ночь.
– Конечно, я не могу предложить вам роскошных покоев, – сказал хромой. – Для доктора – короткий диван в конторе. Честно сказать, боюсь, он не такой уж удобный, но ничего лучшего в доме нет. Когда-то я пользовался им время от времени, и на другой день – надо было видеть – вставал скрючившись, точно горбун. Я так полагаю, что ревматизм получаешь не тогда, когда мебель стоит на сквозняке, как считают некоторые, а тогда, когда упираешься головой в боковую спинку. А сеньорам я дам чистенькие мешки. Пусть подыскивают подходящее местечко и ложатся, не стесняясь, как у себя дома.
Гауна просто валился с ног. Он смутно помнил, как ощупью пробирался в темноте среди чего-то белевшего. Очень скоро он растянулся и заснул.
Ему приснилось, что он вошел в освещенный свечами зал, где за огромным круглым столом сидели герои и играли в карты. Среди них не было ни Фалучо, ни сержанта Кабраля – никого, кого Гауна мог бы узнать. Тут собрались полуобнаженные юноши, совсем не дикарского вида, лица и тела у них были такие белые, что казались сделанными из гипса; они напомнили Гауне Дискобола – статую, стоявшую в клубе «Платенсе». Герои играли в карты размером вдвое больше обычных и – другое примечательное обстоятельство – колодой, масти в которой изображались сердцами и трилистниками. Игроки оспаривали право подняться на трон – то есть занять самое почетное место и считаться главным из героев. Трон походил на кресло для чистки ботинок, но еще выше и удобнее. Гауна заметил, что прямо к креслу вела красная ковровая дорожка – такая, по рассказам, была в кинотеатре «Ройяль». Пытаясь понять все это, он проснулся. И увидел, что лежит в окружении статуй, которые, как потом, когда они пили мате, объяснил хромой, представляли Язона и героев, сопровождавших его в путешествиях. Гауна попытался объяснить парням, что эти герои приснились ему еще до того, как он узнал об их существовании и увидел статуи. Пегораро спросил:
– Тебе никогда не говорили, что людям скучно слушать про твои сны?
– Не знаю, – ответил Гауна.
– Пора знать, – заявил Пегораро.
Араухо попросил их не обижаться, но хорошо бы они ушли до восьми, до того, как появятся рабочие и некрасивая сеньорита из конторы.
– Всегда найдется какой-нибудь доносчик, – добавил он извиняющимся тоном, – а кто его знает, хозяину может и не понравиться.
– С всякими там «вуле-ву», – отозвался Валерга, – этот хромой каналья позволяет себе нас выпроваживать.
Доктор говорил не всерьез, он просто хотел поддеть приятеля. Тот стал протестовать:
– Что вы, доктор. По мне, так оставайтесь.
Они позавтракали в кафе на Монтес-де-Ока, в районе шестисотых номеров, полным завтраком – кофе с молоком, булочки и печенье. Недалеко от площади Конституции нашли турецкие бани, и, пока – по выражению доктора – «турки их обновляли», им почистили и погладили одежду. Пообедали они шикарно – на Авенида-дель-Майо, потом посмотрели в кинотеатре «Цену славы» с Барри Нортоном, а в «Батаклане» – ревю, которое, как «со всей откровенностью» отметил Пегораро, «было не на высоте». Поужинали они в забегаловке на Пасео-де-Хулио. Заплатив несколько монет, посмотрели виды набережной Мар-дель-Платы, парижской выставки 1889 года, изображения толстых японских бойцов в разных видах, а также и другие изображения людей обоих полов. Потом прокатились в таксомоторе марки «бьюик» с открытым верхом, глядя на процессии, и приехали в Арменонвиль. Перед тем как сойти Пегораро сделал несколько семерок перочинным ножом на красной коже обивки.
– Поставил свою роспись, – сказал он.
Был один неприятный момент, когда швейцар в Арменонвиле не хотел их пускать, но Гауна сунул ему бумажку в пять песо, и двери этого лучезарного дворца открылись перед нашими героями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.