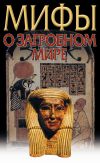Текст книги "Психопомп"

Автор книги: Александр Нежный
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Дверь скрипнула, Оля в ночной светлой рубашке подошла к нему. Он открыл глаза. Оля. Ты почему не спишь? Не могу заснуть, шепнула она. Я полежу рядом, хорошо? Она легла и прижалась к нему. Я все думаю, отчего ты такой? Какой? – безучастно спросил он, вдыхая сухой чистый запах ее волос. Океан еще был перед ним, вечность, невидимая и манящая. Ты какую-то стену между нами поставил. Я все думаю: почему? Или ты меня не любишь… или как-то по-своему любишь, я не знаю, как… или… Марик, скажи честно: у тебя кто-то есть? Или ты слово дал? Ты, может быть, ее уже не любишь, но связан словом. Или у тебя ребеночек? Сыночек? Или дочка? Марик, так бывает, ничего страшного. Ты не должен его забывать… Он не виноват. Тебе всю правду сказать? Она – он почувствовал – сжалась. Правду, выдохнула Оля. Да, промолвил он, есть. Я чувствовала, горестно сказала она. И с его матерью ты… ты в каких отношениях? У меня есть папа. И у меня есть ты. Она замерла, уткнувшись головой в его подмышку. А теперь, сказал Марк, ты должна меня выслушать. Не перебивай.
Он встал, натянул брюки и сел за стол. Прохладный ветерок залетал в распахнутое окно. Ночное небо понизу охвачено было нежно-бирюзовым светом, а в самой вышине лежало темно-синим бархатом с проплывающими по нему темно-серыми тенями легких облаков. Набросив на себя одеяло, с ним рядом села Оля. Помнишь, сказал он, в нашу первую встречу, когда я приехал… Она молча кивнула. Наталья Григорьевна была не очень-то добрым человеком, она тебя поедом ела. Она тебя подобрала и приютила и считала, что ты ей кругом обязана и все стерпишь. Оля снова кивнула. Таков человек, продолжал Марк. Нечаянно сделал доброе дело, но желает получить свои проценты. Ее черные птицы одолевали, она их пыталась прогнать и звала тебя. А ты удивилась, откуда я знаю твое имя. У нее услышал.
Оля не выдержала. Марик! С изумлением произнесла она. Ты их слышишь?! И понимаешь? Слушай. Я никому никогда. Папе однажды и то вскользь. И я понять не могу, откуда это. Первый раз, однажды, во дворе. Вынесли гроб и поставили у подъезда на двух табуретах, чтобы простились. Лиза ее звали. Я был мальчик, лет десять, может быть, одиннадцать, а она… она мне всегда казалась совершенно невесомой, легчайшей и прекрасной. Я на нее во все глаза глядел. Она подозвала и шепнула, вспоминай меня. И в гробу она была прекрасна, и я ее всем сердцем любил, и что угодно готов был отдать, лишь бы она воскресла. Она сказала, я услышал и навсегда запомнил, какое неслыханное счастье приносит покой. Лиза, промолвил он, словно вслушиваясь в звучание этого имени. Лиза, вслед за ним повторила Оля. Она крещеная была? Понятия не имею, помедлив, ответил он, вспоминая давний теплый день позднего лета, качели во дворе, на которых с пронзительным скрипом раскачивалась белобрысая девочка лет семи, крики играющих в футбол ребят и Лизу в гробу, в лучах высокого солнца, в страшном блеске уже неземной красоты. А зачем тебе? Как зачем? Записку за нее в церкви подать. Не знаю, сказал Марк. Но, кажется, ее отпевали. А ты, спросила Оля, с тех пор многих… она произнесла, вздрогнув всем телом, умерших… многих ты слышал? Слышал. Маму. Бабушку мою. Андрея Владимировича, маминого папу. Меня это всю жизнь мучает. Для меня это загадка, из тех, которые отгадаешь, то вот тебе моя дочь в жены и все мое царство в придачу, а не отгадаешь, клади голову на плаху. Отгадал? Она потянулась к нему и поцеловала. Нет, ответил он. Царства не будет, выдохнула она. А дочь – вот она, бери ее прямо сейчас. И она снова поцеловала его. Погоди. Он мягко прижал ее голову к своей груди. Оля. Погоди. Не знаю, отчего у меня это… отчего мой слух так настроен, что я их слышу. Но я точно знаю, им надо высказать последние свои слова, сообщить тем, кто остался… Что сообщить? – прошептала она, горячими губами касаясь его груди. У них на сердце остается многое. Мама моя тревожилась, как без нее папа. Бабушка обо мне переживала. Ах, Маричек, как не вовремя я собралась, она говорила. Меня дома так звали. И я буду, немедля откликнулась Оля. Маричек, возьми меня в жены. Обещаю, отозвался он. А когда стал работать… Я поначалу тетрадочку завел, в нее записывал. Потом бросил. Зачем записывать? Для чего? Для кого? Кто поверит? А я и так помню. Гнев слышал. Любовь, опечаленную вечной разлукой. Любовь тоскующую. Ему было семьдесят два, он ушел первым и звал ее. Мила! Как же мне без тебя? Она жила без него ровно три дня. Умерла? – ахнула Оля. Да. Умерла. Приняла тридцать таблеток запиклона, полторы пачки, уснула и не пробудилась. Умиротворение я слышал. Страдание. Счастье от избавления гнета жизни. Боль. Возмущение. Совсем еще молодую женщину помню, она говорила, какая несправедливость; если я увижу Бога, я Его непременно спрошу: за что? У меня семья, муж чудесный, любящий, добрый, сыночек, ему всего пять лет, – зачем было меня отдавать смерти?! Ужасная несправедливость, я так и скажу Ему в лицо. Сказала? – с тревогой спросила Оля. Не знаю, ответил он. Оттуда я не слышу. Но я знаю, пока она была в пути, она родилась в другую жизнь… Она доступна просветлению. А есть темные, мрачные, яростные. Мне страшно было их слушать. Столько ненависти! Столько хулы – и на жизнь, и на смерть. Был один, он мясом торговал, сеть магазинов, фермы… Много всего. И какой же лютой злобой он злобился, что не может взять с собой весь свой капитал, все движимое и недвижимое! Я потом и кровью, он говорил, я по копейкам… по грошам! у всех занимал на первый мой вагон с мясом. Теперь жене-хищнице и дочери, ее отродью. Слушайте, люди живые, да послушайте вы, а не отравила ли она меня? Заявите в полицию. В «Известия» напишите. В Интернете… Жена мужа отравила. Как я не уберегся. Ведь думал об этом, всегда думал, а за неделю, как это со мной случилось, поел ее борща. Какой дурак! Ночью огонь в животе. Она ахает, Боренька, это у тебя гастрит. Отравительница. Я ей прямо высказал, мышьячком меня, стерва, накормила?! Змея. Но отчего не проверили? Отчего кровь мою не исследовали? Отчего? Да она врачам занесла, вот отчего. Я в гробу, она с капиталом. Да слышит ли кто-нибудь меня?! Ты слышишь, я знаю. Вот завещание мое окончательное. Пиши. Находясь в здравом уме… О, проклятье, кто поверит. Слушай. Езжай на Волгоградский, пятьдесят три, там нотариус, Игорь Наумович, передай, что я велел… Не поверит, бумажная душа. Проклятье! Кто-нибудь, черт возьми, дьявол, Люцифер, сатана, да заберите же у нее все! Душа? Да черт с ней, заберите, если она вам нужна! Какой ужас, прошептала Оля. Священника помню, после недолгого молчания продолжил Марк. Отец Николай, кажется. Кричал. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей! Это псалом, промолвила Оля, покаянный. Ему Ад мерещился, ответил Марк. Он его трепетал. Грешен, Боже, равнодушием к Тебе, ложью Тебе, отсутствием веры в Тебя. Помилуй. Боже милосердный. И вы, люди, меня простите за мое лицемерие, мою тайную усмешку, за кражу смысла у великих слов. Я разве верил, когда вас приобщал? Древняя ересь забавляла меня: а чье это тело и чья кровь – Иисуса-человека или Христа – Сына Божия? А сам Христос единосущен или сотворен? Совечен Отцу или подвластен времени? Страдал на Кресте как человек? И как человек умер? Вправду ли воскрес? Я возглашал в пасхальную ночь: Христос Воскрес! А сам думал, если бы Он в самом деле воскрес, разве такой была бы сейчас наша жизнь. Что ни помысел, то грех, сокрушался он. Надо было мне умереть, чтобы уверовать.
Маричек, промолвила Оля. Этот отец Николай, Царство ему Небесное, он хоть и в смерти, но уверовал, не знаю, правда, возможно ли такое. Но нашел ли он Того, в Кого уверовал, откликнулся Марк, и перед Кем каялся. Поверить, что Он есть, так же просто, как и в то, что Его нет. А можно, помолчав, сказал он, остаться посередине – не в вере, но и не в безверии. Ибо в самой жизни есть соляная кислота сомнения. Она разъедает. Слишком много в жизни жестокости, лжи и грязи, чтобы списать все на свободу, которую даровал человеку Бог в надежде на его спасительное преображение. Ты не прав, промолвила Оля. Почему? Не знаю. Не прав. Чувствуешь, таинственно шепнула вдруг она, как пахнут розы? Словно в саду.
В тишине отчетливо перестукивали часы, сквозь занавески просвечивала повисшая над рекой желтая круглая луна; изредка громко шуршала проезжающая по Гончарному проезду одинокая машина, а издалека, со стороны моста, временами доносился грохот тяжелого грузовика. Ночь легла на огромный город, но где-то в ее глубине уже пробуждался рассвет – пока лишь едва проступающими в темноте несмелыми проблесками призрачного света. Глухим голосом она сказала, иди ко мне. Марик. Маричек. Я так тебя жду. Обними меня. И, обхватив его за шею, стала быстро и горячо целовать его и между поцелуями вышептывать, ты зачем меня мучаешь? разве ты не хочешь ко мне? совсем ко мне? Погоди. Оля. Почти в забытьи вымолвил он. Голова плыла. Так близко было блаженство, что он едва смог из последних сил отстраниться от нее. Оля. Я сам умираю. Но я главного не сказал тебе. Какое главное, тянулась к нему она, ты все сказал. Про всех твоих покойников. Хватит. Я живая, и ты живой. Иди ко мне. Нет. Слушай. Я не знаю, откуда у меня это, почему я их слышу, но я знаю, что оно исчезнет… покинет меня, если я… сразу после… И пусть, воскликнула она. Неужели тебе это важнее, чем мы с тобой?! Сколько ты еще будешь ждать? Год? Два? Ты меня разлюбишь, расхочешь, тебе станет все равно. Нет, горько сказала она, ты меня не любишь. Если бы ты любил, разве бы ты думал о чем-то другом, совсем постороннем? – говорила она, едва не плача. И почему два года? А вдруг пять? Откуда тебе знать? Маричек! Ты меня мучаешь. Я ничего больше на свете так не хочу, как быть с тобой. И папа твой хочет. Оля, Олечка, шептал он, гладил ее по голове и с мучительным восторгом чувствовал исходящее от нее жаркое полубеспамятство, все сильней и сильней увлекающее его за собой. И не два года, и даже не год. Раньше. Мне обещали. Ты даже представить себе не можешь, что мне обещали! Я никому. Марик! – отстранившись от него, с горестной улыбкой промолвила Оля. Что же такого тебе обещали, что ты меня отвергаешь? Я тебе скажу, тебе одной, милая моя, любимая, лихорадочно шептал он, только не думай, что бред или мне кто-то наплел Бог знает что, а я поверил. Если бы ты видела, ты ни на секунду бы не усомнилась. Ты бы видела! Там все было странное, я такого в жизни не встречал.
Что же увидел он в трехкомнатной квартире в Медведково, куда его впустил молодой человек с длинными – по плечи – прямыми волосами, умеренной величины бородой и в черной рубахе, перехваченной кожаным плетеным ремешком? Людей разного возраста, бородатых мужчин, женщин со скорбными лицами; белоголового мальчика лет семи со смышленым взглядом светлых глаз, спросившего у женщины в низко повязанном платке: «Мам, это агент пришел?», и тотчас безмолвно уведенного на кухню, и в большой комнате с занавешенным черным платком зеркалом увидел лежащую на столе, ногами к дверям, закутанную в белое покрывало древнюю старуху, у которой в паспорте – прочел Марк – годом рождения обозначен был тысяча девятьсот девятый. В ногах у нее стоял наполненный зерном горшок с горящей свечой; у стола, на полу, кувшин с водой; но особенно поразил Марка сидящий у нее в изголовье ворон, повернувший к нему голову с блестящим клювом и глазами с черным зрачком и оранжевой радужкой. Ворон не мигая смотрел на Марка – и Марк, словно околдованный, не мог оторвать от него глаз. Тут, как сквозь сон, услышал он слабый голос старухи. «Иванушка!» – позвала она.
И ворон, похоже, тоже услышал и склонил голову набок. «А! – обрадовался сидящий в кресле старик с посохом в руках и чисто промытой серебряной бородой во всю грудь. – Слышишь ее, умник ты наш. Кланяйся ей. Передай, пусть всему роду кланяется, а как срок выйдет, пусть возвращается». Тем временем один за другим входили в комнату люди, здоровались с покойницей, произнося: «Здрава будешь, Анна Федоровна», кланялись ей низким поклоном, целовали в лоб и становились вдоль стен. Появилась женщина, вся в черном, только тапочки на ногах у нее были светло-коричневые с белыми помпонами на мысках, и принялась читать по рукописной книге. Роде всевышний, ушла из Яви сестра наша, Анна, посему помоги ей пройти Звездным мостом через реку Огненную в Ирий светлый, прими ее в царстве своем духовном, вознагради ее по делам ее праведным, прости поступки плохие, кривду вольную и невольную…
«Подойди ко мне» – услышал он. Марк шагнул. Ворон взглянул недовольно.
Запели:
Разве не скорбь нам прощаться с тобой, старица мудрая, Рода любимица, сестра дорогая лесу и травам, всякому зверю, во поле рыщущему, птице, в небе бескрайнем вольно летающей. Матерь Земля о тебе опечалилась, солнышко красное тенью завесилось, дождик пролил, о тебе неутешный, море печалью берег омыло – все мирозданье горем смутилося. Но и сквозь слезы мы улыбаемся, зная, что в Нави ты будешь счастливою, с чистой душой, веселящимся сердцем и, просветленная, в срок предназначенный, в отчий свой дом снова жить возвратишься.
Нездешний ветер овеял его. Не помня себя, он стоял у гроба, видел лицо старухи с плотно закрытыми глазами и удивительной для ее древности гладкой кожей и сидящего в изголовье ворона, должно быть, ее ровесника. А эти люди вокруг – откуда они? Каким чудом они проросли сквозь вековую толщу неблагоприятной и даже враждебной к ним породы? Что в их духовном устройстве сохранилось от той поры, когда еще не был сброшен в реку крепко выпоротый плетьми деревянный бог? Ведь это правда, что Христос явился к ним не как избавитель, а как враг, объявивший их богов вне закона; что Параклет их не утешил, напротив – вынудил рыдать о гонимой отеческой вере; и что Бог Саваоф всему этому попустил. И ни один из гонителей не захотел и слышать, что бог из дерева, дорогой старец, пращур и опекун Рода – всего лишь символ безбрежного мира, соединенного в одно целое небесной любовью. И не лучше ли воздавать хвалу богам в священных рощах, питать их от почтительных жертв и от сердца к сердцу, как тех, кто близко входит в наши заботы, просить о помощи, – чем день и ночь тянуть унылое «Господи, помилуй»? Не справедливей ли корить богов за их промедления, промахи и упущения – чем влачить вериги покорного послушания? Не радостней ли, снабдив усопших пищей и питием, препроводить их в селения Нави, под вечное ясное небо, туда, где слышится нежный лепет невиданных трав и немолчное пение райских птиц, – чем отправлять их в неведомые миры с одной лишь надеждой на радушный прием? Как будто бы время с необыкновенной скоростью обратилось вспять и остановилось там, где и в помине не было этого убогого панельного дома, и этого безликого, серого, битком набитого людьми Медведково, и всего этого оторванного от родного корня поселения, – а были шумящие листвой бескрайние леса, дружественные звери и древний дуб, дитя богов и сам почти бог, посаженный при сотворении мира и хранящий изначальную чистоту всего живого. И ворон на том дубе – пращур Иванушки, так же зорко следящий за таинствами рождения и смерти. Не было на земле церквей, не звонили колокола, и никто не призывал Иисуса Христа; и Его не было. И не было ни страха смерти, ни мрака загробного воздаяния, ни иссушающего радость жизни греха. Как переменился наш мир! Как стал горек, неуютен и враждебен человеку! Горька стала жизнь и мрачна смерть.
«Желаешь Навь посетить?» Марк подумал, о чем она. «О том, что людям более всего знать хочется». Ворон Иванушка переступил с ноги на ногу и с неприязнью скосил холодный глаз на Марка. «Он не хочет, – молвила Анна Федоровна, – чтобы ты из Нави вернулся».
Еще пели:
Помним мы, дева, помним мы, старица, Рода ты нашего зоркохранительница, сколько добра тобой в жизни содеяно, скольких людей обратила ты к вере, скольким ты мир показала как целое, где в одну жизнь включены все живущие, мошка ли крохотная, бык ли могучий, дуб ли раскидистый, ландыш ли махонький – всё составляет единство всесветное, все дети Рода, под небом единого. Помним мы, дева, помним мы, старица, как берегла ты веру отеческую, как почитала богов наших древних и, не страшась, пострадала за веру, десять годов проведя за решеткою. Помним мы, старица…
«Ты, Иванушка, напрасно, – сказала ворону Анна Федоровна. – Пусть. Только девство до той поры сохрани, Тогда и взойдешь, и выйдешь».
Оля усмехалась. Ну и что? Старуха древняя. Мертвая. Еще бы. Сто четыре года. Какую-то ересь пели. Люди как из психушки. Кстати, а вера у них какая? Они язычники. Ах, разве в этом дело. И ты вправду думаешь, что эта старуха… как ее… Анна Федоровна, пробормотал Марк, чувствуя исходившее от Оли ожесточение. Эта Анна Федоровна тебе не солгала? У меня в голове не укладывается. Она мертвая, древняя, этот ворон, пение это дикое… дуб, бык, ландыш… – и ты этому веришь? Ты, значит, побываешь в… где ты побываешь? В Нави, сказал Марк. Да, да, как я могла забыть. А что это – Навь? Мир мертвых, я полагаю, ответил он. Вот как! Побываешь, посмотришь, поговоришь с покойниками и вернешься? Потрясающе. Ты будешь, как поэт… итальянский… Данте, сказал он. И добавил: не только Данте. Гильгамеш. Одиссей. Но зачем так далеко ходить. Ты разве не знаешь, и сегодня есть люди в самом прямом смысле воскресшие. Они умерли, а их оживили. Не слышала? Что-то слышала, сухо сказала она. Вот-вот. А какие свидетельства они оставили! Воображения не хватит придумать. Странно, промолвил он, о четырехдневном Лазаре все знают, все ему умиляются, а свидетельства, почти столь же обыденные, как рассказ о пережитом минувшей ночью сновидении, нам неинтересны. Почему? Оля молчала. Боимся, сказал он. Но для чего нам дан разум, как не для размышлений о смерти? И заметь: многие о своем пребывании там вспоминают почти слово в слово. Сначала расставание с телом, и прощальный взгляд на него, как на сброшенную одежду, и шум, похожий на стократно усиленный гул вырывающегося из тоннеля метро поезда; мрак непроглядный; стремительный полет, и свет впереди, свет ослепительный и в то же время ласкающий и согревающий сердце, изливающий любовь, какой тебя на земле никто не любил, порождающий радость; и ощущение великого покоя; свидания с людьми, близко или мимолетно знакомыми, и одна за другой картины жизни – от младенчества до последних дней… Она долгим взглядом всмотрелась в Марка. У него сердце готово было разорваться от любви к ней, к лицу ее родному, к ее глазам, взгляд которых всегда светился нежностью и добротой и словно бы согревал его, но от которого сейчас веяло отчуждением и холодом. Не могу понять, как ты во все это поверил. Не могу… И ты из-за этого?! Он кивнул. Марик. Она взяла его за руку. Что с тобой? Послушай, зашептала она с надеждой, может ты недоговариваешь… Какие-то другие причины? Я пойму. И любить тебя буду всегда, несмотря ни на что. А хочешь, пойдем вместе к отцу Иоанну, куда я хожу. Он хороший батюшка, он тебе непременно поможет. Хочешь, завтра же… уже сегодня… пойдем к нему, и ты расскажешь… Погоди. Может, ты это все выдумал? И про то, что ты слышишь, и про эту… Анну? Зачем, Марик?! Все правда, тихо сказал он. Боже мой, в отчаянии воскликнула Оля, как ты можешь в это верить!
Глава пятая
1.
С выражением глубокого недоумения в скорбно сжатых губах, в печальном взоре, в морщинах на задумчивом челе Лоллий Питовранов говорил Марку, что происходит в мире, сын мой? Быть может, мой разум безнадежно устарел и ему не по силам постичь происходящее, – но тогда скажи ты как человек молодой, точнее же – вступивший в пору зрелости и лучше разбирающийся в символах времени, куда катится человечество? Бросаем взор окрест – и сердце наше наполняется горестным изумлением, негодованием и смятением. Во время оно Господь испепелил Содом и Гоморру за грех, которого нынешние люди не только не стыдятся, но и выставляют напоказ. Они шествуют победными маршами под своими радужными знаменами, дают малышу нести плакат со словами: мои родители – геи, и в Англии, милой, старой, доброй Англии, которая по наивному нашему убеждению осталась страной крепких традиций, епископскую кафедру в церкви занимает женщина, и не просто женщина, а воинствующая лесбиянка! Вообрази осеняющую благочестивую паству крестным знамением руку, которая накануне своими перстами вытворяла черт знает что! Проповедь, произнесенную ртом, минувшей ночью осквернившим себя срамным лобзанием. Тьфу-тьфу-тьфу. Лоллий отер губы. О, мерзость! Нет, нет, выставил он пред собой раскрытую ладонь, никакого костра, избави Бог; и уголовного преследования не надо. Мы, натуралы, гуманисты. К чему аутодафе или Потьма, если природа дала сбой. Но и выпячивать, господа, что это такое! Непристойно, в конце концов. Ну, артисты… художники… атмосфера порока. Башни, браки втроем, блудодейство как священство, на манер древних греков… Василий Васильевич попробовал это… Марина Ивановна, дивная, несравненная, великая, но, господа, исключительно как поэт… Все, что вне творчества, – это путь к петле, которой она и завершила, великая и несчастная. Ее гений стал ее роком. Эдип себя ослепил – она повесилась. У них у всех безумная жажда дойти до края безо всякой остерегающей мысли о пределах прочности ткани, из которой создана жизнь.
Однако. Если бы только это – хотя Высшему суду и этого достаточно для наисуровейшего приговора. Но взгляните, люди добрые. После той войны, ужасней которой человечество не знало, – одумалось ли оно? Постановило ли всем земным шаром: братья, хватит крови, страдания и насилия? Решило ли гнать, как поганую собаку, всякого вонючего царька, распроподлого президента, говенного султана, вдруг решившего оттяпать у соседа кусок земли? Изломало ли все мечи? Распустило ли все полки? Куда там. Скажу тебе, сын мой: человечество больно, и, боюсь, неизлечимо. Иначе разве стало бы оно после той войны бряцать оружием неимоверной уничтожающей силы? выкатывать на парады ракеты одна другой страшней, танки, которые глядят исподлобья и обещают: и ахнуть не успеешь, как я тебя в дым обращу, и выводить ровные, как по нитке, ряды молодых парней – пушечное мясо непрекращающихся войн? А Россия? Что тебе сказать. Народ с уничтоженным достоинством. Страна, пожирающая своих детей. Государство, придавившее человека. Боже милосердный, я от ее плоти и крови, и я несчастен.
Лоллий понурился. Ты думаешь, обращаясь к сыну, вдруг встрепенулся он, отчего я еле пишу мой роман? Да, может быть, я выдохся; не по себе начал рубить дерево; возможно, в колодце не осталось воды, и опущенное вглубь ведро скребет по сухим камням; или мой ангел, который иногда снисходил к моим мучениям и, увидев через правое мое плечо не тронутую пером страницу, начинал диктовать мне сладчайшим голосом неслыханные слова, – улетел безвозвратно мой ангел туда, откуда даны были людям «Божественная комедия», «Фауст» и «Гамлет», где вызревали «Война и мир», «Улисс» и «Мадам Бовари», где в волшебной купели принимают благословение великие творцы. Может быть. Но помысли и об отчаянии, незримо сопутствующем моим усилиям. Пойми. Когда время внушает если не ужас, то, во всяком случае, отвращение; когда сгораешь от стыда и корчишься от боли при виде торжествующего насилия; когда сохранивших благородство и любовь к Отечеству людей казнят государственные убийцы; когда в судах темнеет в глазах от черной неправды; когда власть с ног до головы измарана ложью и любое прикосновение к ней вызывает чувство гадливости – с безнадежностью приговоренного сознаю я тогда бессмысленность моих бдений. Хотя я давно расстался с мыслью о воспитательной роли литературы – мыслью, придававшей ложную значительность потугам литераторов, возомнивших себя пастырями народов, – хорошим же она оказалась воспитателем, если история человечества представляет собой по преимуществу историю злодеяний, – все-таки нет-нет, появлялся у меня соблазн поверить, что мое повествование об одном человеке, добром до какой-то безумной простоты, до форменного юродства, явившемся в Россию, дабы перевязать ее раны, – направит прочитавшего эту повесть на стезю милосердия, правды и добра. Ему стыдно станет жить прежней, грешной, своекорыстной жизнью; помазанные брением проникновенного слова, у него откроются глаза; и ему невыносимо станет собственное довольство, когда вокруг столько беды. Горьким смехом я посмеялся.
Марк заметил. Папа, это Гоголь. Да? – откликнулся Лоллий. Возможно. У великих все норовят стащить. Но к чему это я, мой милый? Голубые, война, Страшный суд, смрад власти – все смешалось… не буду дальше. Дай подумать. Когда старый человек разговорится, он становится как тетерев на току: никого не слышит, ничего не видит, и тут – Лоллий вскинул руки, словно бы взяв в них ружье, склонил голову к воображаемому прикладу, прижмурил левый глаз и сделал губами: пах! И тут ему конец. Пора завершать. Из жизни, сын мой, исчезло – или закончилось, как и положено всему, что исчерпало свой срок, – нечто главное, почти невыразимое словами, что, собственно, и делало жизнь жизнью, то есть все-таки тайной, что сообщало ей трепет и временами придавало небесные черты. Все стало просто, плоско и пошло. Деньги – товар. Ну-у, папа, протянул Марк, ты как-то мимо цели. О нынешней власти да, я согласен, но не весь же на ней сошелся клин! Подумай о великом мировом оркестре с участием всех звезд, всех сфер небесных, подземного мрака, хаоса – разве мы пишем для него партитуру? Она была написана задолго до нас, я думаю, еще до Адама, и, мне кажется, недолго осталось ждать прощального звука последней трубы. Лоллий глядел на сына с выражением, с каким трезвомыслящие люди смотрят на тех, кто оторвался от почвы и кого игры разума занесли в эмпиреи. Труба трубой, сказал он, но власть способна убить все живое – в прямом и переносном смысле. Если за ней не следить, она превращается в циклопа, пожирающего людей. Лоллий горестно покачал головой. Или это тоска одиночества? Вздох вдовца об утрате милой супруги? Иногда так ясно представляется, что я слышу легкие ее шаги; голос ее раздается – это она ведет свои нескончаемые разговоры с подругой, проклинающей своего мужа, а с ним заодно и всех мужчин; впрочем, она, кажется, умерла; или гремит посудой на кухне и, значит, скоро встанет на пороге и объявит, обед готов. Я поднимаю голову, я вострю слух, я всматриваюсь – но вокруг пустота. Тихо все. Я один. И сердце мое наполняется такой безысходной тоской, что я не знаю – выть ли мне на луну волчьим воем, сочинять ли мрачные вирши, принять ли яд или выпить несколько капель целительной влаги. Склоняюсь к последнему.
Как тебе не совестно, укорил Лоллия Марк. А я? Да, промолвил Лоллий. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Утешение моей старости. Покров моих седин. Опора моей немощи. Но скоро – я, по крайней мере, на это надеюсь – ты наконец соединишься законным браком с Олей, девицей достойной и – что немаловажно – весьма привлекательной. За ваши супружеские труды Бог наградит вас мальчиком Питоврановым и девочкой, его сестричкой; таким образом, у тебя, мой друг, появится семья, в которой я буду всего лишь гостем. Ой-ой-ой, засмеялся Марк, какая печальная картина! Диккенс чистой воды. Одинокий старик приходит согреться у семейного очага. Ты еще добавь злобную невестку, подмявшую под свой башмак твоего сына. Подкаблучные мужья, заметил Лоллий, самые счастливые. Папа, воскликнул Марк, разве ты был под каблуком у мамы? Гм, гм, отозвался Лоллий, вспомнив свои провинности по статье семь и погрустнев. В некотором роде. Я передал Ксении бразды правления и не вмешивался. В необходимых случаях меня призывали. Однако оставим это. За всяким воспоминанием о моей ненаглядной следуют другие, которые пребольно ранят мое сердце. Лоллий прижал руку к левой половине груди. Все мои дорогие вслед за ней приходят ко мне, и перед всеми я виноват. Живые всегда виноваты перед мертвыми, и только тогда получают прощение, когда соединяются с ними в смерти.
Тут Лоллий совершил нечто, повергнувшее Марка в тихое изумление. Он перекрестился – причем не как-нибудь, обмахнув грудь кое-как сложенными перстами, а то и полураскрытой ладонью, а по всем правилам патриарха Никона: сначала твердо уставив три сложенные щепотью пальца в центр лба, затем опустив их на чрево и далее столь же четкими движениями коснувшись ими плеча правого, а потом левого. Совершая крестное знамение, Лоллий произносил: «Покой, Господи, души усопших раб Твоих…» И, уловив изумленный взгляд Марка, объявил, что всегда любил церковную службу, особенно же панихиду с ее проникновенными напутствиями и трогательными прошениями. Он вспомнил. Всякое согрешение, содеянное им словом, или делом, или помышлением, прости… Почему Он должен простить? – спросил он. На каком основании? Так думаем и так живем мы. Здесь по-другому. На основании безо всяких оснований. Потому что благ и человеколюбец', потому что любовь не знает причин; потому что казуальный мир обречен искать причины и выводить из них следствия, а мир божественный открывает объятия. Придите ко Мне, все страждущие, и Я вас успокою. Со святыми, – подумав, добавил Лоллий. Я и не знал, папа, что ты у меня такой богомольный, с подавленным раздражением произнес Марк. Ты сердишься? – кротко спросил Лоллий. Я вовсе не богомольный. Хотя пришла пора налаживать отношения. Он возвел глаза к потолку. С Ним. Представь. Ты давно хотел наведаться к человеку, который должен был сообщить тебе нечто важное, – но не находил времени. Наконец собрался. Тук-тук, я пришел. Ужас проберет тебя до костей, если оттуда скажут: поздно. Тебе, осторожно осведомился Лоллий, ничего такого не рассказывали?., я имею в виду… ну, как бы это. По твоей работе. Долгим взглядом посмотрел на отца Марк и нашел, что за последнее время он ощутимо сдал. Кто-нибудь посторонний, наверное, сказал бы, что для своих без малого восьмидесяти Лоллий смотрится молодцом, но Марк видел, что папа с его осевшими плечами, сутулившийся, с неуверенной походкой, частыми морщинами и слезящимися глазами все более становится похож на обветшавший и покинутый жителями дом. Жалость, любовь, страх охватили Марка, и, взяв Лоллия за руку, он проговорил, никогда так не скажут, потому что никогда не поздно. Вспомни разбойника благоразумного. Не терзай себя. Не бойся воспоминаний. Тебя все простили.
2.
Нельзя утверждать, что после откровений Марка Питовранова, после того как под совершенно невероятным предлогом он отверг идущий из сердечной глубины призыв Оли или, вернее, с немалыми усилиями связав крепкими узами плоть, отложил на неопределенное время свой ответ, их отношения не претерпели изменений. Внешне все оставалось по-прежнему. Они встречались; больше того – чувствуя себя в некотором смысле виноватым – хотя, собственно говоря, в чем он был виновен перед ней? – во имя высшей цели он принес в жертву не только ее, но и свое желание полного обладания возлюбленной, и разве можно это назвать виной? – тут, скорее, роковое стечение обстоятельств – но тем не менее саднящее чувство виноватости овладевало им всякий раз, когда он ловил в ее чистом, трогательном взоре немое вопрошание, – и с двойным усердием окружал Олю вниманием, ищущим взглядом смотрел ей в глаза, спрашивая, а куда бы ты хотела пойти сегодня вечером? а если наступал день воскресный, говорил, можем поехать куда-нибудь, например, в Переславль-Залесский, а хочешь – в Суздаль…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.