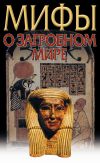Текст книги "Психопомп"

Автор книги: Александр Нежный
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
В Суздаль не выбрались, в Переславль же отправились однажды поутру, в погожий сентябрьский день и, приехав, взглянув на темную синеву Плещеева озера, бродили по городу, от церкви к церкви, от монастыря к монастырю – так что все они в конце концов слились в бело-золотое облако, в один образ вечной красоты, отделенной от окружающего мира своей особой предназначенностью тому единому, что только и имеет значение в преходящей человеческой жизни. И как строги, как требовательны были они к тем, кто входил под их своды, видел пламя свечей, бледное в падающих сверху лучах света, царские врата, изнутри задернутые светлой завесой, и темные лики, словно хранящие какую-то древнюю тайну и высматривающие, кому можно ее доверить. Ты еще не отрешился от соблазнов, спрашивал Троицкий собор, весь белый, с куполом, накрытым посеребренной маковкой; ты еще не освободился от житейских забот, вопрошал пятиглавый Федоровский собор с черной шапкой центрального купола и темно-зелеными на четырех других; и Никитский собор с его неприступно-строгим обликом допытывался, ты еще ищешь радость и даже счастье в быстропреходящей жизни? – так смотри себе в назидание: вон часовня на месте, где тысячу лет назад устроен был столп, в котором в белокаменной шапке и железных веригах обитал раб Божий Никита, прежде своего подвига стяжавший себе неправедное богатство, но затем в ужасе отшатнувшийся от своей греховной жизни, познавший, что все тлен и все прах, что в миру без греха не шагнешь и шага, что радость мирская – туман, счастье – легкое облачко, гонимое переменчивыми ветрами, а богатство – исчезающий по весне снег, и лишь здесь, в тесных стенах темного столпа, в посте, молитве и сокрушении о своих грехах можно сподобиться пути к вечной жизни. Ступай, путник, – но помни, нет к Богу широкой дороги, а есть тропа узкая, все в гору, на пределе дыхания и до изнеможения сил.
Некоторое время они шли молча, пока Марк не объявил, что ошеломлен, растерян и подавлен. Бедный, молвила Оля. Кто тебя расстроил? Я в смятении. Он меня пугает, этот Никита. Я ощущаю холод, сырость и мрак его столпа, голова моя клонится долу под нечеловеческим гнетом каменной шапки, а плечи изнывают от ледяной тяжести надетых на меня вериг. Малярийный озноб пробегает по спине. Наверное, я должен был бы отнестись к нему с благоговением, как та милая женщина, со скорбным лицом прикладывающаяся к его образу и умоляющая об исцелении рабы Божьей Галины, – но столпники, затворники, пещерожители, пустынники вызывают у меня чувство, в котором соседствуют изумление, трепет и страх. Да, страх. Должно быть, я испытал такое же чувство, если бы встретил существо на трех ногах, с песьей головой и щупальцами осьминога вместо рук. Боже, подумал бы я, разве такое возможно? Зачем?! Вот и здесь я не могу объяснить себе и этот столп, и заточившегося в него Никиту, и поклонение ему… Кто его навещает – ангелы ли ему поют райские напевы, бесы ли соблазняют зрелищем веселых пиров и нагих дев с их прельстительными объятиями? Какой силой он превозмогает искушения, тьму, одиночество и стужу? Или другой ему светит там свет, другое согревает солнце и другие навещают его собеседники? И невидимые нами слетаются к нему небесные кормильцы с благоухающим медом и живой водой? Успокою себя: он ненормален. Рассудок покинул его, он утратил ощущения голода и холода, его перестало клонить в сон, и потусторонние голоса денно и нощно нашептывают ему, что он – царь мира, которому поклоняются народы. Разве это новость для нас? Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно… Свой властелин мира есть в каждом бедламе. Но не покидает меня мысль, что он раз и навсегда отрекся от нашего рассудка; что наши представления о человеке, земле и небе кажутся ему невыносимо убогими; что привычные нам ценности в его глазах утратили всякий смысл и превратились в гонимый ветром сор; и что вообще он живет в измерении, закрытом для нас дверью за семью печатями, недоступном и непонятном.
Тем временем они побывали у древнего Спасо-Преображенского собора, прошли по городским валам и по улице Левая Набережная, берегом Трубежа неспешно шли в сторону Плещеева озера. Впереди, как маяк, высилась красно-белая церковь Сорока мучеников Севастийских. Ты забыл о главном, заметила Оля. О чем? О том, что без Бога не было бы ни храма, ни столпа, ни Никиты. Был бы, наверное, человек по имени Никита и со спокойной совестью обирал бы людей, и пировал бы, и веселился грубой своей радостью, и не было бы у него и тени желания надеть на себя вериги и заточиться в столп… Но Бог ему явился и велел все бросить и начать новую жизнь. Марк сказал. То есть это Бог ему велел заживо себя похоронить? А кто же еще, удивилась Оля. Кто, кроме Бога. И не похоронить Он ему велел себя, а жить. Ты же сам сказал: иной, непостижимой нами жизнью. Что-то вот здесь, – он коснулся ладонью своей груди, и здесь, – теперь он дотронулся до лба, – не дает мне всецело поверить. Душа не доверяет вере.
Смотри, перебив его, воскликнула Оля. Какая красота! Он глянул – и обомлел. У самого края берега, оберегаемая от воды полукруглой площадкой, стояла церковь несказанной красоты, под лучами заходящего солнца светящаяся каким-то необыкновенным, волшебным светом, с колокольней, вытянувшейся ввысь, к лазоревому чистому небу с прозрачными, легкими редкими облаками на нем, и будто бы оттуда, с неба упавшая на землю священным красным камнем. Над головой было небо, и здесь, перед глазами, тоже было такое же бескрайнее небо, вблизи берега темное, чуть далее переходящее из густо-синего в алое, а еще дальше сгущающееся в темную сизую полосу. Голова кружилась. Вообрази, если сможешь, тысячелетней давности время, и молодого человека и девушку, с берега глядящих на озеро. Солнце садится. Тихо плещет вода. Он говорит ей. Милая моя. Только с долгим «и». Ми-и-лая. Она откликается. Ми-и-лый. Ты милая моя. А ты мой милый. Мой любимый. Мой единственный. Любление. Любовь. Он всю жизнь ловил рыбу, она пряла свою пряжу. Они жили долго и счастливо – если понимать счастье как непрекращающуюся радость от близости родного человека. Дети выросли. И дети детей.
И еще народились. Рыбацкая слобода приумножилась домами. В Спасо-Преображенский собор принесли из кремля младенца княжеского рода и после троекратного погружения в купель нарекли Александром. Старец наш, отец Пахомий, благословил младенца и, возведя горе слепые очи, промолвил, вот лежит сей на падение многих; а ведунья Матрена сказывала тогда же, что в тонком сне видела птицу белую, похожую на чибиса, но больше, и птица та сначала кружила над озером, а потом села на соборный крест и заговорила человечьим голосом, что будет воин славный, кого и через тысячу лет будут вспоминать и ждать чудес от святых мощей, которыми станет его человеческая плоть. Видишь ли ты Пахомия, Матрену, чудесную птицу? Видишь ли младенца, еще не ведающего своей судьбы? Видишь ли свирепого Ивана? Смиренную Наталью? Бешеного Петра? И двух купцов из Москвы, двух братьев, иждивением которых устроены были Святые врата с над-вратной церковью Никольского монастыря и которые там же, под вратами, были погребены? И чувствуешь ли, как нарастает в душе счастливое и горестное чувство сопричастности былой жизни и непреходящее изумление перед ней, такой понятной и такой непостижимой. О, русская земля. Поистине ты самая большая загадка Бога из тех, которые задал Он человечеству. В какой год твоей истории случился обрыв таинственной и животворящей нити, передающей из века в век сокровенную память о набегах, нашествиях, пожарах, смутах и разорениях, о выстоявшем во всех бедах многотерпеливом народе? Отчего, будто от удара подземной бури, надломилась твоя судьба? Отчего ты ослепла и не разглядела лжи – в искушениях и горя – в соблазнах? Отчего пожелала сбросить с себя ношу царства, не заподозрив, какую каторжную тяжесть принуждена будет тащить на своих плечах? Нравственная твоя сила истощилась. Ты стала рабом нового Вавилона, дивную свою церковь отдала на поругание, священство – на растерзание и оказалась без прошлого, с мучительным настоящим и безрадостным будущим. Светлое Плещеево озеро помутилось от пролитой на его берегах крови. Дьявольская коса принялась без устали выкашивать лучшие побеги русской земли. Чертополох вырос на их месте.
Оборванную нить пытаются связать нечистые руки.
Но не может расцвести подлинная жизнь на земле, в которой лежит неоплаканный прах.
Мне холодно, кутаясь в платок, промолвила Оля. Ужасные ты вещи говоришь. Наверное, это правда, но с этой правдой невозможно жить. А озеро прекрасное? Церковь? Это же чудо. А люди? Да, люди. Ты их обидел смертельно. Ты лишил их права на самоуважение. Как уважать себя, если ты – чертополох? Что ж, с какой-то надменностью произнесла она, я тоже – чертополох? Ми-илая, сказал Марк, обнимая ее за плечи. Цветок ненаглядный. Ты даже представить не можешь, какая Россия утонула в этом озере.
3.
Бывая в Гончарном у Оли, Марк встречал там ее подруг, одной из которых была полная блондинка в очках, звали ее Нина, другая с крупным носом и черными скорбными глазами по имени Тамара, а третьей была Люся, та самая, которая называла Олю «клушей», а в Марке видела расчетливого обольстителя. Нина и Тамара работали вместе с Олей в журнале «Безопасность труда», и обе нервно вздрагивали при упоминании их общего начальника Дудоса. Он садист, с гневом говорила Нина, и Тамара, вспыхнув, добавляла: изощренный. Всякий раз при появлении Марка Тамара и Нина вспоминали о неотложных делах и удалялись, не позабыв, правда, бросить на Олю многозначительные взгляды. В отличие от них Люся и не думала уходить. A-а, недружелюбно промолвила однажды она, окидывая Марка карими, с прозеленью глазами, господин психопомп. Много ли свез на кладбища народа? Все нашли свое место, отвечал Марк. Удивительно, отвернувшись от него и словно бы позабыв о его существовании, продолжала Люся, какие есть странные люди. Ведь это какой-то кошмарный сон, ей-Богу. Человек – кивком головы и неприязненным взглядом она указала на Марка – по доброй воле превратил свою жизнь в проходной двор смерти. Ведь это ни одна нормальная психика не выдержит. Она пыталась закурить, но пальцы ее дрожали. Спички ломались. Марк взял коробок из ее руки, чиркнул и поднес горящую спичку к сигарете. Люся затянулась, раз, другой, стряхнула пепел и сказала: ужас. Бесконечные покойники, венки, могилы, пьяные могильщики… Ты с ними, должно быть, пьешь? Оля вступилась. Марк не пьет. При тебе пока не пьет, сказала Люся. Они там все пьют, и в некотором смысле их можно понять. С ума сойдешь, если не пить.
Б-р-p… Она зябко поежилась. Не с могильщиками, так на поминках, не на поминках, так в похоронной конторе. В каком-нибудь «Небесном саване». Марк засмеялся. Будет тебе, Люся. И Оля сердито сказала, да, Люська, тебя куда-то не туда понесло. Люся ткнула сигарету в пепельницу. А тебя куда несет? Куда ты уплыла, подруга? Сама не видишь. А со стороны – только руками развести. Я давно хотела тебе сказать, но все не получалось. И твой друг мне сейчас не помеха. Пусть услышит. Знаешь, есть люди понятные, а есть непонятные люди, темные. Вот с такими не дай Бог. Он темный, этот твой гробовщик. И чем, уже с несколько натянутой улыбкой спросил Марк, я непонятен? Да всем! – злобно откликнулась Люся. Чего ты ходишь? Чего кружишь, как ворон черный? Еще не все высмотрел? Не все рассчитал?! А работа? Мне так и чудится – она повела ноздрями тонкого носа – могилой здесь пахнет… Люська! – крикнула Оля и хлопнула ладонью по столу. Прекрати немедленно! Или… А что или? – подхватила Люся. Ты меня, лучшую твою подругу, ты меня выставишь?! Ты одна была, я за тебя переживала, а теперь я за тебя боюсь. Марк спросил мрачно. Я что – похож на злодея? Люся смерила его недобрым взглядом. Один в один. С виду не скажешь, а подумав, очень даже может быть. Не тот сейчас злодей, кто с топором, а тот, кто с цветочками, прогулочками, и ах-ах, наконец-то я встретил. Тут, подруга, на чувства расчет, на твое глупое сердце, на твою неразумную голову. Послушай, теряя терпение, произнес Марк. Ты это серьезно? Серьезней не бывает, отвечала Люся и, прикуривая, обожгла пальцы и со словами: «Черт бы тебя побрал» отбросила спичку. Скорее всего, она хотела, чтобы черт забрал не столько спичку, сколько ненавистного ей Марка. Что-то в ней было не так, в этой Люсе, но что именно, понять пока он не мог. Больна, быть может? Он внимательно посмотрел на нее, отмечая какую-то сероватую бледность, красные пятна на скулах, крашенные кирпичной краской губы маленького рта, узкий лоб с выступившими на нем бисеринками пота. Она ответила ему враждебным взглядом и попросила у Оли воды. А чая? – предложила Оля. Нет, ответила Люся. Воды дай. Она, не отрываясь, выпила стакан воды, со стуком поставила его на стол, передохнула и сказала, вот так. И не надо на меня пялиться, обратилась она к Марку. Не в музее. Я бы тебя сто лет не знала. А ты прилип и не отлипаешь. Видеть не могу, как ты ее… обижайся, не обижайся, мне плевать… как паук, ты ее своей паутиной. Я и злодей, с усмешкой сказал Марк, едва сдерживая себя, чтобы не заорать, ну и дура же ты! я и паук. А! Еще и ворон. Не слишком ли. В самый раз, ответила она. Люська, умоляюще воскликнула Оля, ты в своем уме?! Вполне, сказала она. О себе подумай. Пошевели мозгами. Когда будешь локти кусать, вспомни, я тебе говорила. Она ушла, громко стуча каблуками. После ее ухода некоторое время им было неловко смотреть друга на друга, пока наконец Марк не взглянул на Олю, она – на него, и они невесело рассмеялись. Какая муха ее укусила, пробормотал он. Оля пожала плечами. Лучшая подруга, самая близкая. Ты не обращай внимания. Ты будь великодушен. Ты ведь не злопамятен, нет? На нее что-то нашло, говорила она, просительно глядя на Марка своими темными, прекрасными глазами с их светом доброты, мягкости и любви. Обиделась, может быть. Я только не понимаю, за что. Или думала, я ее жить к себе позову. Она снимает где-то в Бирюлево, и ей там ужасно не нравится. А я, и Оля виновато улыбнулась, не зову. И она думает, из-за тебя. Вот и несет чепуху про тебя, твою работу. Она не знает… И ты не знаешь, сухо сказал Марк. Она с удивлением взглянула на него. Я?! Да, с той же сухостью промолвил он. А что ты знаешь? Ты знаешь мое сокровенное, мою тайну ты знаешь. А что там вообще… Он махнул рукой. Там такое страдание, такое равнодушие, такой жуткий смех! Где-то я читал… Он потер лоб ладонью. Дай Бог памяти, моя бабушка говорила. У какого-то немца замечательного. Не помню. О камнях, которые не что иное, как застывшие слезы; о горах, иные из которых окаменели от ужаса при одном только взгляде на человека. Ты не знаешь, и ты представить не можешь, что со мной было, пока я не привык – если к этому вообще можно привыкнуть. У меня душа разрывалась от того, что человек мертвый – уже не человек, а бревно – безмолвное, бездыханное, безответное, тогда как в нем еще горит невидимый бледный огонь и еще совершается неслышная таинственная жизнь. Я думал, я не выдержу. Он говорил словно бы высохшим, ломким, не своим голосом, сознавая, что не следует ей знать даже немногое из того, с чем каждый день сталкивается он, – но эта Люся с замечательной точностью угодила ему в самое больное место. Тяжелый ком заполнил грудь и потеснил сердце. Что мне было делать? Закрыть глаза? Заткнуть уши? Не обращать внимания на глумливые прозвища вроде арбуз[34]34
Покойник с запахом (жарг.).
[Закрыть] или шашлык[35]35
Обгоревшее тело (жарг.).
[Закрыть], или барбос[36]36
Покойник с заросшим лицом (жарг.).
[Закрыть] и убеждать себя, что этот юмор, пусть черный, спасает людей – как предохранитель, оберегающий от короткого замыкания? О да. Ладно, ладно, поднял он обе руки, словно показывая, что сдается. Пусть юмор. Пусть доктор, докурив, скажет, ну, пойду к этому заливному блюду[37]37
Труп крупной женщины (жарг.).
[Закрыть]. Пусть санитар, позевывая, отправится делать морду[38]38
Наносить грим на лицо покойника.
[Закрыть]. Пусть похороны кому в горе, а кому в прибыль, и пусть среди черных ангелов из уст в уста передается история о сказочно удачливом их собрате, срубившем миллион на путешествии мертвого тела из Владивостока в Москву. Ладно. В конце концов, нельзя предъявлять к действительности заведомо невыполнимые требования. Но я требую уважения к покойнику. Где оно? Где сочувствие к трудам, которыми трудился он, пока ему светило солнце? К тому, что пришлось ему пережить в этой тягостной жизни? Где понимание предстоящих ему страшных испытаний? Где, наконец, священный ужас перед таинством смерти? Он схватился за голову. И бежал бы, и выл бы в тоске, будто изгнанная из дома в лютый мороз старая собака. Я иногда представляю, медленно проговорил Марк, что я… Он прервал себя на полуслове. Впрочем, с болезненной усмешкой сказал он, зачем об этом. Как хочешь, с обидой произнесла Оля, и на ее глазах выступили слезы. Я понимаю, Люська тебя достала, но я ведь не виновата. А ты. Он накрыл ее руку своей. Не сердись, мой ангел. Она просияла. Разве я сержусь? Разве я могу на тебя сердиться? Ты думаешь, я не вижу, как тебе трудно? Мне надо было бы, пристально глядя на нее, сказал Марк, родиться и жить в Древнем Египте. Она робко улыбнулась. До нашей эры? Он кивнул. Там чтили мертвых. И я… Кем был бы я в прекрасном древнем мире, проникнутом благородством, не знающем пошлости, торжественном и цельном? Я был бы жрец храма Озириса, великолепного храма, окруженного рощей из трехсот шестидесяти пяти деревьев, бога возрождения, царя загробного мира, великого бога смерти и воскрешения, убитого и воскресшего, но отвергшего земную жизнь и ставшего повелителем мертвых; я был бы посвящен в таинства и мог бы по собственной воле освобождать мою душу – Ба – от моего тела – Сах – и отправлять ее в странствие по мирам иным, во времена минувшие, в седую древность, и в столетия будущие. О, с каким негодующе-скорбным чувством увидел бы я нашу жалкую жизнь и подумал бы с горечью, разве не для просветления даны были человечеству эти пять тысяч лет? не для торжества над злом? не для того, чтобы устроить на земле царство любви? насадить на ней вечно цветущий сад? где это все? отчего я вижу повсюду насилие, ложь и жестокость? зачем нужны человеку чудеса полетов по воздуху, огромные корабли, варварские скопища домов? Когда внешнее совершенствование жизни подменяет ее духовный рост, это означает, что за тысячи лет мир пал так глубоко, что у него почти не осталось надежды вернуться к первоначальной чистоте. Я подумал бы также, что люди, которым неведомо почтение к своим мертвым, никогда не будут счастливы. И с каким облегчением возвратился бы я на берега Нила, в свой храм, где я узнал тайну смерти и прикровенными словами рассказал о ней тем, кто способен ее вместить. Неусыпным взором следил бы я, как готовят в переселение в царство мертвых первую оболочку человека, его Сах, в то время как другие путешествуют среди звезд или до дня похорон пребывают на Солнце. Напрасно вы, люди нынешнего века, полагаете, что вам известно, что такое мумия. Бездуховное превращение тела Ленина в сохраняющую его черты оболочку наносит невосполнимый ущерб мирозданию, а самого Ленина обрекает на вечные мучения. Ибо мумия сохраняет Сах для того, чтобы приготовить человека к вечной и блаженной жизни на Полях Тростника; к жизни, слышите ли вы, а не к бесконечному умиранию на глазах праздношатающихся зевак. С благоговением создавайте мумию, говорю я вам, о искусные мастера, ибо вы снаряжаете покойного в трудный путь; с любовью уснащайте мертвое тело благовониями; наполняйте миррой; оборачивайте в тончайший виссон, ибо так оно станет неподвластно времени, разрушению и забвению. В гроб с ликом Озириса на крышке положите его; и, прикоснувшись священным жезлом к божественному образу, я отверзу уста умершего, дабы мог он сказать на загробном суде: пусть ничто из того, что лживо, не будет произнесено против меня пред ликом великого бога, владыки Запада.
Пять тысячелетий, с отблеском ужаса на лице промолвил он и, словно не веря себе, покачал головой. Ты веришь, спросил он Олю, что это было? А может быть, шепотом, как тайну, высказал он, я и в самом деле там был? Ей стало не по себе от его застывшего взгляда. Где? – словно завороженная, едва промолвила она. На берегах священных Нила. И точно так же мучила меня там мысль о прошлом, о жизни, которая отцвела, оставив после себя древние камни и могильные курганы. Болезненно поморщившись, он снова потер лоб. Голова раскалывается. Оля встревожилась. У меня анальгин. Примешь? Нет, он сказал. Таблетка не поможет. Зажгу фонарь и поищу изумруд смысла во всей этой исполинской горе мусора, которая называется историей. Глас вопиющего в пустыне: где вы, ушедшие во тьму народы? Где великие люди, светочи ума, ангелы милосердия, безжалостные полководцы, ужасающие тираны? Где царь Соломон, мудрейший из мудрых? Перикл, при котором расцвели Афины? Другие цари, властители и президенты? Могут ли они, уходя, сказать о себе: я истребил бедность, изгнал голод, покончил с несправедливостью, разрушил темницы и обогрел сирот? Нет, не могут. Бессмысленна была ваша жизнь и пуста смерть. Слышите ли вы, как смеется над вашим величием судьба?
Скажи, помолчав, вдруг спросил он, а твоя Люся не балуется ли дурью? Дурью? – переспросила она. Ну, наркотики. Какие-нибудь колеса, может быть. Капельки. Кокс. С горячностью и даже с возмущением ответила ему Оля. Ты что! Ты на нее все-таки обижен, и тебе кажется. Она хорошая, Люся, ну, может быть, резковата, несдержанна, невежлива была с тобой, но поверь, она совсем не такая, правда! Ей живется тяжело. И выглядит она плохо, я согласна, но только никак не связано с этим, я тебя уверяю. Марк сказал. Хорошо. Забудем.
4.
В разном состоянии сошлись вечером в родном доме отец и сын Питоврановы, Лоллий и Марк. Если Лоллий пребывал в отличном расположении духа и всем своим видом напоминал человека, обласканного жизнью, то Марк, напротив, был угрюм и задумчив. В чем дело, сын мой? – спросил Лоллий, отеческой рукой походя взлохматив сыну голову. Марк оставил чашку вечернего чая не-
допитой и, глядя в стол, пробормотал, что жизнь, папа, иногда преподносит. Лоллий незамедлительно согласился, но прибавил, что иногда мы получаем от нее подарки, заслуженные или незаслуженные – другое дело, и вообще, это крайне непростой вопрос, прямиком приводящий нас к проблеме мировой справедливости, которой, как доподлинно известно, нет и не может быть. Сколько людей надо было ограбить Господу Богу, чтобы создать одного Пастернака. Марина Ивановна права. Я мог бы дать свидетельские показания о том, как меня обобрали почти до нитки. Но, несмотря на это… Лоллий умолк и пристально поглядел на сына. Что все-таки случилось? С прекрасной девой вышла ссора? Это неизбежно, закономерно и сулит вам неземную сладость примирения. Мы не ссоримся, ответил Марк. Скучные люди, сказал Лоллий. Что за любовь без размолвок, взаимных обвинений, битья тарелок, воплей, угроз разрыва – и последующих за этим клятв в любви и верности и мольбы о прощении. Кто не прошел через это, тот не любил. Ничего, утешил сына отец, все образуется. Марк вяло кивнул. Но вот, бодро проговорил Лоллий, интересное, между прочим, сообщение, которое, может быть, выведет тебя из твоего сумеречного состояния. Речь о подарке, а точнее говоря, о даре, который – возможно! – тьфу, тьфу, тьфу! – изобразил Лоллий три плевка через левое плечо и вдобавок постучал по столу – будет вскоре преподнесен на блюдечке с голубой каемочкой.
Эти пролегомены он произносил в комнате, именуемой в их доме «большой», в центре которой стоял круглый стол, за которым в лучшие времена усаживалось и десять, и двенадцать человек, и бабушка на почетном месте со своей неизменной, напоминающей балерину тонкой хрустальной рюмкой, а сейчас за остывшей чашкой чая сидел один Марк, со стены же на отца и сына смотрела бабушка, опустившая отекшие руки на рукоять палки, глядел дедушка Алексей Николаевич, воин-победитель, с двумя орденами Славы, Красной Звездой и пятью медалями, дедушка Андрей Владимирович со строгим профессорским прищуром и Ксения с ее чуть тронувшей губы тихой улыбкой, которую так любил Лоллий. Ему казалось – особенно в те минуты, когда он делал два-три глотка из заветного сосуда, завинчивал крышечку, но, поразмыслив, прикладывался еще раз, после чего его воображение седлало Пегаса и уносилось в заоблачные выси, а мысли обретали особенную четкость и глубину, – казалось ему, что вечерами все они собирались за столом, и бабушка, хмурясь и качая головой, говорила своему мужу-орденоносцу, что все дурные привычки Лукьян унаследовал от него, каковое обвинение Алексей Николаевич отметал решительным движением руки и утверждал, что всему плохому Лукьян научился в редакциях, где правили бал огульная насмешка, легкомыслие и пьянство; профессор Андрей Владимирович благодушно попыхивал трубкой и напоминал, что они удалились из жизни и, значит, их не должны волновать дела давно минувших дней; с горьким недоумением припоминаю я, к примеру, стоившее мне предынфарктного состояния мое честолюбие, уязвленное тем, что профессора Твердохлебова наградили орденом Трудового Красного Знамени, а меня всего лишь Знаком Почета; правда, я вскоре получил кафедру, а Твердохлебова прокатили, чему я был безмерно рад; Бог мой, мне так жаль; все это так ничтожно; мне следовало бы жить иначе, вслушиваясь в сердце и не очень доверяя разуму, и тогда моя жизнь просияла бы светом и радостью, как омытое дождем весеннее небо, а не казалась бы таким скучным и серым облаком; и вообще, милейшая Анна Александровна, ваши бесподобные котлеты остались одним из лучших моих воспоминаний; и Ксения любимая, не отрывая восхищенного взгляда от Марка, говорила, совсем, совсем мужчина; Лоллий, а почему он до сих пор не женат? Созревает, успокаивал ее Лоллий. Скоро.
Марк спрашивал. Что – скоро? Папа, ты с кем говоришь? Сам с собой? А! – хлопнул себя по лбу Лоллий. Не обращай внимания. Отвлекся. Итак. Вчера в Литературном доме, за столом, надо признать, умеренным, все-таки возраст, как справедливо заметил прозаик Д., опечаленный недавней кончиной своей пятой по счету жены, по какому случаю ему было выражено соболезнование и выпито молча, стоя и по всей, после чего поэт К. со всевозможной деликатностью напомнил нашему скорбящему другу бессмертные строки, и может быть, на мой закат печальный, ну и так далее. Слезы выступили на его голубеньких глазках. Блеснет она тебе улыбкою прощальной, заверил он прозаика, и мы с критиком Ж. подтвердили, что все может быть. Со своей стороны прозаик Д. признался, что начал подумывать о своем будущем. Есть у него на примете одна привлекательная особа, с которой он был бы рад заключить брачный союз, но она непозволительно молода. Сколько ей? Д. уклонился от прямого ответа. Молодая. Сия тайна велика есть, едко заметил поэт К. Ей хотя бы исполнилось восемнадцать? Или Гумберт истинное имя твое? Между нами, склонив плешивую голову, открыл наконец Д., пропасть в сорок три года. Тишина наступила. Умолкли все. Критик Ж. начертал на бумажной салфетке столбик: из 77 лет прозаика Д. он вычел 43 и получил 34. Тридцать четыре, объявил он. Правду говоря, я ожидал более юного создания. Мои собратья тоже были несколько разочарованы результатом, но с тем большим воодушевлением поддержали Д. в его матримониальных намерениях. Ты крепкий мужик, наперебой говорили мы. Тебя закалили моря, которые ты избороздил, прежде чем приплыть в литературу. Ты скала. Ты океан. Ты Посейдон собственной персоной! Писатель в тельняшке. Ладно, ладно, отвечал нам прозаик Д., смеялся короткими смешочками: г-ы, г-ы, и на приятном лице его появлялись благодушные морщины. Тьму примеров привели мы ему, укрепляя зреющее в его сердце решение. Вертинский с его восемнадцатилетней Лидочкой, а самому было за пятьдесят, гимнюк Михалков, бывший почти на полвека старше своей второй жены, Кончаловский, Табаков… Имя же им – легион. Вперед, воскликнул поэт К., и горе Годунову! Но не забывай о правильном питании. Гранатовый сок по утрам. Мед с орехами. Кальмары. И ты будешь о-го-го! Твоя молодая будет приятно поражена. Г-ы, г-ы, отозвался польщенный всеобщим вниманием прозаик Д.
Он же, заметно порозовев, – а в иные годы после литра становился красен, как рак, и путался в обстоятельствах места до такой степени, что однажды забрел в чужой подъезд, где тщетно искал свою квартиру и, не найдя, лег спать на площадке между четвертым и пятым этажом, не забыв, однако, снять башмаки и аккуратно поставить их возле себя, – сообщил нам о затеянном им романе листов этак в сорок. Все насторожились. Сорок листов! Экая глыба, первым откликнулся критик Ж., экий матерый человечище! И Лоллий вздохнул не без зависти, с горьким чувством вспомнив свое, давным-давно начатое и еще далекое от завершения творение. И поэт К., подавшись вперед, спросил с неподдельным интересом в голубеньких, слегка мутноватых, как у котенка, глазках, о чем же будет эта Илиада? Это второй вопрос, отозвался Д. Однако. Если этот, самый главный вопрос второй, то извольте, милостивый государь, сообщить нам, каков же первый? Прозаик Д. потер друг о друга большой и указательный пальцы правой руки – жест, понятный даже в Занзибаре. Ж. вскричал. Ты заключил договор?! Дрогнувшим голосом спросил поэт К. И получил аванс? Терзаемый разнообразными чувствами, Лоллий не мог произнести ни слова. Нет, отвечал прозаик Д. Все вы, несколько свысока промолвил он, мало что смыслите в реалиях сегодняшнего капиталистического общества. Скажите мне, кто на Западе поддерживает литературу? театр? вообще – искусство? Может быть, государство? О нет. Зачем государству искусство? Меценаты, догадался Лоллий. И в России когда-то, с печалью добавил он. Фонды! – воскликнул критик Ж. Верно, кивнул Д. Поэт К. с печалью сказал, что он написал год назад в Фонд Ельцина, так, мол, и так, нахожусь в стесненных обстоятельствах, готовлю новую книгу стихов и буду признателен за поддержку. И что? – заранее зная ответ, спросил Д. Поэт К. поставил правую руку локтем на стол и затем резко разогнул ее, чуть не сбив бутылку, в которой оставалось, правда, чуть на дне. Вот вам! Они, суки, даже не ответили, Танька с Валькой. Вот! – с торжеством воскликнул Д. Ты с улицы, никто за тебя слова не замолвил, книг они не читают – зачем тебе отвечать? Кто ты такой? Деньги тебе давать зачем? Дверь надо знать, в какую постучать, и волшебное слово, чтобы она отворилась. Ты хочешь сказать, что знаешь эту дверь и это слово? – с недоверием и слабой надеждой спросил Лоллий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.