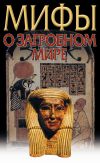Текст книги "Психопомп"

Автор книги: Александр Нежный
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 35 страниц)
Несмелый голос раздался позади. Я знаю, что нарушаю здешний распорядок… Обернувшись, Гавриил выговорил обратившемуся к ним обитателю Чистилища. Что ты себе позволяешь? Тебе наверняка говорили при поступлении, что одна дорога отсюда ведет в Рай, а по другой можно скатиться в Ад. Говорили? Обернулся и Марк и увидел перед собой человека лет более чем средних, довольно высокого, слегка сутулого, с небольшой седой бородой и печальным взглядом серо-зеленых глаз. Да нет, отвечал этот человек Гавриилу, я не хочу в Ад. В Ад кто же хочет? Но вот спутник ваш, указал он на Марка, он, мне кажется, живой. Или я ошибся? Не ошиблись, сказал Марк. И вы вернетесь… домой? Марк кивнул. Надеюсь. Умоляю! – воскликнул этот человек. Я ехал… вчера это было или раньше, я пока еще не в ладах со здешним временем… я ехал в издательство… с неловкой усмешкой он промолвил, что на старости лет ударился в писательство и написал книжку о великих протестантах, Лютере, Кальвине и Цвингли… Сам я не протестант, я православный, и более того – священник храма Николая Чудотворца. Три года как за штатом, уточнил он. И уточнил еще раз: был. Марк Лоллиевич! – строго произнес Гавриил. Вы и ваш собеседник нарушаете правила Чистилища. Марк улыбнулся. Но разве в правилах Чистилища что-нибудь сказано о пребывании здесь человека – не покойника? Гавриил нахмурился и промолчал. Но не это меня мучает, и вовсе не из-за этого я обратился к вам, прижав руки к груди, говорил священник. Представьте, я ехал в троллейбусе, мне кажется, совсем недавно, сидел возле окна и, глядя на Москву, думал, каким жадным и хищным стал этот город. Былое очарование Москвы было в ее непритязательности, в скромном, милом ее облике и в мягком сочувственном взгляде на человека. А сейчас? Уже Булат Шалвович не запоет, а я московский муравей. Помилуйте, муравей здесь не жилец. Давно его раздавили – или в бездушных, остекленных пространствах центра, или в навевающих тоску бетонных окраинах. Размышляя так, я не заметил, что задремал, – и во сне умер. Для меня это в высшей степени прискорбно, и не оттого, что умер – все в свой час переселяются из временного своего жилища на постоянное жительство, кто куда, я вот – в Чистилище, а оттого, что без исповеди и последнего причастия. Но сидел я тихо, никому не мешая, привалившись головой к окну, и пассажиры меня не тормошили, не говорили, дайте пройти, не спрашивали, который час и скоро ли Трубная, – и я, бездыханный, кружил и кружил по Москве, пока уже ближе к ночи не взял меня за плечо водитель и незлобиво не сказал, хорош, старик, кататься. Ступай домой баиньки. Голова моя упала на грудь. Эх, сказал тогда водитель. Не повезло. Опять «двухсотый». (Он, наверное, воевал – или в Чечне, или на Донбассе, или в Сирии, куда неведомо зачем отправила его Родина, – всё, согласитесь, войны, не вызывающие трепетного отклика сердца, а лишь горечь, сожаление и гнетущее чувство вины.) В дальнейшем с моим телом обращались безо всякого уважения, как со старым матрацем, который волокут на свалку. Перед тем как раздеть меня и предъявить миру мою жалкую старческую наготу, карманы мои обшарили и вместе с пенсионным удостоверением нашли деньги – двадцать тысяч рублей, которые я копил целый год, чтобы купить новый холодильник. Деньги они взяли себе, взяли крест мой нательный, золотой, подарок пюхтицкой игуменьи Варвары, тридцать лет и три года оберегавший меня, пенсионное выбросили, во мгновение ока превратив меня в бомжа. Умоляю вас: не дайте зарыть меня в общей могиле или сжечь, не дайте совершиться унижению моей честно потрудившейся плоти! У меня дети, два сына, я дам вам адреса. Пусть найдут мое тело, я знаю, так делают: пишут заявление и ходят смотреть невостребованных покойников. Не самое веселое занятие, но что же делать! А когда найдут, пускай положат меня рядом с женой моей, Верой Афанасьевной, ангелом моим несказанной доброты, прощавшей мне мой скверный, вспыльчивый характер, мои крики, обидные слова и метания яростных взоров. Прошу вас сердечно. Неловко мне вас обременять, но попросите моих детей позвать на погребение моего праха отца Даниила, моего друга и священника. Он меня пусть запоздало, но проводит как христианина и как иерея. Как бы я был счастлив, если бы он омыл мое тело, одел, дал бы крест в правую руку, прочел бы у гроба Евангелие и псалмы и затем сказал бы всем, кто пришел меня проводить: приидите, последнее целование дадим, братия, умершему. А меня напутствовал бы трогательными словами: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему, иерею Феодору, и сотвори ему вечную память. Ах, милый вы мой, какая у нас с вами встреча! И где! Сказать – ведь не поверит никто! Диво дивное, промысел Божий. Вас как величают? Марк? Прекрасное древнее имя. Скажу вам, Марк, что я, наверное, совсем недавно прибыл сюда, ибо пока не вошел в вечный покой и не освободился от помыслов прежней моей жизни. Более всего в жизни моей я любил Церковь; но и страдал о ней сильнее всего. Вот вы спросите: а почему, отец Феодор, ты страдал – так, что уже и преставившись и по милости Божьей оказавшись в Чистилище, мятешься мыслью и душой? И я скажу, что Церковь – главное место в мире, она одна сохранила евангельскую истину в ее полноте, она одна представляет собой Христа, она одна в безумном нашем мире подает надежду несчастному человеку. Когда я служил, то, верите ли, при совершении проскомидии меня зачастую охватывал трепет. Как, думал я, – думал, разумеется, потом, а когда вынимал частицы из пяти просфор, когда произносил и сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную Кровь Христа Твоего, – то разве мог я помыслить о чем-то ином, помимо великой тайны преосуществления? И лишь потом я в очередной раз изумлялся тому, что мне, недостойному, дано право призывать Духа Святого, что на меня в эти минуты нисходят божественные силы, во мне прекращается все земное, и я стою перед престолом очищенный от всякой житейской скверны. Дивные мгновения, придающие жизни неистребимый смысл.
Но вот мучительнейший из вопросов: если есть Благая Весть, если есть Церковь, если – слушайте! – нам повседневно сопутствует Христос, сказавший по воскресении Своем: Я с вами во все дни до скончания века, то отчего так жесток и безрадостен мир, почему в громадном своем большинстве человек глух к Благой Вести, и отчего так темна наша жизнь? Кто в этом повинен? Сам человек? Да, он, как ткань – молью, изъеден десятками пороков; он забыл о своем искуплении, о жертве Бога, пославшего за наши грехи на крестную смерть Своего Сына; это не потрясает его, не заставляет сильнее биться сердце, не наполняет душу бесконечной благодарностью; его, как тростинку под сильным ветром, шатает то влево, то вправо; он охотно бежит на манок национального превосходства, превозносится своей будто бы избранностью, своей особостью в сравнении с другими народами… Да чем ты гордишься, несчастный?! Взгляни, в каком сраме ты живешь! Бог дал тебе землю с несметными сокровищами, леса бескрайние, реки полноводные – приложи руки, и вся страна расцветет, как яблоня по весне! А живешь ты между тем в таком убожестве, что сто раз обруганному тобой европейцу стыдно показать твое жилище и твои дороги, не говоря уже об отхожих местах, на которые он глянет – и тотчас лишится чувств. Ты говоришь, что ты православный? Что веруешь в Иисуса Христа? Помилуй Бог, если ты веришь так, как надлежит веровать, если тщишься исполнять все заповеди, из которых первая: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею[70]70
Мк. 12, 30.
[Закрыть], то разве так ты должен устраивать свою жизнь – и сокровенную, и внешнюю?
И прошептал о. Феодор, как бы боясь потревожить Гавриила, с безучастным видом стоящего неподалеку, – тут возникает еще один страшный вопрос: а что же Церковь? Где она? Присутствует ли в народной жизни? участвует ли в ней? или дает о себе знать преимущественно призывами ходить к исповеди, причащаться и соблюдать пост? Это важно, кто спорит. Но есть у нее задача выше и важнее всех прочих: быть человеку поводырем к Христу, наставником жизни, воспитателем, и взыскующим и отзывчивым, и непреклонным и милосердным. Вы сейчас же мне возразите, указав на множество храмов, больших и малых, ныне, как и встарь, оглашающих колокольным звоном русские просторы, на монастыри, которых стало ровно столько же, сколько было их при последнем царе; на почти поголовно крещеный народ; на священников в телевизоре, в школе, в армии, в домах призрения, в больницах; на благодатный огонь, который в пасхальную ночь специальным самолетом теперь доставляют из Иерусалима в Россию, – разве это, скажете вы, не торжество православия. Как бы я хотел этому верить! Ведь и сам бы я вырос в собственных глазах, как человек, причастный великому делу духовного обновления Отечества. А я между тем со скорбью отвечу: избави меня Бог от такого торжества. Плачу и рыдаю, до того мне горько. Да, есть священники, братья мои, которые, возложив руки на плуг, пытаются вспахать окаменелую землю народного сознания – дабы затем бросить в нее семена Благой Вести. Но мало поднимается спелых, полных золотого зерна колосьев – или сухой ветер уносит семена, или умирают они, или склевывают их слетевшиеся к пашне птицы. Скуден наш урожай. Зато вокруг, сверху донизу шум, зычные голоса, звон литавров, гром победы. И, как в страшном сне, видишь – один в праздничном облачении кропит во имя Отца, и Сына, и Святого Духа ракету, чья чудовищная сила грозит разрушением городов и убийством сотен людей; другой с амвона призывает к последней битве за православную веру; третий насаждает в сердцах своей паствы ненависть к тем, кто думает и верует иначе; четвертый рисует леденящие душу картины крушения державы и прихода Антихриста; пятый клеймит Европу, рассадник всяческого зла; шестой – бездуховную Америку; седьмой толкует о патриотизме, повелевающем любить свою Родину, какой бы гадости ни была исполнена она; восьмой бьет в ладоши и приплясывает: Крым наш, Крым наш; девятый… Хватит. Поневоле с тяжелым и горестным чувством признаешь, что нынешняя Церковь – это превозношение перед миром, раболепная покорность власти, обожествление империи как природной формы русского бытия. Мысли мои устремлялись в прошлое, где – чудилось мне – я найду утерянный после советского пленения неповрежденный образ воспитанного Церковью народа. Однако при ближайшем рассмотрении я видел все ту же картину: блеск позолоты снаружи, темнота и запустение внутри. Страшно говорить, но, если бы века жизни с Христом не прошли бы для России втуне, разве Церковь во мгновение ока отреклась бы от государя в семнадцатом году? Разве его судьба, судьба первосвященника, оставила бы равнодушным народ, называвший себя православным? И, может быть, разожженное подлыми руками пламя революции не охватило бы чудовищным пожаром всю Россию? И тяжкую думаешь думу: чего же недоставало России, чтобы принять Христа в свое сердце? Или – кого? Отец Феодор, словно стесняясь, робко молвил: кого-то наподобие Лютера. Скорее всего, торопясь, говорил он далее, мое суждение произведет глубокое смятение в православных умах и вместе с ним и подозрение – нас хлебом не корми, а дай заподозрить в самом искреннем движении души тайную и непременно коварную мысль о какой-нибудь прозелитической скверне, попытке раскинуть сеть и уловить десяток-другой неокрепших душ – хотя у меня нет и тени подобных намерений, и православие мне бесконечно дорого, как первая и последняя любовь. Я говорю о Лютере как о примере личности, которой было бы по силам вырвать русское православие из обрядового оцепенения. Ибо Лютер, давший Небу обет стать монахом, когда по пути в Эрфурт в чистом поле ночью его застигла сильнейшая гроза и все вокруг содрогалось от раскатов грома и на миг вставало из мрака в дрожащем голубоватом свете сверкающих молний, одна из которых вонзилась в землю в двух шагах от него, – он сам стал как молния, сверкнувшая на католическом небосводе и расколовшая его. Век гуманизма и книгопечатания, шестнадцатый век стал веком Реформации, объявившей, что критерием истины может быть только Священное Писание и что нет другого пути на Небо, кроме пути веры.
Марк Лоллиевич, нетерпеливо и строго позвал Гавриил. Нам пора.
Да, да, торопливо проговорил о. Феодор с виноватым выражением в серо-зеленых глазах, теперь последнее, самое последнее. Я вижу, вы неравнодушны… Помните: ничего нет для человека важнее Церкви. А для Церкви нет ничего важнее, чем следовать Христу. У нас, к несчастью, не было своего Лютера. По страстности убеждений и личному мужеству его отчасти напоминал протопоп Аввакум, но готов был он умереть – и сгорел заживо на костре после четырнадцати лет сидения в «земляной тюрьме» – за единый аз, за верность старому обряду, а не за дерзновение промолвить над Церковью – Лазарь, иди вон! Наша Россия – это земля, когда-то обещавшая неслыханный урожай, но засохшая в ожидании благодатного дождя. Ну, все на этом. Прощайте, прощайте. Когда-нибудь увидимся. И умоляю: не забудьте!
Расставшись с о. Феодором, они двинулись дальше узкой, заросшей травой улицей, свернули направо, затем налево, и все такие же стояли по обеим сторонам одноэтажные дома, все так же выглядывали из-за белых занавесок обитатели Чистилища, все так же некоторые из них сидели на крыльце или в креслах, и Марк все с тем же любопытством всматривался в этот странный безмолвный мир. Вдруг показалось ему, что он увидел знакомого. Он замедлил шаг. И точно – это был Саша Нефедов, с которым он дружил еще в студенческие времена. Нефедов, в отличие от него, закончил истфак, учился в аспирантуре, защитился, собрав на свою защиту, наверное, всех московских знатоков Русско-японской войны, женился на однокурснице, рыжей Свете Калугиной, и однажды в архиве открыл папку с документами, приготовил тетрадь – и потерял сознание от кровоизлияния в мозг и через две недели умер, так и не придя в себя. Сейчас он сидел возле своего дома в кресле, закрыв глаза. Марк покосился на Гавриила. Тот отрицательно покачал головой. Подойдя к нему, Марк сказал, это мой друг, можно я его окликну. Ни в коем случае, тихо, с сердитым выражением нежного, как у юной девушки, лица произнес Гавриил. Я не хочу огорчать Его Всемогущество нарушением здешних правил. Хватит! Пойдемте. Марк оглянулся. Саша Нефедов привстал и пристально на него смотрел. Марк помахал ему рукой. Прощай, друг. Я рад был увидеть тебя здесь. Может быть, если Всевышний сочтет, что мое место в Чистилище, мы увидимся еще раз; а может быть, очищенный и просветленный, ты будешь уже в Раю. Прощай, друг мой.
Сожалею, молвил Гавриил. Иначе нельзя. И знаете что? Я не предполагал быть Цербером, удерживающим вас от непозволительных здесь поступков. Мне кажется, сопутствуя вам, я переживаю не менее, чем в те приснопамятные дни, когда я выполнял два особых поручения Его Всемогущества. Сначала, как вы, может быть, знаете, я послан был к Захарии, священнику, – возвестить, что его жена, Елисавет, родит ему сына, которого надлежит наречь Иоанном. Велик перед Израилем будет он, сообщал я будущему отцу; не будет пить вина и сикера, а главное – исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей и приготовит народ предстать перед Господом. Захария выразил сомнение. И я стар, сказал он, и жена моя в преклонных летах. Как сие может сбыться и как я узнаю об этом? Так ясно выразилось в его словах недоверие к правде принесенных мною от Господа слов, что я был немало удивлен. Пришлось мне назвать себя. Я сказал: я, предстоящий перед Богом Гавриил, послан говорить с тобою и благовествовать тебе сие. Дабы убедить тебя, я затворю твои уста немотой – до того дня, когда исполнится слово Господа, которое принес тебе я. Само собой, все сбылось, и на свет в свое время явился Иоанн Креститель, о великой жизни которого и мученической смерти ныне знают все народы. После сего снова был я призван к Его Всемогуществу, и на сей раз Он вручил мне ветку белой лилии и направил в Назарет, к Деве Марии, благовестить Ей, что родит Она сына и наречет Ему имя Иисус. Радуйся, Благодатная, войдя к Ней, произнес я, Господь с Тобою. Дивное Ее лицо озарилось румянцем, и Она едва слышно промолвила, как могу Я родить, когда мужа не знаю? Скромность Ее в сочетании с небесной красотой тронули меня до глубины души. Я сказал – в точности, как повелел мне Его Всемогущество: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.[71]71
Лк. 1,35.
[Закрыть] Се, Раба Господня, потупив взор, отвечала Мария, да будет Мне по слову твоему. Гавриил далее толковал, что и тогда волнение охватывало его; и теперь. Однако если тогда он волновался волнением светлым, радостным, волнением дивным, ибо сознавал, что принимает участие в величайшем событии, когда-либо совершавшемся в мироздании, то теперь, сопровождая Марка, гостя внезапного и таинственного, он испытывает чувство тревоги, так как не до конца понимает, зачем живому человеку прежде времени открывать ожидающее его посмертное бытие. Уповаю на то, что Его Всемогущество знает, что побудило Его распахнуть перед вами двери в Ад и Чистилище. Слушая Гавриила, Марк думал. Верую ли я тому, что он говорит и что написано в Книге? Правда ли, что я не сплю? И в самом ли деле оказался в потустороннем мире? Если так, то сомнений быть не может. Я верю. Я видел, слышал и узнал; Оля же верит, не видев, не слышав и не узнав. Ее вера от непорочности сердца; моя – от желания удостовериться. Вложить персты в рану. Я слишком боялся обмануться и всегда останавливался на пороге; ум требовал доказательств, тогда как вере доказательства не нужны. Есть нечто в душе, что возносит человека выше доводов разума, подсказок опыта, выше застилающей свет повседневности – к зениту неба, к звездам, простору, свободе; к вере. Многие знания иссушают душу и преграждают ей путь, которым она могла бы подняться ввысь. Он усомнился. Так ли? А Паскаль? Войно-Ясенецкий, епископ Лука? И Эйнштейн, и Морзе, создатель азбуки? И многие другие? Свет знания, подумал он, не упраздняет свет веры; напротив: знание – это корень, которым вера связана с человеческой природой. Он вдруг похолодел от внезапной тревоги. Он подумал, я, тайновидец, пересекший запретные границы, вознесенный в миры запредельные, собеседник обитателей Ада, человек, увидевший мучения немилосердных злодеев, безжалостных убийц, жестоких фанатиков, – я узнал столько, что меня не отпустят в мою жизнь. Боже, взмолился Марк, верни меня Оле. Папе моему. Если Ты прикажешь мне молчать – ни слова не скажу о том, что увидел и услышал. Даже Оле ничего не скажу. Тоска сжала сердце; и как раз в этот миг Гавриил с облегчением проговорил, ну, кажется, пришли. В доме напротив отдернули с окна занавеску. Минуту спустя на крыльце показался человек среднего роста и средних лет с мучительно знакомым лицом. Марк пытался вспомнить, где он видел эти светлые глаза, рыжеватую бороду, ровные брови, прямой нос, – и казалось, еще немного, и в памяти всплывет имя этого человека, – но тщетно. Ему на ухо прошептал Гавриил, не узнаете? А ведь это русский царь. Марк взглянул с изумлением – и встретил в ответ доброжелательный взгляд царя. Он, кажется, улыбался. Но совершенно точно: это был Николай II, каким он изображен на многочисленных снимках, которые Марк некогда рассматривал с таким напряженным вниманием, словно хотел получить ответ, отчего так несчастлива оказалась судьба покинутого царем царства. Что сломило Россию и сначала отдало ее в слабые руки Временного правительства, а затем – в беспощадные, цепкие, бесчестные руки большевиков? Явление Распутина? Война? Измена? Но, может быть, еще более щемило сердце при взгляде на семейные фотографии – он, она (всегда со строгим лицом, скрывающим бесконечную душевную муку), четыре девушки, очаровательные своей юной прелестью, и славный мальчик в ладно пригнанной солдатской форме. Мои дети в Раю, сказал царь. Я здесь, в Чистилище, и Аликс тоже. Иногда мы встречаемся. Какой сейчас год? Марк оглянулся на Гавриила. Тот кивнул. Две тысячи пятнадцатый, сказал Марк. Вот как! – невесело улыбнулся царь. Почти сто лет. Верите ли, у меня с некоторых пор было предчувствие, что моя жизнь оборвется внезапно и страшно. Возможно, оно появилось после прискорбного происшествия в Японии. Его звали Тсудо Сандзо, он полицейский, и он хотел меня убить. Ударил саблей. Если бы не Георгий[72]72
Принц Греческий, двоюродный брат Николая II, его спутник по путешествию.
[Закрыть], он бы прикончил меня. Но почему? Мне надо было спросить у него: почему ты решил меня убить? Из ненависти к России? Теперь я думаю, что было бы к лучшему, если бы он меня убил тогда, когда я не был царем, не был женат на Аликс и у меня не было детей. Все в России могло бы пойти по-другому… Возможно, до сей поры стояло бы царство, пусть с Конституцией и ограничениями для монарха, но зато без кровавой смуты, миллионов погибших, плача, стона и горя в растоптанной и униженной России. В конце концов, Конституция – несравненно лучший выбор, чем безграничное насилие и ложь. Мучительна для меня мысль, что причина крушения царства и гибели моей семьи – это я. Из-за меня убили мою Аликс, страдальца Алексея и моих девочек. Погиб и я – но разве может моя смерть принести успокоение моей душе?! Я виновен. Эта мысль терзает меня, рвет в клочья сердце и превращает меня в глубоко несчастного человека. Я рожден быть царем, и я хотел быть царем – но быть царем я не мог. Тяжка была для меня корона. Если бы я осознал это раньше, то согласился бы с ответственным министерством и Конституцией; я бы исполнял свой долг, но уже не на мне, вернее, не только на мне лежала бы ответственность за благополучие царства. Какой смысл обеими руками удерживать самодержавие, если рушится царство? Из памяти у меня не идет записка, поданная мне за полгода до войны Петром Николаевичем Дурново[73]73
П. Н. Дурново (1842–1915) был министром внутренних дел, затем членом Государственного совета, действительный тайный советник.
[Закрыть], в которой с пророческой точностью угаданы были события моего несчастливого царствования – неудачная война, смута, волнения, революция… Она была как письмена, таинственной рукой начертанные на стене дворца Валтасара: мене, мене, текел, упарсин. Исчислил Бог царствие твое и положил конец ему; ты взвешен на весах и найден очень легким; разделено царство твое и отдано мидянам и персам[74]74
Дан. 5, 26–28.
[Закрыть]. Надеюсь, Даниил не ошибся; впрочем, сказано как будто обо мне. И сколько раз я повторял эти слова, подчас едва удерживаясь от рыданий! Теперь, обозревая пережитое, я больше не обращаюсь к Господу с вопросом всякого человека тяжкой судьбы: за что? Вопрос бессмысленный, ибо человек сам по себе есть вместилище грехов; я – не исключение. Можно ли упрекать взыскивающего за них Господа? Послушайте. Вам, скорее всего, непонятен мистический смысл коронования. Между тем его следует понимать как венчание со страной. Она – моя невеста, я – ее царственный жених. Обвенчавшись с Россией, все годы царствования я желал слышать голос моего народа, напрямую – от народного сердца к сердцу царскому. Я хотел знать, благоденствует ли мой народ; не страдает ли от бездушных и корыстолюбивых чиновников; не печалится ли о том, что не может высказать государю свои нужды. Изредка я принимал депутации, которые подносили мне хлеб-соль и уверяли, что народ любит своего государя, молится о его здравии и желает ему во всем благого поспешения. Я был доволен. Но временами мне словно шептал некий голос, что это обман, и я вслед за тем как бы воочию видел протянувшиеся вдоль дороги крепкие деревенские избы, на которые одобрительный взор обращала проезжающая мимо моя прапрапрабабка, Екатерина II. Если бы она велела остановиться, вышла из кареты и пожелала бы зайти в какую-нибудь избу, то непременно обнаружила бы за фасадом пустое место. Избы нет. Вся эта благоденствующая деревня всего лишь искусный и подлый обман. Вот и представавшие передо мной депутации были словно такими же потемкинскими деревнями, которые должны были убедить меня, что крестьяне в поте лица возделывают землю, рабочие стоят у станков и путейцы прокладывают железные дороги к берегам Тихого океана, благословляя Небо, что родились и живут в моей державе. Смутные опасения тревожили меня. С некоторых пор я стал подозревать, что депутации говорят так, как их научили, и что между мной и народом существует своего рода средостение бюрократов и интеллигентов, которое не дает пробиться ко мне слову правды. Все годы моего царствования я пытался разрушить эту преграду и услышать от моего народа ту правду которая помогла бы уберечь Россию от губительных потрясений. И кто помешал бы мне, вырази я непреклонное желание, проездиться по России? Так, кажется, говорил любимый мною Гоголь. Стыдно сказать, но я так и не побывал ни в одной деревне и никогда, сидя в избе, не чаевничал с хозяевами и не внимал их рассказам о своем житье-бытье. И до какой-нибудь, к примеру, Вятки я так и не доехал, не навестил купца Столбова и не потолковал с ним о нуждах России и способах их преодоления. Не бывал в цехах Путиловского завода и не спрашивал у рабочих, как им живется, сколько получают и хватает ли от получки до получки. Нигде не был. Тягостно на душе. Ведь это грех. И если беспощадным взглядом посмотреть на мое царствование, то вряд ли появится желание оправдывать себя пред очами Господа. Проклятая Ходынка, погубившая сотни людей, – и вечером того ужасного майского дня бал у французского посла, который я хотел отменить, сознавая кощунственность шампанского и танцев в соседстве с еще не остывшими телами погибших, но в конце концов уступил уговорам не нарушать торжеств по случаю моей коронации. Девятое января мой тяжкий грех. Но, послушайте, я не мог желать кровопролития; я уехал в Царское, и все совершилось без меня. Я, может быть, принял бы рабочих и этого человека, священника, и ознакомился бы с их пожеланиями… Распутин? Верите ли, я так и не смог ответить, было ли его явление благом, или он пришел из тьмы, чтобы подтолкнуть меня и Россию к гибели. Я верил, что в нем исполнилось наконец давнее мое желание услышать голос из глубины народной жизни, – но, возможно, это было всего лишь мое обольщение. Когда ждешь долго, ждешь с надеждой – нетрудно и обмануться, не так ли? Но напрасно я говорю все это. Какое бы дурное дело ни совершилось в стране, винят прежде всего Государя. Может быть, в обыденном понимании это несправедливо, но в высшем смысле совершенно верно. И если я пытаюсь хотя бы немного оправдаться, то это, поверьте, чисто человеческое желание, недостойное самодержавного монарха. Велика, безгранична его власть – но такова же и ответственность. И не надо спрашивать, кто виновен в проигранной войне с Японией, в назначении бездарных министров, в дурных отношениях с Думой и, собственно, во всем том, что привело сначала к февралю, затем к октябрю, к отречению, аресту, ссылке – к гибели.
Я виноват, тринадцатый император Всероссийский.
Одно время я думал, что помазание будет оберегать меня от всяческих бед и я буду уверенно править преданной своему государю Россией, бесконечно любить мою драгоценную Аликс, растить наследника, которого по молитвам преподобного Серафима даровал нам Господь. Все оказалось не совсем так. Напомню, что я родился в день, когда Церковь вспоминает мученика Иова. Я иногда поражался точности, с какой моя судьба повторяет его судьбу. Он был первым князем земли Уц – а стал последним ее человеком; он был богат – стал нищ; у него было семь сыновей и три дочери – и в одночасье он потерял всех. Не так ли и со мной. Я был царем земли Российской и многих других земель и продолжал трехсотлетнюю династию – а стал гражданином Романовым; был богат – и утратил все; у меня было четыре дочери и сын, и жена – их убили. В бедах моих я даже превзошел Иова. Бог вернул ему все – имя, богатство, сыновей и дочерей; он остался жив, прожил сто сорок лет и умер, насыщенный днями. Мне было пятьдесят, когда меня убили. За три дня до нашей гибели, четырнадцатого июля, к нам, в дом Ипатьева, допустили священника и дьякона – отслужить обедницу. В ее последовании после «Отче наш» полагается дьякону прочесть «Со святыми упокой». А он вдруг запел. И так проникновенно, трогательно и скорбно прозвучали слова этой молитвы, что мы все единым сердцем откликнулись ей и опустились на колени. И каждый из нас почувствовал, что близко, уже при дверях час нашей кончины, время предстать перед Господом и Ему отвечать. Со святыми упокой, Христе, души рабов Своих, идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.
Нас отпели.
Так томительно было желание жить – и так ясно я понимал, что жизнь кончилась.
С упованием на волю Божию я принял и гибель моей семьи, и мою собственную. Но с нелегким сердцем уходил я из этой жизни. Не одни только мои грехи мучили меня. Более всего угнетало сознание всеобщей измены, повального обмана и постыдной трусости, проявленной многими из моего окружения, даже теми, в преданности которых я был совершенно уверен. В конце концов я нашел в себе силы всех простить, кроме генерала Рузского, который подталкивал меня к отречению с такой настойчивостью, словно от этого зависела его жизнь. Несколько месяцев спустя донеслось известие, что в Пятигорске генерала зарубили солдаты. О нет, уже не мстительное, нехорошее чувство ощутил я, какое бы, во всяком случае, в самое первое время испытал бы в земной моей жизни; нет, я пожалел несчастного, омрачившего свою душу изменой. Одно из наставлений преподобного Серафима Саровского особенно любила Аликс. Вот оно: укоряемы – благословляйте, гонимые – терпите, хулимые – утешайтесь, злословимы – радуйтесь,
В дни заточения нам было отведено время для прогулок по прилегающему к дому Ипатьева участку. Алексей еле ходил. Я брал его на руки, прижимал к груди и осторожно выносил во двор. Он шептал: папа, а скоро мы уедем отсюда? Что мог я ответить ему? Скоро, дорогой мой, потерпи. Папа, говорил он, а ты уже не царь? Летом тысяча девятьсот восемнадцатого меня угнетала мысль, что мое отречение не стало спасением России. А иных оправданий ему не было. Брестский мир сокрушил меня, и я опасался, что немцы потребуют моей подписи под унизительным для России договором. И я, и Аликс решили, что этому не бывать. Я всегда буду царем, говорил я милому моему отроку. А после меня – ты. Он спрашивал: а кто же сейчас управляет Россией? Разбойники, хотел ответить ему я, но отвечал уклончиво. Разные люди. Во дворе я усаживал его в коляску и катал по дорожкам, иногда останавливаясь, чтобы сорвать для него цветок или сломать веточку молодой березки. Дитя мое. Как он радовался. И точно так же, однажды ночью, я взял его на руки, и он, еще в дреме, прильнул к моей груди. Внизу я посадил его на стул и встал рядом. На втором стуле сидела Аликс. Рядом стояли наши дочери – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, доктор Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, камер-лакей Алоизий Егорович Трупп, горничная Анна Степановна Демидова. У стены напротив стояли люди с отталкивающими лицами. Один из них, с черными густыми бровями, что-то прочел, держа бумагу перед собой. Я разобрал не все слова, но ужасный их смысл понял и все-таки спросил: что?! Он быстро прочел еще раз, выхватил револьвер, выстрелил и убил меня. Я даже не успел перекреститься. Я умер сразу и не увидел, как двумя выстрелами в ухо добили Алексея и добивали штыками Анастасию, Татьяну и Анну Степановну Демидову. Ее кололи несколько раз – причем с такой силой, что штык, пронзив ее тело, вонзался в пол.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.