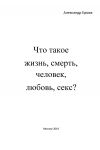Текст книги "Выстрел по солнцу. Часть первая"

Автор книги: Александр Тихорецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Смерть! Сознание сжалось дряблой тенью, словно отступая перед страшным призраком, окаменевшим василиском замершим перед входом в спасение. Всем троим не пройти туда, не пролезть сквозь этот ход, горлышком бутылки опоясавшим далекую лазурь неба, ничтожностью шансов сковавшим душу мертвенным ознобом. Только одному удастся протащить свое бренное тело сквозь рогатки вероятностей, только одному суждено глотнуть воздух по ту сторону заветной черты.
И снова отчаянный, страстный импульс метнулся в кромешном аду сознания, словно эхом, колыхнувшись перед глазами лицами Юрки, Славы, застывшими, врезавшимися в монолит памяти.
Конечно, все это – неспроста. Неспроста этот Слава, и Юрка – тоже неспроста. Только здесь, только сейчас, на самом краю пропасти, коварная судьба дала вкусить настоящей, не придуманной дружбы, дала изведать горячее, обжигающее варево жизни. Дала и тут же вытолкала за двери, в его оранжерейный мирок, предоставив и дальше кичиться мнимыми победами, наслаждаться иллюзиями и мечтать о несбыточном. О том, что вот-вот растает, останется для него недосягаемым уже навсегда, во веки вечные скрывшись за гранью рационального.
Да, конечно, у него уже есть друг – Славка Ермаков, и, хотя, Ленский его предавал, предавал уже не раз, и не два, нить этой дружбы все еще крепка, она все так же прочно связывает полюса их душ. Увы, у него так и не хватило смелости оборвать эту нить совсем, тем самым подтвердив непреложность формулы конвертации, подкинутой ему однажды судьбой и свято соблюдаемой им все эти годы. Не хватило смелости… А может быть, сил? Может быть, дружба с Ермаковым – просто обман, обман, длящийся годы, а иезуитский замысел судьбы в том и состоит, чтобы всегда и везде подсовывать ему суррогаты, искусно выполненными макетами отвлекая его от настоящих целей?
Но, что же делать? Рискнуть? Страшно. То, что грезится в ослепительные секунды прекраснодушия – еще не вполне сущность происходящего, не есть его подлинный смысл. Глупость и безрассудство не так уж и много значат на весах вечности, а вот предательство – совсем другое дело. Это, если хотите знать, единственная валюта, признаваемая ею, полноценная, неоспоримая цена всему, что близко и дорого тебе, всему, что ты почитаешь в этой жизни.
Ради этого даже придуман еще один термин, своей вербальной емкостью даже превосходящий «компромисс», как нельзя более, лучше и обтекаемее разъясняющий смысл этого позорного с точки зрения доморощенных моралистов действия. Жертвовать. А? Чем не словечко? Прямо-таки, интеграл, функция процесса, учитывающая все, даже самые мелкие и незначительные его составляющие.
И пусть теперь эти ханжествующие моралисты и борцы за нравственность сколько угодно талдычат о совести, стыде, душевном покое, это определение напрочь выбивает у них почву из-под ног. Да, и совесть, и стыд – не пустые, дешевые слова, они есть, они вполне себе присутствуют в каждом из нас, и каждый из нас в меру своей адекватности может почувствовать на себе их неоднозначное воздействие. Но их наличие – лишь вопрос комплектности нашего организма, их действие – функционирование приборного щитка автомобиля, отражающего состояние его механизмов и узлов. Они – всего лишь инструменты настройки, лишь индикаторы процессов, происходящих в нас.
Совесть… С чего бы ей болеть, если ты никого не предаешь? Никого, кроме самого себя. Ведь, ты жертвуешь, именно жертвуешь, а не приобретаешь. Ведь, прежде, чем что-то получить, ты что-то отдаешь, причем отдаешь без какого бы то было принуждения, абсолютно добровольно. И отдаешь, кстати говоря, совсем не будучи уверенным в том, что получишь то, что хотел.
Да-да – сначала ты, и только потом – тебе. Вот, в этом-то и вся соль, в этом-то и вся фишка этого процесса, его альфа и омега. Прежде, чем что-то взять, обязательно нужно от чего-то отказаться. И в чем же здесь предательство? Наоборот, лишившись одного, так и не приобретя другое, ты ставишь себя в заведомо проигрышное положение.
Может быть, поэтому совесть тебя и мучает? Может быть, то, что мы называем ее муками или угрызениями – не более, чем сожаления, раскаяние здравого смысла? И, если уж говорить о совести, ведь, то, что ты надеешься получить взамен – наверняка, и есть тот самый душевный покой, о котором на всех углах кричат эти дешевые фигляры? И все твои действия, все твои мытарства – только попытки организовать в своей жизни немудреную гармонию, и кто виноват, что это желание чаще всего совпадает с необходимостью завоевания места под солнцем? Здоровый эгоизм – лучшее лекарство от неудач.
И дело тут не в пропорциях – что дороже, и не в обидах – кому хуже, это, вообще, уже не твоя забота – с какого-то момента всем заправляет старушка судьба. И неважно, что скажут об этом другие, или, что подумаешь ты сам, раз это тебе удалось, значит, все нормально – сделка одобрена, одобрена самой судьбой, а разве есть в этом мире кто-нибудь более важный и авторитетный, чем наша хозяйка?
И не надо измерять все земными мерками, когда играешь с вечностью! Откуда ты знаешь, сколько весят на ее шкале твои поступки, откуда тебе знать по какую сторону от нулевой отметки они легли? Вот то-то.
Так что, не задавай лишних вопросов, действуй в рамках правил, и все – душевное равновесие и преуспевание тебе гарантированы. И не обращай внимания на совесть, в конце концов, это ее работа – фиксировать передачу прав собственности на счастье, и, кроме того, никто не знает, чье благополучие судьбе важнее. И потом, ведь, ты никого не предавал, ты просто сделал выбор, совершил сделку (одобренную начальством, между прочим!), и все на этом, точка.
Так было всегда, до самого последнего дня. До дня сегодняшнего. На этот раз задача посложнее. Потому что, шкала мер и весов сдвинулась, в проекциях обезумевшего времени рассыпавшись миллионами повторений, и предлагаемая жертва стала равноценна ожидаемому приобретению, более того, она этим приобретением и оказалась. И отказаться от сделки нельзя, отказ равносилен смерти, и не предать – значит, тоже погибнуть. Погибнуть самому, под обломками глупого безрассудства погребя три невинные мечты, в колдовском розыгрыше небесной лотереи, выпавшие счастливой комбинацией.
И ты мечешься неприкаянным лучом в царстве кривых зеркал, пытаясь отыскать выход из призрачного лабиринта лжи, и свобода – уже не призрак, она уже живет в тебе полнокровным инстинктом, яркой вспышкой прекрасного мгновения, сильной птицей, замершей в тесном пространстве убогой клетки.
Ленский чуть не застонал, в бессильном отчаянии сжимая кулаки. Что делает с нами страх! В порыве мнимого вдохновения, потворствуя слепой слабости, он ухитрился соорудить целую теорию, лживую, лицемерную, рабскую. Господи, что же делать?
Секунды бежали безостановочным конвейером, смешиваясь в одном стремительном движении. И, все-таки, что-то здравое, что-то рациональное есть в этом. Если принять предательство за единицу конвертации, некий аналог золотой унции, тогда… Тогда… Стоп!
А что, если бросить на кон другое предательство, тоже вполне себе мерзкое и гнусное, равноценное тому, что от него ждет судьба? Да что, равноценное! Значительно более отвратительное, мерзкое и изощренное, такое, что уж, наверняка, его ценность превзойдет ожидаемую. А? Что, если? Ведь, ему выставлен счет, не так ли? И предлагается ему, ни много, ни мало, этот счет оплатить. Вот он и сделает это. Так сказать, расплатится звонкой монетой.
Ленский осторожно, едва дыша, коснулся мыслью своего Солнца, в фокусе чувств колыхающегося под куполом сознания, и сладкая боль сжала сердце. Глаза, милые, взбалмошные, смешливые, губы, руки, тело соткались вдруг жарким воздухом, бесплотной иллюзией ожгли осязание. Ты не сможешь, Ленский! Ты не сможешь!
Сердце рванулось болью, выпрастываясь из скользких лап выбора. Выбор, выбор, везде, куда не кинь взгляд, этот самый, проклятый выбор. Вся жизнь – один большой, нескончаемый, растянувшийся на годы, выбор. Или как там будет у него, в мире философии и терминов? Ах, да – альтернатива. И что ему делать? Что в таких случаях делают? Может быть, кинуть жребий – что важнее, дружба или любовь? Интересно, жребий – от слова жеребец? Все та же детская забава с резинкой. Чей жеребец придет раньше, кто кого предаст первым?
Он стряхнул пелену оцепенения. В конце концов, речь идет о жизни и смерти, так, чего ж он раздумывает?
Время изогнулось вопросительным знаком, замерло, не сводя с него глаз, так, будто впервые увидело его. Секунды беспомощно сбились растревоженными стайками, расползлись бесформенными островками в густой пелене муки.
Сердце пульсировало болью, болью, горячей, надрывной, тревожной было пронизано все вокруг: предметы, звуки, мысли. Словно далекое эхо, действительность долетала до него обрывками голосов, ощущениями, запахами, вялыми, бесцветными каплями растворяясь в страдании.
Может быть, так будет и лучше, лучше для всех. Ну, сколько им еще отведено? Месяц, два, год? Все равно, ведь, ничего уже не срастется. Слишком они разные, слишком велика пропасть между ними.
Неожиданная злость захлестнула его. Нет, черт побери! Это – он, это все – он, его жизнь, его проклятая судьба! И все его сомнения, все его страдания и метания – от этого! И несчастья – тоже оттуда. Несчастья… Разве может нечастный человек сделать кого-нибудь счастливым? Вряд ли. А вот жизнь сохранить – может.
Неожиданное озарение, легкое, светлое, как весенний лепесток коснулось сознания. Да, он так и поступит. Он спасет этого Славу. И Юрку спасет, и себя. Он же счастливчик, приносит удачу. Так, кажется, сказал о нем Дед? Только бы в последний момент не отвернулась судьба, только бы немного удачи…
Бросив на него презрительный взгляд, время заторопилось дальше, выплеснув на пол стайки бьющихся зеркальными спинами секунд.
– Перестаньте орать, – словно чужой, услышал Ленский свой слабый голос, – я знаю, как нам быть…
Глава 21
И снова – скачок во времени, и перед ним появляется бледное, заспанное лицо Ермакова.
– Женька, ты?! – он попытался изобразить радость, но Ленского не могло обмануть чересчур пафосное приветствие друга, он явственно видел, как в мгновенном испуге метнулись его глаза, полные обиды, зависти, злобы.
Ну, ладно – зависть, злоба, но почему Ермаков боится, почему упорно не поднимает взгляд? Может быть, трусость уже стала передаваться воздушно-капельным способом?
Он подавил в себе озноб вымученного остроумия. Времени на психологический анализ было явно недостаточно, и он бросил свой вопрос прямо на амбразуру этих чужих, незнакомых ему глаз.
– Славка, ты поможешь? Мне нужно срочно уехать из города.
– Что, с билетами проблемы? – с готовностью откликнулся Ермаков. – Куда тебе надо?
– Мне нужно завтра быть в Москве, – Ленский не отводил глаз от его лица, – но дело не в билетах. Мне нужно уехать незаметно… незаметно от всех.
Ермаков насторожился, сразу стал похож на хорька.
– Тебя что, ищут? – он опасливо оглянулся по сторонам, будто ожидая, что вот-вот, из-за спины Ленского появится погоня. – Ты во что-то влип?
Ленский улыбнулся. Нет, друг Славка не пропустит ни одного пункта из священного ритуала унижения. Даже не зная ничего, даже ни о чем не догадываясь.
– Да, Слава, я влип, – он постарался, чтобы улыбка его выглядела как можно более непринужденной, – и у меня совсем мало времени. Так поможешь?
– Ну-у… – Ермаков отвел глаза, и в последнюю секунду, в последний миг соприкосновения Ленский успел заметить, что страх исчез из них напрочь.
Вместо него появилось что-то новое, что-то совсем неожиданное. Глаза друга блеснули, словно враз обновившиеся, словно освещенные внутренним светом. Торжество? Злорадство? Ну, что ж, радуйся, Слава, сегодня твой день.
Но Ленский не дал другу насладиться победой. Может быть, потом, когда все закончится, он и поторжествует, но только не сейчас, не в его присутствии. Впрочем, может, все еще обойдется. Может быть, еще удастся спустить все на тормозах? Тоном биржевого спекулянта он произнес:
– Я готов заплатить. Сколько это будет стоить?
Надежда замерла над пропастью, из последних сил удерживаясь в шатком равновесии ожидания.
Ермаков бросил на него взгляд, полный сомнения и тревоги. Конечно, ты прав, Слава! Разве можно теперь верить такому человеку, как я? Тебя всегда настораживала моя удачливость, легкость побед, авторитет, который казался тебе безосновательным. Ты скептически наблюдал за моим бесконечным взлетом, за моими бесчисленными успехами, справедливо полагая, что когда-нибудь истощиться арсенал моего везения, лопнет мыльный пузырь моей удачливости.
И вот теперь, когда такой день настал, ты не можешь поверить в это, тебе кажется, что все происходящее – сон, что, стоит тебе лишь шелохнуться, и нарушиться хрупкая ткань видения, и все рассыплется, все растает, как дым.
Может, ты и прав, наверно, слишком невероятно все это, но надо отдать тебе должное, ты и во сне умеешь выбрать правильную линию поведения. И это абсолютно резонно – победа есть победа, ее плодами надо пользоваться сразу же, не дожидаясь глупых церемоний с никому не нужными речами и бумажками. И, даже еще не до конца поверив объективной реальности, все еще плавая в волнах неизвестности, ты на всякий случай уже прикидываешь сумму контрибуции. Чтобы не продешевить. Чтобы не остаться в дураках.
Ты так долго этого ждал, что твое ожидание давным-давно уже превратилось для тебя в способ выживания, в растянувшуюся на годы войну с миром, который так необоснованно достался твоему другу и, по совместительству, противнику. Ибо дружба – это не что иное, как поединок, и цена победы в нем зависит от того, сколько накоплено в призовом фонде. Твоя ставка была велика, Слава, и ты вправе потребовать оплаты сполна. Чего же ты ждешь? Не знаешь, сколько запросить? Или просто боишься поверить своей победе? Ну же, не стесняйся! Мы же друзья!
– Ну, вообще, есть возможность, если договориться с начальником поезда, – пробормотал, наконец, Ермаков. Жадное, хищное любопытство вдруг вырвалось наружу, плеснулось острым блеском глаз. – А что ты натворил, Женька? Или секрет?
– Секрет. Сколько?
– Ну, так сразу не скажешь. Неизвестно еще, как он к этому отнесется.
– Слава, сколько стоит посадить безбилетника? Я плачу вдесятеро за место.
– Так ты не один?
– Нас двое.
Время замирает, будто задохнувшись во внезапном приступе астмы, и, словно вторя ему, опрокидывая в раскаленную бездну последние бастионы надежды, Ермаков с важным видом вздыхает.
– А-а, ну за это вряд ли кто возьмется. – уже не стесняясь, он оглядывает Ленского с ног до головы, словно желая удостовериться в полном поражении соперника.
А то, что это поражение – сто процентов. Ленский просит, да что – просит! Он торгуется, он готов идти на уступки, и любая назначенная сейчас цена – всего лишь пункт капитуляции, ступенька, с которой он покатится дальше и дальше, вниз, на самое дно своего позора. Он, прославленный счастливчик, кумир и небожитель, недавний предел мечтаний неокрепших умов.
Ленский видит, как в глазах Ермакова загораются огоньки превосходства, огоньки радости и торжества. Уже губы его складываются в ехидную ухмылочку, на лице появляется выражение глубокомысленной усталости. Вот-вот он зевнет, махнет рукой или каким-нибудь иным способом выразит безразличие, тем самым подчеркивая свое главенство, свое господство над ситуацией, и Ленский едва сдерживается, чтобы не закричать, не ударить его, хоть, как-то убрать это выражение спеси, этого глупого, фальшивого высокомерия.
Секунды бегут наперегонки друг с другом, лоскутами его унижения устилая путь к спасению. Сколько все это еще продлится? Неужели этот идиот ничего не понимает? Неужели и на этот раз все придется говорить ему, Ленскому?
Он смотрит на широкое, лоснящееся лицо друга и ему кажется, что это – лицо сфинкса, охраняющего вход в храм победы.
– Видишь ли, Слава…
Брови сфинкса ползут вверх.
– Да?
– Я уезжаю. Уезжаю надолго.
Взгляд из-под ресниц, темный, настороженный. Наконец-то! Кажется, есть вероятность, что можно будет обойтись и без открытого текста.
– И даже, наверно, навсегда.
Робкое, едва заметное движение, взгляд в сторону.
– Я хотел бы попросить…
– Да? – теперь в голосе Ермакова явственно слышится надежда.
Нет, черт возьми, настоящая, искренняя надежда! Так что, неужели, он думал, что Ленский и в самом деле будет с ним торговаться, без конца увеличивая и увеличивая цену, может быть, даже ожидал увидеть его слезы? Неужели поверил придуманной когда-то схеме: раб – господин? Это сколько ж ей лет? Должно быть, с самого детства хранилась в запасниках памяти, небось, и не надеялся уже, что пригодится. Дела…
Словно издалека, запоздалым эхом пришли, качнулись слова:
– А Лена? Это она с тобой уезжает?
Браво, Слава, бис! Неплохо для безнадежного неудачника, измеряющего мир лекалами школьных времен. И, все-таки, не так ты уж и прост, совсем не прост. И как быстро набираешь форму! Прямо-таки семимильными шагами! Вот только не умеешь ты пока еще брать быка за рога, слишком ты еще труслив. Но это тоже быстро проходит, это лечится постоянными упражнениями.
– Видишь ли, Лена остается здесь, – Ленский впивается взглядом в лицо Ермакова, не желая пропустить ни мгновения, ни одного, даже самого крохотного колебания светотени, словно пожитки, упаковывая все в багаж своего падения…
– Вы что, поссорились?
Вот только надо научиться контролировать свои эмоции, во всяком случае, маскировать. Это просто невежливо и безрассудно – так открыто демонстрировать радость!
– Ну, можно сказать, и так, – он видит, как в глазах друга, словно в бешеном, диком танце, мечутся надежда и страх. Ну, а бояться-то чего? Не хватало только еще тебе расклеиться в самый последний момент. Еще в обморок упадешь от счастья…
– Понимаешь, уезжаю с неспокойным сердцем, потому, собственно, к тебе и пришел.
Судорожный всплеск понимания, какого-то заискивающего, проникновенного просветления.
– Ведь, у меня, кроме тебя, практически никого в Городе…
Тень недоверия, тут же, впрочем, сметенная шквалом восторга. Да, Слава, да, ты все правильно понимаешь.
– Кому еще смогу я довериться?
Теперь в глазах – упоение, почти гордость. Неужели он настолько впечатлителен? Может быть, даже, сентиментален? Вот уж, никогда не подумал бы. Хотя, такие комбинации довольно типичны для мелочных натур. Каким-то непостижимым образом в них могут уживаться трусость и великодушие, скупость и чувствительность.
И все равно, грустно, чувство такое, словно потерял что-то, что-то нужное и дорогое, родное и трогательное…
Может быть, оттого, что так и не удалось до конца узнать того, кого он называл своим другом? Может быть, он вовсе и не такой, каким Ленский его себе представляет? Да, черт побери, наверняка, не такой! Однако, что это меняет? Слишком не до того сейчас ему, слишком мало времени остается до часа «Х». Все-таки, не над Славкой нависла смертельная угроза, и не он, распятый на кресте предательства, вынужден всеми правдами и неправдами сохранять вежливое спокойствие.
Странно, он никогда не задумывался: каково это – предавать? Все его предательства до сих пор были мелкими и безотчетными, и больше напоминали детские шалости, на которые окружающие смотрят сквозь пальцы, и которые вполне себе вписываются в рамки однажды придуманного этикета. Сегодня, конечно же, все изменилось.
Вообще, день сегодня какой-то такой – особенный. Все – или впервые, или напоследок. А вот это его предательство – оно какое? Получается, что, и первое, и последнее, так сказать, с почином и под занавес. Под занавес… Хорошо бы!
Интересно, сколько раз сегодня ему казалось, что все кончено? Нет, врешь! Судьба не отпустит тебя так просто, без твердой гарантии исполнения своего плана. Как же можно отнять у тебя сознание, если самое главное унижение – впереди? Хотя, нет, оно уже здесь, оно все время здесь, все время и навсегда. Оно неиссякаемо и неизбежно, бесконечно и неизбывно, и силы тают в поле его могущества, и нет, ни прошлого, ни будущего, и настоящее замерло бессильным мотыльком в его паутине, и вместе с ним замерли чувства и мысли, и только надежда робким светом обещает впереди отдохновение и покой.
А пока пространство плывет тягучей мукой, и слова падают раскаленными каплями, будто кислотой, выжигая в сознании тавро позора.
– Понимаешь, мне, конечно, трудно это говорить, особенно тебе, – быстрый взгляд, ясный, искренний, будто желающий на всякий случай удостовериться во внимании собеседника, – но, мы же друзья, я могу тебе доверять? (Господи, прости!) А у меня и выхода другого нет. Расстались мы с Леной нехорошо, она остается одна, в большом городе, без надежного плеча. Понимаешь? – и снова взгляд, на этот раз более твердый, веский, долженствующий проникнуть до самого сердца.
И как эхо, как ответный сигнал маяка – всплеск понимания из-под коротких рыжеватыхресниц. Не напрягайся ты так, понимают тебя, Ленский, понимают.
И, наконец, вот он – переломный момент, апогей предательства, виноват, жертвования. Все, что было до этого – лишь подготовка, долгие и нудные приготовления, скучные формальности. Только сейчас процесс вступил в финальную фазу реакции, только сейчас он стал необратимым.
Когда же наступает этот момент, момент духовного опустошения, момент эрозии сознания, когда страшная тяжесть соскальзывает в душу, вместе с собой принося разъедающую муку, и совесть, притаившаяся где-то в недосягаемой глубине, вдруг начинает сочиться медленными, жгучими слезами? Вот только что ты был чист перед ней, мог ясно и честно смотреть в глаза своему отражению, и вдруг что-то крохотное, невесомое, какая-то песчинка падает в чашу весов, и мир проседает, паутиной микроскопических трещин расщепляя монолит времени и пространства, реакцией замедленной катастрофы пробуждая в нем тектонические сдвиги.
Словно опытный медвежатник, Ленский шарил в потоке ощущений, пытаясь выхватить ускользающую тень этого неуловимого мгновения, обнаженными нервами уловить малейшие вибрации, вирусом сакральной метаморфозы проникнуть в тайну вечности. Если бы только Ермаков подыграл ему, если бы только подольше продержался в зыбком равновесии неуверенности. Если бы только…
– И ты хочешь уехать прямо сегодня? – с оглушительным грохотом стальная решетка рухнула прямо перед носом, вдребезги разбивая робкий кристалл надежды.
Что ж, винить некого. Какое дело твоему сопернику до твоих интеллектуальных изысканий? Скажи спасибо, что он не брякнул что-нибудь вроде: «Так я могу быть твердо уверен?» или еще чего-то в этом же духе.
– Да, Слава, – Ленский поднял на него глаза, – и вся надежда только на тебя.
Взгляд Ермакова поблек, съежился, мгновенно потеряв резкость и силу, будто улитка, попятившись в раковину. Он наклонил голову, словно чего-то испугавшись, словно в последний момент устыдившись собственных слов.
Ну, что еще? Что за привычка вечно все усложнять, заново перетасовывать уже решенные, урегулированные вещи! Что ж, теперь моя очередь идти в наступление.
– Так я могу считать вопрос улаженным? – Ленский чувствовал, как голос его крепнет, наливается силой и решимостью. Ну же! Ну!
Глаза Ермакова, блуждающие где-то в глубине пространства, неожиданно остановились, словно споткнувшись, взгляд Ленский скользнул вслед за ними, настиг на своем пальце, на перстне несчастного Льва Борисовича.
Ох, Слава, Слава, погубит тебя жадность. Впрочем, может и обойдется? Ты, ведь, только-только привыкаешь к роли победителя. Хотя, с другой стороны, может, так и надо? Может, в этом и заключается сермяжная, она же посконная, домотканая и кондовая? Самый главный принцип жизни – использовать малейшую возможность для ее продолжения, и предательство – самый быстрый и удобный способ, а значит, мы с тобой – в самой гуще процесса.
Что стоит для меня еще одна измена, к тому же измена не человека, а его памяти? Ерунда, капля в море. Но, с точки зрения понятий глобальных – солидный довесок к золотнику первой измены, только что положенному на алтарь спасения. Чтобы уже точно, чтобы наверняка.
Только не стать тебе победителем сегодня, Слава. И никогда не стать. Победитель всегда должен чувствовать границы своей победы, границы, за которой начинается чужое поражение. А ты сейчас эту грань переступил. Слышал что-нибудь про ложку дегтя и бочку меда?
Я предам, Слава, предам еще раз, мне это почти не трудно. Потерявши голову, по волосам не плачут. А вот ты? Как будешь от всего этого отмываться ты? Ладно бы, игра стоила свеч, но, ведь, и это не так. И призом своим, свалившимся тебя прямо в руки, ты толком распорядиться не сможешь. Не сможешь, не сможешь, я это точно знаю, и от этого боль моя и тоска еще сильнее.
И все это оттого, что ты – неудачник, Ермаков. Да-да, дело не в жадности, не в трусости, не в подлости. И, вообще, ни в чем бы то ни было таком. Просто подходит к концу поединок нашей дружбы, а в таких поединках ничьей не бывает. Победитель в дружбе может быть только один, и победитель этот – я. Потому что за плечами у меня пятнадцать лет побед, за плечами у меня судьба, смерть и предательство. А у тебя – ерунда: годы ожидания и несостоявшихся надежд, осколки чужих жизней, пустота. Пустота и темнота. И пусть я уступал по ходу встречи, и пусть сегодняшний день – будто черное пятно на моем Солнце, все равно, у тебя не хватит сил одолеть меня.
Пространство изогнулось усталой дугой, вымученным креном уравновешивая кривизну действительности.
– Смотри, Славка, – чувствуя, как земля уходит из-под ног, Ленский снял перстень с пальца, протянул другу, – вот перстень, этот камень – бриллиант. Я не знаю, сколько в нем каратов, но и невооруженным глазом видно, что он дорогой, очень дорогой. Он – твой, если ты сегодня же переправишь меня и еще одного человека в Москву.
– Т-ты шутишь? – лицо Ермакова как-то странно, смешно съежилось, пошло пятнами. Только-только выстроенная конструкция торжества рассыпалась на глазах.
– Нисколько, – из последних сил Ленский улыбнулся. – Никому другому я не сделал бы такого предложения, но мы же с тобой – друзья. Ну, так что, договорились?
Ермаков замолчал, тупо глядя на перстень. У него был вид оглушенного бобра, редкие волосы прилипли к вспотевшему лбу, в глазах застыло изумление. Как бы наш герой не впал в ступор, а то никакого дня не хватит! Словно услышав его мысли, Ермаков вдруг задвигал головой, будто заржавелая механическая игрушка.
– И ты что, отдашь мне… это? – зрачки его глаз расширились, он шумно вдохнул воздух.
– О Господи, Слава! – Ленский выразительно посмотрел на него. – Тебе, что, может, расписку написать?
– Мне не надо расписки… Мне надо позвонить… Я сейчас! – с трудом оторвав взгляд от перстня, Ермаков бросился из комнаты.
Еще одна тяжесть стотонной глыбой медленно, будто нехотя, ухнула в душу. Интересно, с точки зрения науки, какое из двух его предательств тяжелее?
Через пару минут Ермаков вернулся с мятущимся, красным лицом. Маска сознания собственной значимости и незаменимости исчезла с него, и сквозь пелену стыда, сквозь горечь и отчаяние, Ленский с любопытством рассматривал прежнее, привычное лицо своего друга Славки Ермакова. Нет, все-таки, победа определенно имеет свою пользу и привлекательность.
Ермаков говорил скомканными, отрывистыми фразами, будто задыхаясь, будто боясь куда-то не успеть.
– Все, вроде как, в порядке. Но нужно ехать договариваться, лично.
– За чем же дело стало? Поехали!
– Да-да, конечно! – в глазах Ермакова вновь мелькнул страх. – Чем скорее, тем лучше. – он почему-то воровато оглянулся. – А когда… расчет?
Ленскому враз опротивела роль победителя, стало трудно смотреть в это мокрое, жалкое лицо.
– Во время отъезда, Славка, как только я буду уверен, что все прошло благополучно. – и ясная, быстрая улыбка прямо во влажные, по-собачьи преданные глаза. Как молния, как мгновенное туше острой, свистящей рапирой. А не расслабляйся, крысеныш! До конца – еще ой, как далеко! – Я воспользуюсь телефоном?
Испуганный зигзаг зрачков, моментальная преданно-заискивающая улыбочка.
– Конечно! Пожалуйста!
Условным звонком Ленский набрал номер Юрки Журова, передал ему инструкции для Славы. И набор номера, и разговор прошли как-то очень быстро, почти незаметно.
Он положил трубку, замер, словно завороженный ее округлыми формами, игрой бликов на глянцевой поверхности. На расстоянии нескольких мгновений, нескольких несложных движений, застыл от него призрак Лены, ее дыхание, ее голос, нежный, любимый, родной. Это его последняя возможность поговорить с ней, пока еще эхо измены не докатилось до нее, пока действительность не разбросала их по разные стороны предательства, этой роковой плоскости, словно кривое зеркало, навсегда искажающее любимые черты, изламывающее судьбы. Еще есть время, еще есть шанс.
Сердце рванулось острой болью, взлетело под купол мужества. Ну, же, Ленский! Чего ждешь? Наверняка, этот телефон еще не слушают, наверняка, еще можно. Вот эти кнопки с цифрами, заученной наизусть мозаикой телефонного номера врезавшиеся в память. Это же так просто, так естественно и легко – повторить их здесь и сейчас, несложными движениями вызывая к жизни любовь, наполняя безжизненную мембрану любимым голосом. Сделай! Сделай же это!
О, Господи, если бы ты знал, если бы только мог догадываться, как много раз ты будешь потом плакать от боли и отчаяния, задыхаясь в унижении бессилия, проклиная свою минутную слабость! Если бы ты знал, какие баснословные дары будешь предлагать судьбе за возможность, хотя бы, на один-единственный миг, на одно крошечное мгновение очутиться именно здесь, именно в этой точке прошлого, еще раз ощутить дрожь волшебного прикосновения к утраченному, в шаге от необратимого воскреснув, повернув вспять колесо судьбы!
Но уже легли длинные тени на дорогу, и схватились кружевами изморози окна, и поздно, поздно и бессмысленно смотреть назад, в мерцающую смутными отблесками мглу…
За спиной пыхтел Ермаков, еще не пришедший в себя от неслыханной удачи, истерзанная душа оплывала отголосками унизительного торга, и Ленскому стало тошно от мысли, что придется смешивать милый, родной голос со всем этим.
– Все, – он повернулся к Ермакову, – поехали.
Дальше сон скользит, как по маслу, не отвлекаясь ни на какие мелочи, не останавливаясь ни на секунду. Все промелькнуло, размазалось по ленте времени тонким слоем невнятных диалогов, размытых мыслей, монотонных движений.
Вот он и Славка едут в депо, дожидаются там второго Славу, вот находят начальника поезда. Это мужчина лет пятидесяти, чернявый, хмурый, подозрительный.
Валерий Станиславович (так его зовут) с недоверием выслушивает рассказ Ленского о карточном долге, который якобы повис над ним, о том, как его одурачили местные шулера, о том, как они угрожают расправиться с ним. Он долго крутит головой, теребя черный, как смоль, ус, и вдруг неожиданная улыбка раздвигает его губы.