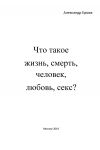Текст книги "Выстрел по солнцу. Часть первая"

Автор книги: Александр Тихорецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
«Итак, можешь поздравить себя. Сегодня ты заключил одну из самых блестящих своих сделок. Ты просто чемпион среди бизнесменов! Кто может похвастаться единовременным приобретением любви, дружбы и детства? Как говорится, три в одном флаконе. И неважно, за какую сумму! Главное – у тебя получилось!
И ничто не шевельнется в душе, ничто не омрачит небосклон. И уже нет ничего неожиданного или зазорного в том, что все это измеряется в деньгах. Хотя, было бы странно, если бы это тебя тревожило. Ведь, по твоему глубокому убеждению все законы в мире – тождественны, чем же не отличается бизнес от дружбы с любовью? И то, и другое – то же самое деловое сотрудничество, всем видам платежей предпочитающее твердую валюту самоотречения. Может быть, в понимании этого и кроется секрет счастья?
Кстати, надо отдать должное и твоему партнеру, который, судя по всему, сообразил это значительно раньше, и чувствует себя при этом довольно неплохо. Да-да, ты не ослышался – именно партнеру, потому что, как еще можно назвать человека, который составил тебе такой классный тандем в партии на сообразительность?
Разве он не разыгрывал свою карту тонко и искусно, выстроив цепь своих недомолвок таким образом, что их логический итог явился для тебя полной неожиданностью? Разве позволил себе хоть одно резкое движение, способное разрушить все хрупкое построение взаимного паритета?
Раскрой глаза, Ленский. Твой Славка – такой же бизнесмен, как и ты, барыга, только что втюхавший тебе просроченный товар. Он так ловко обстряпал дельце, что все за него сказал другой, а ему только и оставалось, что ответить «да». Кстати, может быть, именно поэтому проигравший сегодня – ты?»
Ленский сжал зубы. Все в душе его кричало: ты выиграл! Теперь Лена – твоя! Но в глубине ее, на самом дне, там, где сейчас все должно было лучиться и сиять торжеством, плавал горький осадок. Какие-то смутные сомнения терзали его, томила какая-то вялая, мучительная незавершенность. Что-то он упустил, где-то продешевил, где-то дал слабинку. Да, что это с ним?!
Словно опомнившись, стряхивая с себя вязкую оторопь оцепенения, он обернулся, чтобы все отыграть, чтобы начать разговор заново, обернулся и понял, что опоздал. Дело было сделано. Контракт уже завизирован незримым согласием душ, скреплен печатями сознаний. У Ермакова на лице застыла мина растерянного благодушия, то и дело он заискивающе улыбался, обнажая мелкие, крысиные зубы.
Все, синьор Ленский, все кончено. И все ваши попытки что-то объяснить, скорректировать, изменить, обречены на провал. На глупую, ничтожную возню с элементами быта подворотни и лексиконом коммунальной квартиры.
Словно в кино, зловещая решетка опустилась с грохотом, отрезая путь назад, к чистой, незапятнанной совести, к искренности, к свободе.
Свобода… Да, есть ли она, вообще? Уж не химера ли она, не плод воспаленного воображения какого-нибудь очередного гения, чье имя затерто в жерновах веков и тысячелетий? И равновелика ли она с другой величиной, по имени справедливость, и которая из них важнее?
Впрочем, и та, и другая, как говорится – из одной оперы, неясные, сомнительные, противоречивые. Одна любовь безупречна, одна она бескорыстна, искренна, нетребовательна. Может, потому что она слепа?
Ленскому вспомнилась Лена, ее глаза, ласковые, ироничные, влюбленные, и на душе вдруг сделалось мерзко и отвратительно, так мерзко и отвратительно, что он почувствовал непреодолимое желание немедленно предпринять что-нибудь гадкое, стыдное, непристойное. Что-нибудь несоответствующее его статусу и нравственному облику. Поскандалить, напиться, набить кому-нибудь морду. Кому-нибудь особенно неприятному, со всех сторон гнусному и отталкивающему. Человеку, которого не жалко. Да вот, хотя бы, тому же Ермакову…
Ленский задумчиво рассматривал друга, словно прикидывая в уме, насколько соответствует он параметрам, только что сформулированным кодексом его внутреннего правосудия. Словно почувствовав что-то, тот замолчал, осекшись на полуслове, как-то поджался, с опаской поглядывая на друга. И все-таки, на друга…
Нехотя, скрепя сердце Ленский дал отбой своему порыву. Нет, нельзя. Невозможно. Слишком глубоко проникли в него клише общечеловеческой морали, того, что люди называют порядочностью. Вот, если бы ему сейчас другую мораль, ту, что неизбежно придет вместе с новым сознанием, абсолютно гармонично вмещающем, и свободу, и справедливость, и любовь! Наверняка, тогда он смог бы расплеваться с совестью, сполна расквитавшись за годы и километры вынужденного благопристойного рабства. А пока он должен, он просто вынужден терпеть, сносить все эти уколы, эти издевки судьбы, вволю потешающейся над его душевной импотенцией.
Он сжал зубы… Что ж, подождем. Лучшие времена – не за горами.
Мгновенная вспышка раздражения прорвалась наружу издевательским советом прекратить отношения с приятелем, который привел его в ту злополучную квартиру.
Славка недоверчиво улыбнулся, хоть, и с трудом, но, все-таки, возвращаясь к привычной плутоватой настороженности.
– Ты думаешь, он причастен?
С жалостью и сожалением смотрел Ленский на человека, еще недавно исполнявшего роль его тихой заводи. Неужели и теперь ничего не изменится? Ведь, сейчас – самый подходящий момент для вступления в действие правила трех «ни», когда-то подброшенного ему всплеском остроумия и возведенного им впоследствии в ранг закона. Никто никому ничего не должен. Именно так, ни больше, ни меньше, и эта милая аксиома, словно апогей жизненного кредо, квинтэссенция его идеалов и устремлений, служила матрицей, в которую он рано или поздно укладывал отношения со всеми, встретившимися ему на жизненном пути.
Беда была только в том, что Славка – не каждый, он – друг, и его существование являлось одним из тех краеугольных камней, на которых и зиждилось все хрупкое равновесие этой самой матрицы.
Что делать ему с любовью и дружбой, истощенными друг другом, словно сообщающиеся сосуды, соединенными рвом его одиночества? Отказаться от одного чувства в пользу другого? Разве так можно? Впрочем, будет видно. А пока…
– Почти уверен, – сухо ответил Ленский, вставая из-за стола, показывая, что время аудиенции закончено.
– Так, значит, завтра?
– Завтра. Пока.
Дверь закрылась, оставив его наедине со своим отчаянием. И все-таки, может быть, еще не поздно все переиграть? Извернуться, выцарапать каким-нибудь образом у времени отсрочку, кружевами словоблудия создав себе какое-нибудь нехитрое, внушающее доверие алиби.
Ну, например: а не слишком ли он поторопился, принимая решение? Ведь, не пацан же он, в конце концов, отыгрывать карточные долги своих друзей у разного сброда! Наверняка, это скоро станет известно всему Городу. А? Чем не отговорка? Ермакова увезти куда-нибудь, спрятать, прикрыть, законопатить в какой-нибудь дыре, а самому, тем временем, обдумать все, как следует, разобраться со своими чувствами. Еще раз поговорить с Леной, со Славкой, может быть, с ними обоими…
Мысль петляла в дебрях вариантов, словно от призраков, шарахаясь от собственной тени, изломанными проекциями фантазии, колышущимися в узких коридорах виртуальности. И чем дальше он углублялся в эти лабиринты, чем сложнее и запутаннее становились его рассуждения, тем яснее, тем отчетливее он понимал – все безнадежно и бессмысленно. Бессмысленно воскрешать то, что даже не было рождено, глупо жить без этого.
Он нашел, и квартиру, и людей, обчистивших Ермакова. Ему нетрудно было обыграть их, труднее всего было отрешиться от переживаний, заставить себя действовать холодно и расчетливо. Чуть ли не каждую минуту он ожидал какого-нибудь звоночка, сигнала, знаменующего конец его замечательной, сносшибательной эпопеи. Ему казалось, что уж теперь-то Бог непременно, без всяких сомнений сделает это. Он просто должен, он обязан так поступить, и произойдет это в самый ответственный, самый неподходящий момент. В тот самый момент, в котором сойдутся кривые цинизма и допустимости, словно в бездну, провалившись в пустоту своего экстремума.
Так продолжалось долго, невыразимо долго… И только шорох складываемых в карман Славкиных расписок возвестил об окончании его мучений. И на этот раз Господь пощадил его, оставив все без изменений, и Ленский поспешил покинуть эту зловещую квартиру, казавшуюся ему сейчас каким-то капищем, местом заклания любви.
Трясясь от утренней сырости на сиденье такси, он всю дорогу думал над тем, что же приготовила для него судьба дальше? Он не верил в то, что все закончилось.
Так и вышло. Каким-то невероятным образом Лена обнаружила расписки, о которых он совсем забыл, и которые берег для последнего разговора с Ермаковым. В своих фантазиях Ленский рисовал себе, как швыряет в лицо тому эти ставшие теперь ненужными бумажки, наслаждаясь его растерянностью, разражаясь дьявольским хохотом, однако, ехидная судьба все переиграла. Она немного подправила сценарий, подправила ровно настолько, чтобы, никоим образом не нарушив последовательность событий, поменять местами их участников.
Злополучные расписки она вручила в руки той, которой отводилась скромная роль статистки, и именно Ленский, а не кто-нибудь иной, получил довольно болезненный удар по физиономии. Пострадало его самолюбие, но это было полбеды. Больше всего его поразило то, что Лена, только-только узнавшая все, сумела в мгновение ока разложить ситуацию по полочкам и задать ему вопрос, который с самого начала терзал его совесть немым укором, и который он так и не осмелился задать себе сам:
– Если любишь, почему просто не выкупил эти вонючие расписки?
Далее судьба была не особенно изобретательна. Видимо, она порядком исчерпала свою фантазию, а может быть, и пожалела его, посчитав достаточными мучения последних недель. За первой, самой сильной, вспышкой, последовали другие, менее опасные. Затем состоялась неуклюжая попытка Лены уйти, но тут опомнившийся Ленский, наконец, принял активное участие в событиях, и, как мог, изменил их ход.
Это был последний акт трагедии, и он исполнил свою роль мастерски. Нежным потоком лились его слова, размывая плотины воли Лены, разрушая бастионы ее обид. Он говорил и говорил, сотрясая воздух руладами завораживающего красноречия, перемежая прозу сиюминутными творениями любовной лирики. Даже хищная тварь на его руке, совсем еще недавно взбудораженная, раздраженная, теперь лишь умиротворенно подрагивала.
Но с каждым произнесенным словом, с каждым рожденным эпитетом он чувствовал, как истощается его душа, как вместо нежности и гордости в нее входит стылое, горькое опустошение.
Отголоски его лжи, словно преломившись о невидимую плоскость, вернулись к нему лицемерными перевертышами, уродливыми отражениями фальши, заставляя сердце сжиматься от презрения к самому себе.
Но Лена не слышала, не видела всего этого, пощаженная милосердной судьбой, она была лишена привилегии ясновидения. Околдованная, очарованная, влюбленная, она сдалась.
Она не поехала домой, вместо этого она осталась. Осталась, навсегда привязанная к нему этим сладким шепотом, этим волшебным головокружением, подменившим явь анфиладой сумеречных полутонов, нежным, сладостным видением.
Охраняя сон любимой, Ленский искал и не мог найти то слабое место в своих действиях, что тяготило его своей ускользающей сутью. Снова и снова выстраивал он перед собой кладку оправданий, с какой-то неестественной отрешенностью констатируя собственное мастерство, ювелирную точность, железную логику. Так, откуда же, откуда эта горечь, этот пронзительный сквозняк?
И чем глубже погружался он в воспоминания, тем больше и больше ему начинало казаться, что все кирпичики, из которых выстроен его замок, подернуты мрачным тленом, тленом сомнений, тревоги, обреченности. Выдерни любой из них, и все здание рухнет, погребая под собой, и мастерство, и ювелирную точность, и всех своих обитателей, включая и его самого.
Снова и снова вспоминал он о чувстве собственника, настигнувшем его в тот самый момент, когда те самые злополучные расписки с мягким шелестом исчезали в кармане рубашки, и чувство это, будто логический вывод, непреложный, закономерный итог, венчало всю истинную подноготную всех его рефлексий и метаний, обнажая все его лицемерие, ядом презрения отравляя кровь.
С того дня прошло уже две недели, но презрение не уходило. Оно лишь обострялось, обрастая болезненными подробностями, разрастаясь чувством вины.
Любовь к Лене, вернее то, что он считал любовью, все больше и больше истощало его, иссушая, наполняя сердце тихой мукой трагических предчувствий, и сейчас, сидя в машине и заново переживая все, Ленский снова ощутил знакомые угрызения. Как человек, трусливо лечащий зубную боль таблетками, он тут же почувствовал необходимость загладить вину каким-нибудь быстрым, нетребовательным поступком, пусть даже и самым банальным подарком.
Наивно было даже предполагать, что это что-то изменит, но ступив однажды на скользкую тропу обмана, мы уже не можем остановиться никак, кроме как свалившись с нее.
Он зашагал к универмагу, расположенному неподалеку, и, пройдя всего каких-нибудь сто метров, увидел Юрку Гусеницу.
Глава 16
Гусеница стоял у зеркального окна магазина, будто громадный экран, отражающего немые сцены городской суеты, и кого-то ждал. Иначе, чем еще можно объяснить праздность такого человека, как Юрка? Праздность вынужденную и, мягко говоря, не особенно им приветствуемую, о чем можно было догадаться, даже не будучи с ним знакомым – даже через дорогу хорошо были видны нетерпение, досада, даже ярость, искажающие Юркино лицо. И весь вид его, нервный, взбудораженный, говорил о недовольстве и крайнем раздражении, адресованным кому-то неизвестному, посмевшему опоздать к назначенному времени.
Интересно, кто же этот смельчак? Наверняка, мужчина. Вряд ли с таким лицом можно ждать девушку. Но, тогда, что Гусеница делает здесь, на улице, прямо посреди потока праздношатающейся публики? Его место – за рулем автомобиля, где можно вальяжно развалившись, переключая каналы радиостанций, высокомерно цедить ленивые слова. Или – за столиком уютного кафе, картинно разложив на снежно-белой скатерти телефоны, ключи и барсетку, потягивая из элегантного бокала заграничное питье, происхождение которого подтверждено броской этикеткой стоящей рядом бутылки. Именно так проводят встречи «конкретные пацаны», к которым смело можно причислить Гусеницу.
Правда, с того самого вечера, когда Ленский избил его, он о Юрке слышал совсем немного, но то, что долетало до его ушей, способствовало именно такому умозаключению. Да и внешний вид того говорил сам за себя: короткая стрижка, массивная золотая цепь, телефон на поясе.
Да, неувязочка. С каких это пор «братва» «забивает стрелки» в людных местах? И, ведь, ждет этого человека Юрка, не уходит, стало быть, очень нужен он ему, человек этот. И не может Гусеница ожидать его в машине или кафе, что-то мешает ему соскользнуть в комфортабельную колею привычных правил.
Ленский неожиданно почувствовал укол любопытства. Конечно, его заинтересовал этот таинственный герой, осмелившийся разгневать вспыльчивого Юрку, но заинтересовал исключительно вкупе с личностью бывшего соперника. Именно бывшего, потому что их противостояние давным-давно выдохлось, бесславно и буднично закончив свой век. И произошло это на той злополучной аллее, как раз в тот самый вечер, едва не ставший для обоих последним.
В какой-то момент Ленский явственно, почти физически почувствовал это. Просто случилось что-то, и его противник по имени Юрка Гусеница перестал существовать, исчез, как абстрактная, метафизическая величина, как единица опасности, градиентом потенциальной угрозы маячившая на горизонте сознания. И образ его растаял, как дым, как ненужное, неприятное воспоминание, вместо себя предъявив иного Юрку, незнакомого и обезличенного, таинственного и притягательного, словно белое пятно на географической карте.
Что с ним стало? Какой он теперь, реставрированный и обновленный?
Впрочем, Ленский старался не думать об этом, пряча собственное неравнодушие за стеной своего же напускного безразличия. Да и то, что, постоянно проживая в одном городе, они ни разу не столкнулись, не пересеклись, не зацепились взглядами на его перекрестках, тоже говорило о многом. Значит, рановато еще говорить о новой встрече, рановато ждать новостей. Время открытий, увы, еще не настало.
Но сегодня, видимо, сошлись, наконец, зыбкие контуры вероятностей, и любопытству Ленского, все-таки, предоставлен шанс быть утоленным.
Ленский смешался с очередью за мороженым и время от времени бросал в сторону Юрки быстрые, вороватые взгляды. Внезапное ощущение какой-то робости, смущения охватило его. И, ведь, нельзя сказать, что он испугался этой встречи или чувствует вину перед Гусеницей. В неожиданной сумятице чувств он даже немного разозлился на себя за эту несвоевременную заминку. Какого черта! Нашел время рефлексировать!
Кстати, о времени. Он взглянул на часы. Ножницы стрелок неумолимо смыкались, смахивая остатки теней с мощного тела полудня, и Ленский тоже попытался отрешиться от эмоций, от пустых и вздорных мыслей.
Наверно, все дело в том, что ему не хочется разговаривать с Гусеницей. Вообще, не хочется, чтобы тот замечал его. И дело тут, конечно, совсем не в боязни мести, не в опасении вляпаться в историю, наподобие той, послужившей точкой фатального отсчета.
Какая-то недоговоренность, скрытное, неясное томление пространства, вдоль и поперек стянутого паутиной тревоги, висело на душе смутной тяжестью.
Непонятное поведение Юрки, предстоящая встреча, внезапный уход из дома складывались в цепочку событий, тяготивших его необъяснимой неопределенностью, нервной и зловещей несообразностью.
Если бы можно было как-нибудь разорвать ее, что-нибудь изменить, поменять местами. Было бы лучше, вообще, ни с кем не встречаться, не разговаривать, нигде не задерживаться, а сразу, прямиком из дома ехать к Деду!
Молча, обреченно, словно из призрачного небытия, смотрел Ленский на своего бывшего приятеля и несостоявшегося убийцу, человека по имени Юрка Гусеница. Тот то и дело вскидывал руку, посматривая на часы, что-то бормотал себе под нос. Видимо, этот кто-то сильно опаздывал, раз Гусеница вел себя так.
Ленский прикинул: без двадцати двенадцать. Встречи любят назначать, деля час на ровные интервалы, например, по полчаса, так что, наверняка, этот неизвестный опаздывает уже, как минимум, на десять минут. Непростительная оплошность с точки зрения любого человека, имеющего дело с Гусеницей! Впрочем, вот, кажется, кто-то появился.
Ленский увидел, как заволновался, взбурлил движением неспешный поток отдыхающих. Да, точно. Вот этот кто-то вынырнул сзади Юрки, довольно невежливо хлопнул того по плечу. Смелый поступок! Такое позволено только немногим. Да кто же это, в конце концов? Ленский напряг зрение, даже сделал несколько шагов к проезжей части – теперь уже можно не прятаться, наверняка, в ближайшие две-три минуты Гусеница будет занят встречей. Итак, момент истины. Кто же это? Ба! Да это же Гришка! Гришка Коссой собственной персоной!
Ленский улыбнулся, покачал головой. Вот так встреча! Гришка! Родня по юности, бессменный барабанщик школьного вокально-инструментального ансамбля и легендарный хавбек футбольной сборной центрального района. Когда-то они были не разлей вода, дня не проходило без встречи, и адреса, и номера телефонов, и дни рождений друг друга помнили наизусть. Однажды Ленский даже спас Гришке жизнь, в последнюю секунду вытащив его со дна реки, открыв этим, как казалось, перспективы прочной многолетней дружбы. Но правило трех «ни», тогда еще не сформулированное, еще витающее в пространстве смутной тенью, и тогда действовало безотказно, разбросав их пути-дорожки в суматошном трафике судеб.
Прошли годы, изменился мир, и Ленский теперь – бизнесмен и законопослушный налогоплательщик, а Гришка – бандит и работает на главу преступного сообщества по кличке Кабан, в незабвенные школьные годы тоже ходившего в приятелях Ленского.
Но, что может связывать Гришку с Гусеницей? Гришка – правая рука Кабана, а Юрка – давным-давно прибился к группировке Мороза, такого же мафиози и, по совместительству, давнего и непримиримого противника Гришиного патрона. Странно все это. Еще более странно, что у них явно есть, о чем поговорить, и они это обсуждают открыто, прямо там, на тротуаре, среди сотен зевак, проходящих мимо. Значит, не опасаются? Или слишком торопятся?
Ленский жадно всматривался в искаженные расстоянием лица бывших приятелей, пытаясь связать хаос мимики, движений губ, жестов в связную конструкцию диалога, но растревоженные мысли скакали белками, словно в дупла, ныряя в непроницаемые лабиринты сознания.
Уже давным-давно, где-то далеко, вовсю трезвонил беспокойный будильник, напоминая о Льве Борисовиче, о назначенной встрече, и Ленский все слышал, все понимал, но был не в состоянии сбросить с себя какое-то странное оцепенение, не мог даже шевельнуться, словно магнитом, прикованный к месту недобрым предчувствием.
Пришлось сделать невероятное, просто титаническое усилие, чтобы опустить взгляд, отвернуться, уйти, словно часть себя, оставляя позади глухой ропот тревоги, обрывки смутных подозрений.
Через несколько минут Ленский уже прохаживался по набережной, то и дело, поглядывая на часы. Наверно, сегодня день такой выдался, когда все опаздывают. Этакий день опозданий. Жаль, что нет такой службы, аналога метеобюро – она бы об этом заранее предупредила.
А так… Что ж поделать, если люди так устроены? Может быть, из этого даже закон какой-нибудь можно вывести, например, такой: не опаздываешь ты – опаздывают к тебе? Как в футболе. Хотя, чем футбол отличается от жизни?
Нет, ну это уже слишком! Этот таинственный кто-то отнял у него целых пятнадцать минут! Если разбить человеческую жизнь на минуты и расценить их по небесному прейскуранту, сколько бы он потерял в таком исчислении? А, впрочем, все это – ерунда. Гимнастика ума, абстрагирование от тупой иглы в сердце.
Неизвестно почему, но сейчас он уже был готов голову дать на отсечение, что встреча Гусеницы с Коссым каким-то образом связана со Львом Борисовичем. Вот, если бы, хоть, что-нибудь понять из их разговора, хотя бы, расслышать пару фраз. Тогда можно было бы…
– Давно стоишь? – знакомый голос за спиной заставил вздрогнуть, резко обернуться.
Перед Ленским стоял все тот же Гришка Коссой собственной персоной. Стоял с независимым видом, щурясь на солнце и с удовольствием облизывая шоколадное мороженое. Вид у него был умиротворенный и ленивый, как у кота, сытно пообедавшего и теперь безмятежно нежившегося на солнце, и этот мирный, полусонный Гришка резко контрастировал с тем недавним, всего несколько минут назад, прямо на центральной улице города, на глазах у сотен прохожих, что-то кричавшим в лицо Юрке Гусенице.
Зыбкие линии воспоминания проступили сквозь контуры действительности, и Ленский едва не задохнулся внезапным всплеском своего предчувствия. Пространство ежилось судорогами тревоги, вспышками крошечных молний кромсая очертания великолепного дня, и волнение Ленского мгновенно передалось Коссому, блеснув в его темных, глубоко сидящих глазках антрацитом подозрения.
Время сжалось в мгновенной рокировке, словно раскаленные угли, суетливо подбрасывая Ленскому нужные слова.
– Гриша! – он поднес к лицу Коссого свою руку так, чтобы тот увидел циферблат часов. – Ты не охренел ли?
Лицо Гриши моментально изменилось, он заверещал, картинно округляя глаза.
– Жека! Я же, как лучше хотел! Думал, куплю пока Деду провизии какой-нибудь, ты и отдохнешь, погуляешь по парку. Думаешь, я не знаю, как вы, бизнесмены, устаете?
Ленский смотрел на него, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, не поддаться все сильнее и сильнее захлестывающей его тревоге. Ведь, врет, врет, гаденыш! По глазам видно, что врет. И вопросы каверзные задавать – бессмысленно, и проверки устраивать. Наверняка, в багажнике что-то припасено заранее, и про Гусеницу – тоже придумано что-нибудь. Скажет, что случайно, что Ленскому показалось, что, наоборот, не разговор у них был, а стычка.
Эх, Гриша, Гриша, маленькая ложь – мать больших подозрений. И, все-таки, почему?
Мысли сбились, спутались в темный клубок. Молния догадки, быстрая и ослепительная, растрепала его, озарив все проблеском надежды. А, если, действительно – показалось? И разговор тот, и ложь в голосе, и тень в глазах? Ну, вот случается же такое с другими, вот и с ним случилось.
В секундном затмении закрытых глаз пестрая ткань событий вдруг извернулась волшебным виражом, сложившись вполне себе пристойным узорчиком, спокойным и нейтральным. Ленский открыл глаза, и призрак Лены, ласковой, нежной, хохочущей в брызгах солнечного света, ворвался вдруг в сознание, словно птиц, распугивая мысли, разбивая вдребезги все его натужные построения… С ума изволите сходить, синьор Ленский?
– Ладно, едем, – проворчал он, делая шаг в направлении своей машины. – Где встречаемся?
Коссой неожиданно преградил ему путь.
– Ты чего? – словно на ненормального, он смотрел на Ленского, всем видом своим показывая крайнюю степень недоумения. – На мне едем!
Ленский смотрел на него сверху вниз, и щуплый, невысокий Гриша казался ему сейчас сказочным карликом, злым и недобрым, и тень предчувствия вновь прошлась по сердцу своей жесткой щетиной. Все еще увязая в путанице мыслей, еще барахтаясь в трясине чувств, он попытался отбросить нелепое препятствие.
– Да вот моя машина, – он указал рукой в сторону стоянки, – говори, где будешь ждать, и поехали. Или, если хочешь, вообще, поехали на мне, я тебя потом, куда хочешь, завезу.
Наверно, он так не сумел скрыть нотки раздражения в голосе, потому что Гришка категорически замотал головой, будто заразившись его нервозностью.
– Нет-нет-нет, – он исподлобья взглянул на Ленского, и тот успел заметить тень враждебности, мелькнувшую в его глазах. – Ты что, только сейчас в город прилетел? Не знаешь, что здесь у нас происходит? Борисович четко сказал: «Гриша, привези мне Ленского!» И я его таки привезу, чего бы мне это не стоило! Или ты думаешь, я не умею слушать? Если бы он попросил меня о чем-нибудь другом, и расклад сейчас был другой. Но он попросил тебя привезти, для особо одаренных повторяю: при-вез-ти. Сечешь? Вот я и приехал за тобой. И, вообще, Ленский, если бы все было так просто, наверно, Борисович не просил меня помочь!
Ленский застыл на месте, растерянный, сбитый с толку. Делая вид, что задумался, он отвернулся, бросив взгляд на речку, на желтую ленту пляжа, усыпанную россыпью тел, на листву деревьев, чуть подрагивающую в струях легчайшего ветерка.
Пространство колыхалось солнечным днем, заботливое, ласковое, насквозь пронизанное флюидами праздности и неги. Он обернулся к Коссому.
Тот с аппетитом доел мороженое, выбросил обертку в мусорное ведро, стал вытирать пальцы носовым платком.
– Ну, так что? Долго мы еще будем здесь мордами торговать? – он насмешливо смотрел на Ленского. – Или ты испугался чего? – его взгляд, острый, как бритва, полоснул Ленского по сердцу. Наверно, что-то отразилось на его лице, потому что Гришка довольно рассмеялся. – Не боись, я небыстро поеду, хоть, на моей новой тачке это трудно будет сделать! Кстати, ты ж ее еще не видел! Заодно и оценишь! Да, поехали уже, это недалеко совсем. – последние слова Гришка проговорил, уже отходя.
Ленский с тоской смотрел ему вслед. В голове опять скакали какие-то непрожеванные мысли, словно продолжения чувств, таких же неясных, путанных, все это складывалось конструкциями необъятных ребусов, громоздящихся друг на друга, переполняющих душу острым предчувствием чего-то страшного и непоправимого.
Гриша шел, не торопясь и не оглядываясь, вертя в руке брелок сигнализации, что-то насвистывая, и его спина, узкая, чуть ссутуленная под ослепительно белой рубашкой, вздувшейся в порыве ветра, казалась парусом, навсегда удаляющимся в безбрежный океан жизни.
Мгновенная безадресная печаль окутала сердце. И снова, как картинки в рваном, беспокойном сне мелькнули перед ним затуманенные грустью глаза Лены, умоляющим речитативом зазвучал из трубки прерывающийся голос Льва Борисовича, страшной маской пронеслось мимо лицо Юрки Гусеницы, кричавшего что-то неразборчивое в хаосе городского шума.
К черту! Все – к черту! В конце концов, кто он, мужчина или тряпка? Ленский сжал зубы, шагнул вслед Грише.
Его собеседник говорил правду – в городе было неспокойно. Лев Борисович, вор в законе и так называемый «смотрящий», стремительно терял власть и авторитет. Молодые, наглые банды, укомплектованные уголовной шпаной и бывшими спортсменами, активно наступали на «законников», постепенно изгоняя их из зон привычного обитания, оттесняя от хлебных «точек», отнимая доходный бизнес. Какое-то время последние довольно жестко оборонялись, ловко играя на неорганизованности и разобщенности «молодых», однако, вечно продолжаться это не могло.
Постепенно две крупные банды, возглавляемые Кабаном и Морозом, подмяли под себя все остальные, и противостоять им обоим, не имея возможности заключения сепаратного мира ни с одной из них, было равносильно войне на два фронта. Надежды на перемирие не было, и с этого момента власть Льва Борисовича была обречена. Передел зон влияния в городе пошел с удвоенной скоростью.
Начался этот процесс относительно недавно, всего пару лет назад, и Ленский хорошо помнил эти дни, пронизанные нервной, судорожной тревогой.
Впрочем, Лев Борисович не сдавался, хотя, был издерган и измучен. До этих событий всегда мягкий и вежливый, он все чаще поддавался гневу, раздражаясь по пустякам, часто срываясь на крик. Львиную долю своего времени он проводил в бесконечных переговорах и на сходках, несколько раз надолго уезжал куда-то из города. Возвращался он всякий раз умиротворенный, загадочный, разговаривая с Ленским, все время улыбался, довольно потирал руки. Но потом опять что-то срывалось, шло не так, и улыбка исчезала с его лица. Он снова и снова с кем-то встречался, договаривался, спорил, обменивался угрозами, в один прекрасный день у него появилась охрана.
За это время противостояние в Городе приобрело характер локальной гражданской войны, со своими фронтами, армиями, разведкой, агентами влияния, тылами и, конечно, жертвами. Очаги военных действий вспыхивали то тут, то там, множась день ото дня, и иногда газетные рубрики для некрологов походили на сводки вестей с поля боя. Многие находили там имена своих близких, друзей, просто знакомых…
Онемев от ужаса, затаив дыхание, Город следил: чья возьмет?
Последние две недели Лев Борисович, вообще, где-то скрывался. Поговаривали, будто на него объявлена охота, будто за его голову назначена кругленькая сумма, и будто бы для этих целей нанят уже киллер, который вот-вот исполнит заказ.