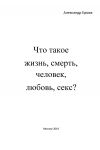Текст книги "Выстрел по солнцу. Часть первая"

Автор книги: Александр Тихорецкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
– От, баснописец хренов! На долг у него денег нема, а на утеки – пожалуйста! – он поворачивается к Славе, с одобрением оглядывает его атлетический плечи. – А это кто такой здоровенный? Брат твой? Хиба ж он, такой бугай, тебя защитить не может? – лукавство так и плещется в его небольших, серо-голубых глазках.
И снова Ленский врет. Столько неправды он не говорил никогда в своей жизни. Славу он представляет горе любовником, скрывающимся от ревнивого мужа, заставшего того со своей женой. И снова железнодорожник крутит ус, улыбаясь каким-то своим, одному ему известным мыслям.
– А менты вас искать будут, хлопцы? – неожиданно взгляд его становится острым, и краем глаза Ленский замечает тревожный порыв Ермакова, пытающегося подсказать ему ответ. Наверняка, опять что-нибудь лживое, заискивающее. Эх, Славка, как ты не поймешь! Да что он, Ленский, сейчас не скажи – все прокатывает на ура, со свистом проходит в прожорливый зев реальности. У него в активе два предательства, одно подлее другого, а это при любом раскладе – как минимум, двойная норма, перевыполнение плана, как сказали бы во времена Стаханова. Так что, расслабься, друг.
К тому же, он не может больше лгать, не может и не будет. Потому что устал, бесконечно, смертельно, и усталость эта, эта бесчувственность, вялая, безвольная пустота растворили в себе страх. Его нет больше, больше нечего бояться, и поэтому можно говорить правду. Можно ответить ею прямо в прищуренные, проницательные глаза человека, решающего твою судьбу:
– Может, и будут. Даже наверняка. А что?
Суматошное отчаяние Ермакова плеснулось безумными брызгами, неожиданно сменилось тихим бризом. Железнодорожник низко опускает голову, задумавшись на секунду, а когда вновь поднимает ее, во взгляде его плещутся насмешка и озорство.
– А флаг им в руки! Нехай ищут, псяюги! Хиба ж это милиция, это ж бандиты те же! Так что, не хвалюйтесь, хлопцы, я вас так спрячу – ни одна собака не найдет!
Он отворачивается, уходит, оставляя Ленскому торопливый шепот Ермакова:
– Забыл тебя предупредить! Уже думал – пропали. Молодец, что догадался! Знаешь, как он ментов не любит!
И шепот, и сам Славка тонут в кутерьме пространства, поглощенные волнами какой-то неестественной, апатичной победительности. Впрочем, чему удивляться? Сегодня он предал любовь и память погибшего друга, сегодня ему можно все.
А вот встреча с Юркой Журовым, дожидавшимся их в коридорах депо, его лицо, глаза, застывшие, отрешенные, будто случилось что-то ужасное и непоправимое. Он держит в руках яркую спортивную сумку и в первый момент Ленскому кажется, что это букет цветов, обернутый обложкой цветного журнала.
Юрка, бледный неживой, пергаментной бледностью, слегка пьяный, охваченный какой-то печальной понуростью, встретившись с ним взглядом, опускает глаза, и неожиданная грусть вползает в сердце. Ну, что еще, Юра? Неужели хочешь ворошить старое? Зачем? Ведь, и так все понятно, Впрочем, прошу прощения, воля ваша…
Они отходят в сторону, в темный коридорный тупик с порыжевшими занавесками на окне, мазней стенгазет под пыльными стеклами. Юрка волнуется, то и дело снимает очки, повертев в руках, надевает снова…
– Представляешь, Женя, – говорит он, как только они остаются вдвоем, – я тоже уезжаю.
Что? Только этого не хватало! Что ты делаешь, дружище?
– Я с вами еду, Женька… С тобой… – он оглядывается на Славу, дипломатично застывшему в нескольких метрах от них. – Понимаешь, сегодня я понял, что… Как тебе объяснить? – он говорит тихо, неразборчиво, почти бормочет и все время заглядывал в глаза Ленскому, словно извиняясь за что-то, словно надеясь увидеть в них свое прощение. – Да, все ты понимаешь… Теперь, когда… Одним словом, нельзя нам порознь. Нельзя…
– Нельзя его здесь оставлять, Женя, – будто ниоткуда появляется Слава, надвинувшись, почти заслонив тусклое солнце хиленькой лампочки. – Звонки какие-то глупые начались, звонят и молчат. Ты ж не звонил? Вот и я говорю – добром это не кончится. Тем более, друг твой, Женя, как оказалось – парень башковитый, у вас с ним тема даже какая-то есть. Я, правда, не понял ни черта, но чувствую – полезны вы оба будете нашей организации.
И внезапность его появления, и вмешательство в разговор, и подозрительная, какая-то вороватая осведомленность отзываются в душе глухим раздражением. Впрочем, неожиданная жесточь тут же сменяется безразличной апатией.
– Ты что, уже успел все рассказать? – Ленский устало смотрит на Журова. – Когда? Ведь, времени прошло только часа три. А-а! – он машет рукой на смущенного друга, поворачивается к Славе. – Что за организация?
Вмиг поджавшись, словно перед начальником, тот юлит.
– А какая уже разница? – он все еще пытался перехватить инициативу, под маской безобидного легкомыслия скрывая неожиданную растерянность. – Не пожалеете, ребята!
– Я с собой все записи, расчеты захватил, – словно вторя ему, бормочет Юрка.
Ленский бросает на них наполовину равнодушный, наполовину презрительный взгляд, отворачивается. Ощущение потерянности, какого-то сиротства вновь наваливается на него, но он решает не поддаваться, прижимается лбом к холодному оконному стеклу, будто сквозь линзу волшебного принтера вбирая в память рельефное полотно железнодорожной яви.
Вскоре приходит Валерий Станиславович, видит Журова и, вопреки ожиданиям, только сплевывает под ноги.
– Где два, там и третий.
А потом был вокзал, посадка. Они притаились в каких-то темных и душных отсеках вагона, куда торопливо, под аккомпанемент тихой матерщины и свистящего дыхания, рассовал их Валерий Станиславович.
– И что б – ни звука! – насмешливые, пепельно-голубые глаза внезапно сузились, сверкнули сталью. – Или нас всех здесь положат, мать вашу… А тебя – первого!
Толстый, грязновато-желтый палец – последнее, что видит Ленский, потом панель обшивки придвигается, играя тонами светотени, вспыхивает напоследок квадратом периметра, будто пресс, впихивая темноту в его убежище. Какое-то время он слышит прерывистое сопение железнодорожника, невнятное его бормотание и скрипучие, неприятные шорохи – звук закручиваемых болтов, затем все стихает.
Ну вот, и все. Можно сказать, погребен заживо. Впрочем, нет, сравнение, конечно, некорректное. Ведь, в отличие от тех несчастных, его через какое-то время все равно освободят, и он знает об этом. Хотя, неизвестно еще, как все сложится, и что лучше.
А вдруг вместо долгожданного лица Валерия Станиславовича он увидит жестокие лица преследователей? В этом случае освобождение будет равносильно смерти, и вряд ли эта смерть будет легче, чем та, которая ему уготована забывчивостью его благодетеля. Впрочем, тут, как говорится, дело вкуса, однако, зная о том, что их ждет, некоторые предпочли бы не вращать барабан. А он?
И все-таки, по сравнению, и с теми, и с другими он сказочно богат – у него есть надежда, совсем целая, неистраченная, еще не тронутая ржавчиной тревог и сомнений. Пока она жива, жив и он, несчастный пасынок судьбы, из заоблачных высот низверженный на самое дно, словно созвездие несчастья и предательства, раскорячившийся в раковине своей крошечной Галактики.
Темнота, вокруг только темнота и безмолвие. Земной свой путь пройдя до середины, я оказался в сумрачном краю… Нет, не то, совсем не то. Он не взрослый, он – снова маленький, мальчик, застенчивый, мечтательный, свернувшийся калачиком под клетчатым пледом, и Вселенная колышется над ним необъятным куполом, и время сочится тягучими каплями, и глаза закрываются в невольном стремлении слиться с этим великим, загадочным миром.
Он не взрослый, он – маленький, глупый, наивный, он – какой угодно, только не взрослый. И не надо ему всех этих ненужных побед, он с радостью отдаст их все за одно-единственное мгновение счастья, счастья вновь стать ребенком. Чтобы снова, как когда-то, темнота расстилалась над ним ослепительным звездным небом, миллионами солнц глядящим на него с высоты умопомрачительной мечты, и голова кружилась в упоении волшебства, переполняя душу благодарностью и восхищением, и жизнь казалась прекрасной, прекрасной и вечной.
Где-то там, во мраке, за границами перегородок, затихли его друзья, и Ленскому кажется, что он слышит биение их сердец, их дыхания, мысли, заботливо укутанные тишиной, надежно спрятанные покровами темноты. И снова – темнота. Темнота и тишина, две неотъемлемые составляющие ночи, как состояния покоя, как предвестника и побудителя любого откровения. Если прибавить к ним чистую совесть, это единство запросто может превратиться в законченную гармонию. Гармония, она же нирвана, она же блаженство, она же небытие. Иными словами – смерть.
Так, может быть, не стоит так рьяно стремиться к совершенству? И совесть наша чиста только в детстве, когда мы только-только отдалились от роковой черты, в которой пересекаются отражения двух миров, глядящих друг на друга сквозь призму магического кристалла, за которой – ничто, прострация, вакуум, пустота. Так что же, наша жизнь – обман, путь от ноля к нолю? Путаная траектория надежды в обманчивом океане предопределенности? Да-да, предопределенности. Что-то это ему напоминает, но вот только что? Сейчас и не вспомнить.
Мысли путаются, вьются безвольными нитями, сбиваясь в сумбурный клубок. Мимо проносятся расплывчатые картины каких-то событий, лица, как будто знакомые, но какие-то обезличенные, полуистлевшие в безжалостных лучах времени, боль и страдание, и он старается не вспоминать их, будто отстраняясь, будто обнеся все это частоколом запрета. Но вдруг что-то неуловимо изменяется в нем, сумятица утихает, и мысли, плавные, послушные, будто бумажные кораблики, плывут по ручейкам памяти, старательно огибая препятствия, расталкивая островки не растаявшего снега, унося сознание в сказочные времена детства.
И вот уже где-то вдалеке, за горизонтами мысли вспыхивают языки чудесного пламени, и причудливая вязь их кружев заплетается волшебными узорами, и тьма расползается разводами теней, тает слезами теплого света, возвращая добрые мамины глаза, ласковые прикосновения нежных рук, мягкий, грудной голос. «Женя! Женечка! У тебя все в порядке?»
Голос звучит совсем близко, рядом, и все это – и глаза, и руки, и прикосновения – так отчетливы, так явственны, что хочется расплакаться, прижаться к ним горячим лицом, вытолкав из горла проклятый комок, забывшись в чистых волнах любви.
Мама, мама, мамочка, я так одинок, так несчастен! Спаси, помоги мне!
И снова, как в детстве, ласковые руки обнимают, гладят по голове, змейкой шепота пролагая тропинку в царство забытья. «Все будет хорошо, Женечка, все будет хорошо, сынок. Надо просто немножко поспать, и тогда все беды уйдут, растают, будто их и не было. Надо немножко поспать…»
И вот уже клетчатый плед заботливо подоткнут, и призрачная тропинка стелется под ногами, и чужой, страшный и жестокий мир остается позади, где-то внизу, за пеленой белоснежных, рыхлых, важно-одутловатых облаков. Тело становиться прозрачным, легким, почти невесомым, и он взлетает в поднебесье, разрезает его тугую ткань, переплетая нить своего полета с полетом больших белых птиц, упругими кругами поднимающимися все выше и выше, в темнеющую высь неба.
И он тоже поднимается вместе с ними, в стремительной мощи полета сбрасывая оковы гравитации, словно ненужный балласт, теряя мысли, чувства, память, осыпающиеся вниз вялыми, блеклыми лепестками. Его душа пуста, пуста и легка, как волшебный сосуд, как старинная амфора, изящностью форм лишь подтверждающая благородство будущего наполнения, и обрывки воспоминаний кажутся глупыми, несвоевременными снежинками, искорками отражений заблудившегося времени.
Круги становятся все уже и уже, подъем – все круче, и он почти ввинчивается в небо, превратившись в стремительный болид, сливаясь с могучим потоком движения, призрачной спиралью уходящим вверх, за грань зрения и мысли, туда, где не существует ничего, где властвуют покой и вечность.
Он уже почти растаял, почти растворился в небе, стал его неразрывной частью, когда неясный звук, даже не звук, отголосок, какое-то смутное эхо настигло его, наполнив душу волнением и тревогой. Какие-то невнятные голоса, чей-то плач резанули вдруг слух, и опустошенная полетом память слабым всплеском ностальгии, дыханием далекого дома вновь проснулась в нем.
Там, внизу, далеко-далеко отсюда, остались мама, друзья, остался он сам, и беда уже стоит на пороге, в отражениях безумного кристалла принявшая мрачную ипостась смерти. Надо спешить, надо спасать маму, друзей, себя…
И он падает вниз, соскальзывает по головокружительным перилам времени, дрожащим мириадами спрессованных секунд, обрушивается внезапно, стремительно, в последнюю минуту простившись со своими птицами, успев уловить прощальный всплеск в их черных, с золотистой каймой глазах…
Он снова внизу, в тесном аппендиксе узенького коридорчика, оглушенный, раздавленный своей мгновенной метаморфозой, словно выброшенная на берег рыба, глотающий скудные крохи кислорода. Сознание еще полнится волшебством чудесного полета, восторг безраздельной свободы еще искрится в глазах золотой пылью, но беда уже рядом, она уже сотрясает его видение грохотом шагов, злыми голосами, хлопаньем дверей. И сразу же пространство сгущается мутью опасности, словно чернилами, расплескавшись в воздухе волнами несчастья, пронзенное насквозь остриями взглядов, безнадежно беззащитное в прозрачной хрупкости своих бастионов.
И снова скрип петель, шаги, властные, уверенные, чей-то грубый, повелительный окрик, тревожный смех Валерия Станиславовича.
– А здесь у тебя что?
В ответ звучит что-то неразборчивое, монотонно успокаивающее.
Голос не унимается, наступает.
– Что? Говори громче!
Валерий Станиславович опять бубнит что-то невнятное, что-то туманно-нейтральное.
– Понятно… – голос явно разочарован, даже раздражен. – Ладно, пошли дальше…
Шаги удаляются, визгом петель, хлопаньем двери, отрезанные от мира осязания. Это все? Беда миновала? Но – нет, нет, тихой, тягостной мукой предчувствие возвращается к нему, обесцвечивая мысли, сжимая сердце пыткой ожидания. Время струится мимо беззвучной тенью, словно пугливый призрак, пробираясь в лабиринтах темноты. Темнота и тишина сплелись в извечном тождестве, магией единства обостряя мысли и чувства, превращая тело в один сверхчувствительный нерв, тончайшей паутиной пронизавший обомлевшее пространство.
Неожиданный звук, едва различимый за далеким гулом перрона, вмиг обрывает его ожидание, и время взмывает куда-то ввысь, под самый купол неба, закручиваясь пульсом в тревожный шпагат барабанной дроби, сбиваясь сумятицей безумных секунд. Это – она, смерть, пришла за своей данью, непреложным жертвоприношением оставленным ей коварной судьбой! И нет спасения в этой безнадежности, в этой ослепительной, оглушительной тьме, льдом беспомощности сковавшей тело и волю, выморочным бессилием опустошившей душу.
И снова шаги, на этот раз мягкие, вкрадчивые, почти беззвучные, как свет, как дыхание звезд, как молчание вечности, скрытое где-то на самом дне непроницаемого мрака.
Шаги крадутся, поскрипывают, своей реальностью, своей упорной неотвратимостью доводя до обморока, до исступления, и неожиданно, словно пар из чашки, Ленский выскальзывает из тела, в порыве восхищения, в головокружительной эйфории своего нежданного преображения, ни секунды не раздумывая, взмывает вверх.
Проникнув за хлипкую стену своего убежища, весь дрожа от предвкушения приключения, он внезапно, лицом к лицу сталкивается с вошедшим.
Близко-близко, словно находясь на расстоянии нескольких миллиметров от него, он видит этого человека, видит его взгляд, подозрительный, настороженный, слышит его дыхание, ровный пульс его сердца.
Да, он спокоен, спокоен и деловит, как охотник, уверенный, что добыча не ускользнет, не выберется из западни. Конечно, он совсем не замечает его, Ленского, глаза его, все время шарящие в пространстве, словно просеивающие его через сито сетчатки, смотрят сквозь него, не останавливая, не фокусируя взгляд. Вот он остановился, прислушивается, словно чего-то ждет, чего-то опасается, и шаги его тоже замирают, будто существуют сами по себе, охотничьим псом, способным различить добычу там, где осязание хозяина бессильно.
Время содрогается в синкопах конвульсий, осыпаясь лепестками секунд, и кажется, что вот-вот лопнет какая-то тонкая, очень важная струна, лопнет и хлестнет по щекам острыми обрывками яви, пронзительной, злой, жестокой.
Струна натягивается, звенит в агонии апокалипсиса, и внезапной судорогой очнувшегося сознания, невероятно обострившимися нервами Ленский уже чувствует ужас непоправимого, ощущает ожог удара на лице, как вдруг происходит чудо. Мамина рука, добрая, мягкая, округлая, легонько поправляет что-то в пространстве, страгивает невидимую защелку, и стремительная гильотина движения раскалывает пространство на «до» и «после».
Глаза человека гаснут, наполняясь скукой и разочарованием, он не стесняясь, широко и громко зевает, безразлично отворачиваясь к окну, делает шаг в сторону выхода. Вместе с ним оживают и шаги. Поскрипывая кожей новехоньких ботинок, ступая понуро и устало, они удаляются, отзываясь в ушах тяжелым колоколом, и их следы, примявшие тощий ворс видавшей виды дорожки, остаются в душе незаживающими шрамами.
Шаги затихают, и оцепеневший, весь превратившийся в слух, Ленский умирает вместе с ними, навсегда погружаясь во тьму, прощальными искрами сознания угасая за невидимой гранью, отмеченной визгом дверных петель…
Сон обожает дешевые эффекты, боготворит грубые контрасты.
Небытие обрывается фонтаном света, хлынувшим из пробоины лаза, лицами Славы и Юрки, словно в немой пантомиме, изламывавшимися в приступе безудержного веселья. Все закончилось. Слава Богу!
В этом месте сон снова ускоряется, сбивается на торопливый бег. О чем думает в этот момент Ленский? Он не помнит, а сон не подсказывает ему этого, смешивая, размалывая, теряя все в молниеносной пестроте кадров.
Вот все трое выходят из своих убежищ, вот обнимаются, идут в купе. Кажется, они говорят о чем-то, будущие строители своего прошлого. Какой-то смутный, безликий разговор. Слава с Журовым вполголоса переругиваются, о чем-то спорят, бросая на Ленского боязливые взгляды, вслед за ними идет Валерий Станиславович, какой-то хмурый, подавленный, и, весь светясь от гордости, упиваясь триумфом собственной честности, Слава вручает ему увесистую пачку банкнот. Кажется, он тоже что-то говорит при этом, что-то торжественное и напыщенное, но лицо железнодорожника остается таким же мрачным и непроницаемым. Он неуклюже, явно стесняясь, прячет купюры в карман, неловко повернувшись в узеньких дверях, выходит, и с какой-то грустной уверенностью, с каким-то горьким удовлетворением Ленский замечает, какие у него усталые, поникшие плечи.
Впрочем, наверняка, для остальных это остается незамеченным. Эйфория счастливого спасения не позволяет им замечать переживания других. Страшное напряжение последних минут, сорвало с них маски будничного притворства, обнажив первооснову, низведя до примитивных, нетронутых цивилизацией рефлексов. В нервном, лихорадочном возбуждении Слава все время потирает руки, что-то бормоча себе под нос, время от времени громко, беспричинно смеется, Юрка, напротив, тих и задумчив, неразговорчив, бросает какие-то робкие, растерянные взгляды то на него, то на Ленского.
Неожиданный шорох в дверью нарушает покой их нравственного стриптиза, заставляет побледневшего Слава сунуть руку в карман, но Ленский останавливает его. Он уверен и спокоен, он знает наверняка – опасности больше не будет. Просто у него остался еще один должок перед прошлым, самый последний, самый окончательный должок, и сейчас он отдаст его, теперь уже навсегда закрыв движение по своим счетам.
Здесь память вовсю использует свойство фрагментарности, навечно запечатлевая в своих скрижалях всю хронологию до самых крошечных, самых мельчайших деталей. Вот он тянет вбок тяжелую дверь, впуская подслеповатый свет коридора в напряженное молчание купе, вот, словно ниоткуда, появляется одутловатое лицо Ермакова, его глаза, тревожные, бегающие, масляно блестящие в искусственном освещении.
– Женя, я к тебе…
– Да-да, я сейчас выйду.
Громадная тень Славы поднимается вслед за ним.
– Подожди, я с тобой.
– Не стоит. Останься лучше с Юрой.
В желтом свете купе блики на лице Славы кажутся ожившими мотыльками, сонными, медлительными.
– Ты не вздумай из поезда выходить!
Внезапное раздражение заставляет ответить грубостью.
– У тебя забыл спросить… – лицо Славы уходит в тень, сливается с тусклой мутью полумрака. Конечно, он обижен. Зачем, зачем?
Короткая кишка коридора, темные стены с амбразурами наглухо зашторенных окон, и вот они уже на перроне. Ермаков идет впереди, он оглядывается, что-то говорит. Но Ленскому уже все равно, он уже – не здесь, не с ним.
В этом месте, видимо, исключительно из соображений человеколюбия, сон возвращает ему чувства, и пересохшая душа мгновенно переполняется ими, будто бурным потоком, омытая грустью, болью, страданием. Он уже понимает, он знает, что больше никогда не вернется сюда, и ему нежно и горько, как в детстве, в последнее утро летних каникул, на пороге нового и неизвестного.
Он чувствует, как что-то покидает его безвозвратно, оставляя после себя открытую рану, и ему до боли, до остервенения, хочется остаться одному, выплакаться и забыться.
Ленский без жалости отдает Ермакову его добычу, долго смотрит ему вслед, смотрит, пока его фигура не скрывается в многолюдной вокзальной сутолоке, не растворяется в быстро сгущающихся сиреневых сумерках.
Неясное побуждение, какой-то бессознательный толчок заставляет его повернуться, пойти назад, бездумно и отрешенно петляя в безликой толпе, словно сбившийся с курса корабль, лавируя среди чужих судеб, безропотно подставляя лицо фокусам любопытствующих взглядов.
Мимо тянутся яркие витрины, окна ресторанов, открытые кафе, полные движения, окутанные флером жизни, музыкой, ароматами кухни, словно напоказ выставившие перед ним свои приманки, и смутные воспоминания оживают в нем, сложившись в одном, предвиденном и оправданном желании.
Напиться. Он должен напиться. Так делают все в таких случаях. В каких – в таких? Да разве с кем-нибудь случалось что-нибудь, хоть, отдаленно похожее? Тогда – тем более, напиться!
Сон явно наслаждается, смакуя каждую его мысль, каждое его движение. Словно робот или сомнамбула, Ленский заходит в какой-то привокзальный магазинчик и на все оставшиеся у него деньги покупает коньяк. Лицо продавщицы колышется перед глазами бесформенным блином, в желтом свете ночника похожее на Луну. Она что-то говорит? Что?
– Мил-человек, ты хоть закуски какой-нибудь возьми! Так, ведь, и окочуриться можно!
Закуски? Кусать, перекусывать, кусаться… Зачем кусаться?
Он смотрит в ее лицо, плывущее в тягучих волнах безжизненного света, и теперь оно и впрямь кажется ему Луной, круглой, обаятельной, в великолепии своего полнолуния подсвеченной нежными, чуть красноватыми отблесками Земли.
– Ну, что ты, совсем занемог? Смотри, сколько получилось.
Она раскрывает пакет, доверху заполненный коньячными бутылками. Янтарная жидкость переливается в высоких цилиндрах, будто джин, запертый в узилище дьявольской своей сущности, и стройность бутылок, золото пробок, блики на глянцевых боках, невольно приковывают его взгляд. Вот оно, спасение, избавление от мук!
– Ох, горюшко мое! Откуда ж ты такой взялся? С Луны, что ли, свалился? – он чувствует на себя насмешливый взгляд продавщицы, улыбается ей в ответ.
Уже давно датчики опасности надрываются в истошном крике, уже давно сознание пульсирует тревогой, но странное оцепенение не позволяет Ленскому даже шевельнуться, даже тронуться с места. Неожиданная, не объяснимая ничем апатия, будто разъединила мысли и тело, и он стал похож на расстроенный механизм, способный все понимать и чувствовать, и при этом не в состоянии сделать ни шагу.
Он ловит чьи-то взгляды, чувствует, как пространство вокруг него сгущается атмосферой опасности. Нет, пока ничего особенного, но это – первый сигнал, за которым непременно последуют и следующие. Кажется, сейчас было бы неплохо что-нибудь произнести, что-нибудь шутливое, отвлекающее, как-нибудь разрядить ситуацию, но проклятая оторопь, будто клеем, смазала губы, намертво сцепив язык и гортань.
– Давай, я тебе хоть, шоколада положу. – продавщицы бросает в его пакет десяток цветастых плиток, и в этот момент он замечает у нее за спиной целую гору Солнц, аккуратной пирамидой возвышающуюся из простенькой соломенной корзинки.
Солнце! Это – знак!
– И вот этого мне, пожалуйста, – вновь обретший дар речи, завороженный, он тянет руку к волшебному видению, оранжевым Божеством плывущему перед глазами. Солнце! Жизнь!
Продавщица оглядывается, следя за его взглядом.
– Апельсинов, что ли? – в глазах ее калейдоскопом мелькают насмешка, изумление, недоверие, беспокойство, потом все это внезапно сменяется испугом. – Сколько… вам? – уже другим, чужим, надтреснутым голосом спрашивает она.
Не в силах справиться с проклятой немочью, Ленский делает округлый знак кистью руки, и она один за другим, словно мячики, бросает в его бесформенно раздувшийся пакет все апельсины из корзинки.
– Смотрите, аккуратнее, порвется, – испуг просочился в ее голос, и напутствие ее кажется мольбой, почти заклинанием.
Ленский уже отворачивается, делает шаг в сторону, инерцией долгожданного движения обрывая нить разговора, как чье-то легкое прикосновение обжигает его плечо. Кто это?
В мгновенной мобилизации мысль пробегает всю цепочку вероятностей. Ермаков? Юрка? Слава? Может быть, Валерий Станиславович? Или… Нет, нет, тысячу раз – нет! Этого не может быть! Ему была обещано, гарантировано спасение! Это Слава, конечно, Слава! Занервничал и решил подстраховаться для верности.
Сжав зубы, не позволяя нервной дрожи завладеть собой, он оборачивается.
– Привет! – на него смотрит совсем юная, миловидная девушка. Лицо ее кажется Ленскому отдаленно знакомым, и он в очередной раз напрягает измученную память. Прошлое скользит мимо расплывчатыми картинками, в быстротечной суете анимации сливаясь в одну пеструю, бессвязную ленту.
– Привет! – ощущение беды снова ожгло сердце, и он мучительно сжимается, взвинчивая мысли, подбирая слова. – А вы кто?
– Не узнаете? – девушка кокетливо хихикает. – Я – Вера. Из ресторана, помните? Вы тогда еще с Юркой подрались.
Вера? Юрка? Лента памяти вдруг останавливается, словно штукатуркой, осыпаясь фрагментами прошлого, и Ленский холодеет. Он вспомнил, и ее, и ресторан, и все остальное. Наверно, на его лице появляется что-то страшное, потому что девушка сразу перестает улыбаться.
– Вам нехорошо? – теперь в ее голосе сквозит тревога.
Ленский видит, как где-то в недосягаемом далеке потирает руки довольная судьба. Вот так-то, дружок. Никогда не говори никогда. Что будешь делать?
Усилием воли он заставляет себя улыбнуться.
– Нет-нет, я нормально себя чувствую. Конечно, я помню вас. Как дела?
Вера прижимает к груди обе руки, глаза ее искрятся.
– Ой, а я вам так благодарна, – девушка придвигается к нему и в сгущающихся сумерках она кажется ему прекрасной, какой-то необыкновенно одухотворенной и возвышенной, – ведь, мы с Юркой с того самого дня не расстаемся.
Все плывет у него перед глазами, и, словно за островок зыбкой яви, он хватается взглядом за ее лицо, бледным пятном дрожащее в свете фонарей.
– Да?
– Представляете! Мы с ним, вообще, скоро поженимся, – Вера как-то робко, застенчиво улыбается ему, – и знаете, что? Я хочу, чтобы вы были на нашей свадьбе. Я загадала: если вы придете, то все у нас будет хорошо. Это же благодаря вам мы с Юркой повстречались. Он, правда, и слышать об этом не хочет, но это из глупости, от обиды. Вы тогда его здорово отделали. – она на мгновение замолкает, потом вновь ее лицо теплеет, освещается доброй улыбкой. – Но это ничего, это ему урок был. А теперь он совсем другой стал, знаете, какой? Он хороший, он добрый, Юрка мой. Вы только помиритесь с ним, пожалуйста. Обещаете? Ну, обещайте же! – в ее глазах столько лукавой мольбы, столько детской веры в свое обаяние, что Ленскому хочется расплакаться.
Он вновь заставляет себя улыбнуться.
– Я постараюсь, Вера…
– Ой, я так рада! – девушка прыгает от радости, хлопая в маленькие, словно у ребенка, ладошки. – Я верю, верю вам. Значит, вы будете на нашей свадьбе, это – решено! Конечно, – она смущенно улыбается, фамилия Гусеница – не самая красивая фамилия, но, значит, такая уж моя судьба – остаться Гусеницей на всю жизнь. – она снова смеется, и смех ее звонкими колокольчиками звенит в его воспаленной голове.
– Ну, я пойду, Вера.
На ее лице появляется гримаска разочарования.
– Ой, а вы что, уезжаете? Далеко?
– Далеко.
– Но, это же ненадолго, да?
– Наверняка.
– Ну, ничего, главное, чтобы вы к нашей свадьбе вернулись. До осени, ведь, успеете?
Словно болванчик, Ленский кивает, не в силах разжать зубы. Ему кажется, если он сделает так, то не сможет сдержать крик, отчаянный, безумный крик смертельно раненого зверя.
Девушка ничего не замечает. В простодушном желании посплетничать с хорошим знакомым, она произносит:
– Ой, а вы слышали? Говорят, Сережку Кабана убили. Правда это?
– Не знаю, Вера. Я, пожалуй, пойду.
– До свидания, – она подает ему руку, и Ленский пожимает ее нежные пальцы.
На мгновение ему кажется, что он держит те тонюсенькие, невесомые травинки, которые он несколько часов назад перебирал в Студеной Гуте, и сердце снова рвется злой, жестокой болью. Но все проходит. Лицо девушки качается в свете фонарей, пропадая где-то за горизонтом сознания, и, словно в пропасть, он делает шаг в людскую толчею, в стремительно сгущающиеся сумерки.
– Смотрите же, обещали, – кричит она ему вслед, и, полуобернувшись, не останавливаясь, он кивает ей.
Сон провожает его, изнеможденного, раздавленного, сочувственным взглядом. Словно чужую, Ленский видит свою тень, неестественно длинную, тонкую, беспомощно сквозную в мельтешении фонарных преломлений.
В купе его встретил злобный шепот Славы.
– Ты что, совсем охренел? – Слава покрутил пальцем у виска. – Это и есть твоя минутка? Нашел время для прогулок. – он цепко пробежал взглядом по фигуре Ленского, немного задержавшись на руке, с которой пропал перстень. В глазах его вспыхнуло любопытство, тут же, впрочем, погасшее. Он еще раз внимательно оглядел Ленского, на секунду опустил взгляд. Когда он снова заговорил, голос его слегка дрогнул. – Это то, что я думаю?
– А что ты думаешь?
– Не слишком ли дорого ты нас оценил? Не пожалеешь потом?