Текст книги "Смерть чистого разума"
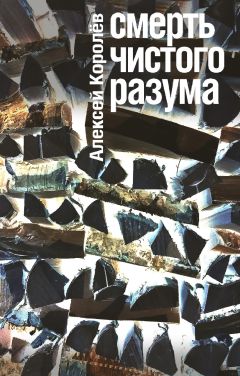
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
24. Пойми своё непонимание
В жизни Степана Сергеевича Маркевича было немного красивых вещей. Мачеха, как и положено мачехам, его не любила, а отчим (Степан тогда ещё не знал, что он ему отчим) баловал только в те, довольно редкие, дни, когда запивал. Чаще всего это случалось после удачного визита хозяина в одно из управляемых отчимом имений – домой Сергей Ксенофонтович являлись за полночь, уже порядочно красноносым и неизменно в испачканном пиджаке: держаться в седле отчим так толком и не научился. Из карманов вылетали смятые остатки от разменянного четвертного, какой-нибудь надкусанный пряник, фляжка, уже пустая, – и всегда гостинец для Степана. Чаще всего это бывала какая-нибудь полная ерунда, медведики-молотобойцы, или свистулька, или кнутик. Но иногда это могла быть и чудесная маленькая сабелька в отделанных латунью ножнах и набор солдатиков и карманная подзорная труба. Но любимой игрушкой Степана чуть ли не до поступления в корпус был старинный дамский гребень – он знал, что это «матушкино». Отделанный слоновой костью и довольно-таки уже несвежий, в руках и воображении Степана он превращался то в меч царя Леонида, то в штурвал Магеллана, то в лопату Робинзона, то в лупу Шерлока Холмса. Маркевич часто вспоминал, как ходил взад-вперёд по своей крохотной детской, сжимая в руках этот гребень и бормоча что-то себе под нос – несмотря на то что он точно знал, что щербатая Карповна наверняка следит за ним в замочную скважину, чтобы в очередной раз рассказать мачехе, что дитё-то, мол, у Сергея Ксенофонтовича – тронутое.
Отчим умер за день до приезда Степана на последние корпусные каникулы, и Маркевич шёл за гробом, отягощённый завещанием, в котором раскрывалась ему тайна его происхождения, ста пятьюдесятью рублями (вырывать пришлось с боем, «к папаше пиши, к папаше своему!») и старым перочинным ножиком с треснувшей красной костяной накладкой на рукоятке – единственной вещью из кабинета отчима, которую он решил забрать на память. Ножик нравился ему с младенчества, но ему не позволялось даже прикасаться к нему. Оба лезвия уже слегка поржавели, но это была самая прекрасная вещь детства, не считая давно потерянного матушкиного гребня.
Маркевич смолоду не терпел в одежде неряшливости, штопал с ловкостью старой девы, при случае мог и подбить каблук, но настолько же, насколько ему было важно выглядеть опрятным, – ровно настолько был он безразличен к моде и особенно к необходимости тратить на одежду или безделушки такие необходимые ему для других целей средства. Дюжина чистых воротничков всегда имелись в его чемодане, но это были старые и безнадёжно вышедшие из моды воротнички.
«Твой nécessaire de toilette ужасен, – сказала ему Александрин во время их предпоследней встречи. – Я подглядела, прости. Платяная щётка лысая как покойный государь-император, а из флакона все время сочится одеколон, потому что пробка не притёрта как следует. Я подарю тебе новый». Маркевич произнёс прекрасную речь о практическом значении окружающих нас предметов и о потребительстве как важнейшей причине стяжательства. Александрин посмеялась и как обычно отвлеклась на что-то, ставшее ей в ту секунду более интересным. Маркевич пребывал в полной уверенности в своём даре убеждения, но на вокзале, прощаясь, Александрин вручила ему свёрток. Разворачивая подарок в вагоне Маркевич первым делом посадил на его гладкую нежную поверхность жирное пятно, но в остальном несессер был прекрасен, и собираясь сейчас привести себя в порядок, Маркевич подумал, что красота созданного человеческими руками всё же возбуждает почти как женщина – и что при всей постыдности этого чувства оно всё же очень рационально, ибо нет ничего более естественного, чем восхищаться плодами труда.
Закрытым несессер имел вид книги в мягкой обложке шоколадной кожи, удерживаемой ремешком. Щётки – две платяные, большая и маленькая, и обувная – были, разумеется, из черепахового гребня нежнейшего сливочного цвета, а щетина имела вид такой, что можно было с уверенностью сказать, что она переживёт пятерых лысых императоров и пятерых волосатых. Бритва и помазок остроумно складывались в два посеребрённых футлярчика. Стаканчик для мыльной пены тоже складывался, на английский манер, кольцами, уходившими одно в другое. Ещё один такой же стаканчик, только поменьше, предназначался, очевидно для водки, но Маркевич, как человек к алкоголю равнодушный, так ни разу и не извлёк его из-под кожаной стяжки. Флаконы для одеколона пробки имели хорошо притёртые и носили на себе маленькие серебряные накладочки в виде фирменного герба фабриканта несессера; зачем флаконов было два, Маркевич так и не понял и всё собирался спросить об этом в письме Александрин. Гребёнка, две пары ножниц, новейшей конструкции пилочка для ногтей, миниатюрная пепельница с крышкой, фляжка в чарку, костяная палочка неизвестного Маркевичу назначения, роговая мыльница, роговая же крохотная коробочка с иглою и двумя нитками, чёрной и белой (прогресс! Ещё десять лет назад было немыслимо, что джентльмен сам будет пришивать себе хотя бы пуговицу), ещё более крохотная коробочка с перьями, полутвёрдый карандаш и к нему изящное точило и, наконец, секретное отделение, разделённое пополам на кармашек для соверенов и кармашек для кредитных билетов (в него Маркевич затолкал письмо от Плеханова). Всё это хозяйство было гениальнейшим способом уложено в соответствующих выемках и имело тот вид, про который сам Цицерон не постеснялся бы сказать Omnia mea mecum porto, если бы он имел в виду не духовное богатство, а материальное. Эта совершенная соразмерность и этот идеальный порядок, впрочем, быстро стали Маркевича раздражать, отчего он ещё не доехав до Берлина поместил в несессер вышеупомянутой нож, отчего «книга» стала закрываться уже с небольшой натугой. Эта дисгармония Маркевича совершенно устроила.
Они выкурили со Скляровым по две папиросы, болтая о вещах, не интересных им обоим. Старик выглядел почти оправившимся, возвращение Веледницкого явно придало ему сил. Маркевич заскучал, но бросить Склярова одного никак не мог и уже потянулся было за третьей папиросой, как на террасе появилась Луиза Фёдоровна.
– Долго же вы приводили себя в порядок, – генеральша даже не скрывала упрёка, но только в голосе, глаза её смеялись. – Двадцать пять минут! Вы ведь не штафирка какой-нибудь, должны быть готовы в пять минут по зову боевой трубы.
– К командиру положено являться во всём блеске, – ответил Маркевич, принимая её тон. – Потом, ваша боевая труба не пожелала разделить с господином Скляровым компанию и мне пришлось дополнительно задержаться, чтобы со всей почтительностью отправить старика к себе.
(Луизы Фёдоровны на этот раз не было ни в комнате генеральши, ни у её дверей – Маркевич не доискивался, почему, зато почувствовал, что от этого гораздо спокойнее не только ему.)
– «Старика»? – вот теперь её гнев, кажется, был неподдельным. – Да он моложе меня!
– Старость определяется не датой в троечастной книге, – возразил Маркевич. – Старость – это состояние духа. Николай Иванович, к сожалению, этим самым духом пал, и довольно давно.
– А я, стало быть, произвожу впечатления мышиного жеребчика? Или, если быть точным, мышиной кобылки?
– Ну посудите сами. На господина Склярова обрушивается одна невзгода за другой. Сперва исчезает Лев Корнильевич. Затем эта странная полицейская эскапада с доктором Веледницким. И что же? Он с полчаса беседовал со мной о нравах Арканзаса, где ему довелось жить несколько лет, и советовался со мной, не сесть ли ему за книгу об этом. В вас же жив острый человеческий интерес ко всему выходящему из ряда вон, и вы явно хотите со мной поговорить об этом странном деле.
– Хочу, – легко согласилась она. – Старость, конечно, это состояние духа, как вы заметили, но и телесные немощи никто не отменял. Я не страдаю провалами в памяти, но кое-что начинаю упускать – ничего не поделаешь, годы. Вот было бы славно, если бы вы мне кое-что разъяснили.
Маркевич церемонно поклонился.
– Для начала расскажите, что случилось с господином Тер-Мелкумовым.
– Он сломал ногу.
– Это мне известно. Но как это произошло? Вы же при этом присутствовали.
– Не совсем так. Я был чуть поодаль и делал записи в свою памятную книжку. То есть сперва мы все втроём – я, господин Тер-Мелкумов и господин Канак, которого я буду, как и все здесь, называть Шарлеманем, – подошли к той самой трещине, в которую господин Тер-Мелкумов давеча уронил свой злосчастный ледоруб. Тер… Александр Иванович нам его показал – действительно, ледоруб лежал на дне. Затем наш знаменитый горовосходитель начал оперировать вервием с укреплённым на конце крюком. Сперва это вызывало мой интерес, но скоро наскучило, потому что господину Тер-Мелкумову никак не удавалось подцепить ледоруб. Я даже сказал ему что-то вроде того, что если он вместо того, чтобы валяться на краю трещины отправится на почту и выпишет себе новый ледоруб, то тот придёт из Женевы послезавтра. Потом я отошёл и принялся за записи, предоставив господину Тер-Мелкумову далее развлекаться в компании Шарлеманя. Но едва я открыл книжку, как раздался крик.
– Глубока ли эта трещина?
– Да какое там, сажень с ладошкой. Собственно, пока я вскакивал, Шарлемань уже практически вытащил Александра Ивановича. И если бы не перелом, он уже смущался бы за ужином от собственной неловкости.
– Я никогда не видела перелома. Должно быть, это неописуемо страшно.
– Вовсе нет, ведь у господина Тер-Мелкумова не открытый, а закрытый перелом. Снаружи выглядит просто как огромный синяк.
– И сейчас он спит?
– Полагаю, что так.
Она хотел знать всё, и Маркевич добросовестно удовлетворил её любопытство, опустив лишь то, что сам для себя назвал «эмоциональной составляющей» странного диалога между Лавровым и Фишером. Впрочем, он мгновенно убедился, что генеральша всё же очень и очень умна.
– Мой сын всегда говорит мне, что по сравнению со мной даже Горький кажется ретроградом. Вероятно, тут много комплиментарного, но я и в самом деле большая либералка, – она засмеялась. – Но даже для такой либералки как я, описанные вами отношения между господином литератором и его секретарём выглядят необычно.
– Мне не доводилось ни иметь секретаря, ни тем более служить им, – соврал Маркевич и с удовольствием отметил, что даже не покраснел. – Кто знает, какой в этих делах сейчас принят тон.
– Тон, любезный Степан Сергеевич, везде и всегда принят один и тот же: веди себя подобающе, но с достоинством. Я ломаю голову над поведением этого инспектора. Во-первых, он знает русский язык, это поразительно. Не спрашивайте, как я об этом узнала, – тут она лукаво усмехнулась. – А во-вторых, почему он сам никого не допросил, доверив это какому-то глупом вахмистру?
– Капралу. Представления не имею. Доктор сказал, что принял его извинения, и всё.
– Между прочим, господин Фишер не так уж не прав в своём любопытстве, как по мне. Они – я имею в виду доктора и инспектора – действительно как-то слишком долго секретничали.
Маркевич пожал плечами.
– Разумеется, это всем приходит в голову. Быть может, у Веледницкого есть какие-то основания хранить их беседу в тайне. Не исключаю даже, что речь идёт о прямом полицейском предписании сделать это. А быть может, речь шла о вещах более и менее обыкновенных в таких случаях: должно же инспектора интересовать, как устроена жизнь в пансионе, распорядок дня и так далее. Да образ жизни Корвина, наконец.
– Во всяком случае всё это довольно занимательно, если бы речь не шла об убийстве, – сказала она.
– Вы по-прежнему так уверены, что это убийство?
– Гораздо важнее, что теперь и вы со мной согласны, не так ли?
Маркевич ответил не сразу.
– Инспектор был в Ротонде. Очевидно, он смотрел и в расселину – собственно, в неё только и можно заглянуть, как из Ротонды. Но пропасть довольно глубока, бог весть, что там увидишь. Впрочем, если это убийство, то тело может быть где угодно, не обязательно на дне пропасти.
– А вы не пробовали сами заглянуть?
– Ротонда опечатана.
– Боже, как скучна современная молодёжь! Мой первый муж, чтобы увидеть меня в девичьей – её окна выходили на Мойку, – однажды угнал ялик генерал-адмирала. Опечатана! Пфф!
Маркевич улыбнулся.
– Что же ему за это было? Гауптвахта? А взломай я полицейскую печать в Швейцарии, меня депортируют с волчьим билетом – и это ещё в лучшем случае. А мне для моей работы необходимо сюда наведываться. Кроме того, я вовсе не умираю от желания помогать инспектору в этом деле. Да и особенным любопытством не страдаю.
Луиза Фёдоровна вплыла как обычно – точно крейсер врывается на поле боя из ночного тумана. Госпожа и компаньонка даже не посмотрели друг на друга: генеральша по-прежнему внимательно изучала бледное лицо Степана Сергеевича, а немка положила на столик принесённую с собой книгу, взяла подносик с серебряной рюмкой, употреблявшейся, судя по запаху, исключительно для приёма средств сердечных, и так же величественно удалилась.
– Обычно она подслушивает у дверей, как вы уже, конечно, поняли – сказала Анна Аркадьевна, когда шаги удалявшейся Луизы Фёдоровны стали окончательно неслышны. – Я не возражаю, особенно последнее время. Когда у тебя становится плоховато с памятью, нет ничего лучше второй пары ушей и глаз – для твоего же блага. Но сегодня я попросила её побыть у себя. Она злится на меня за мой интерес к этому делу и мечтает, что мы вот-вот уедем отсюда. Я не могу ей перечить, так что как только станет возможно, мы, разумеется, тут же покинем этот дом. Боюсь, к этому моменту тайна исчезновения Корвина не будет раскрыта. Пообещайте мне написать, как только что-то прояснится. Скорее всего, мы будем в Ницце, в Гранд-отеле, но точный адрес Луиза Фёдоровна сообщит вам перед отъездом. Кстати, письмо мэтру Гобле я по вашему совету так и не отправила. Напишете же?
Маркевич кивнул.
– Разумеется, напишу. Но почему вы решили, что я не уеду вместе со всеми?
– Я думаю, вы останетесь. Вы хотите раскрыть эту тайну, хоть и утверждаете, что равнодушны к ней. В вас сидит такой же бесёнок, как в моём первом муже. Просто вы его старательно загоняете вглубь. Но стоит дать ему волю – о-о-о, и я не позавидую убийце Корвина.
– Опять вы за своё, – он улыбнулся. – Сыщик из меня никудышный, как я недавно имел возможность убедиться. Впрочем, посудите сами: для всякого убийства нужен мотив. А его, сколько бы я не ломал голову, не обнаруживается.
Теперь кивнула она.
– Мотив, непременно мотив. Впрочем, их, кажется, раз-два и обчёлся. Деньги да месть.
– Деньги у Корвина, разумеется, есть. Но мне кажется, вовсе не такие, ради которых убивают – да и те, как выяснилось, неусыпно стережёт доктор Веледницкий. Месть? Что ж, это возможно. Врагов у Корвина преизрядно. Правда, это должны быть какие-то очень старые враги, коль скоро последние лет пятнадцать Корвин не занимается ничем, кроме сочинительства. Кто это может быть? Оттоманы? Им сейчас не до того. Корсары Сирта? Я, признаться, сомневаюсь в их существовании. Наше родное правительство? (Простите великодушно.) Но оно не посылает наёмных убийц, насколько мне известно.
– Какой-нибудь экзальтированный поклонник? – она снова склонила голову чуть набок. – Или вообще безумец.
– Безумца невозможно ни вычислить, ни, как правило, поймать. Кроме того, как говорят, есть теория, отрицающая возможности убийства одним сумасшедшим другого – потому-то их совершенно без опаски держат вместе в лечебницах.
– Ревнивый муж?
– Опять-таки, это должен быть очень старый ревнивый муж. Да и жена, должно быть, тоже уже не молода, а ведь ревность – опять же, как я слышал, – с годами притупляется.
– А говорите, никудышный сыщик. Я знаю, что говорю: вам не хватает толчка, внешнего воздействия.
– Дело же не только в том, чтобы убедиться, что мы чего-то не знаем, – сказал Маркевич. – Гораздо важнее понять, что именно мы знаем.
(Он поймал себя на том, что уже с полминуты смотрит на книгу, которую принесла Луиза Фёдоровна. «Грёзы и обещания» на немецком. Та самая, которую он давеча листал в прихожей под прицелом пристальных глаз обеих Марин.)
– Ну например, что все постояльцы доктора Веледницкого – ну кроме меня и Луизы Фёдоровны – очень интересовались Корвином. И даже ходили, так сказать, на поклон.
– Ну уж «на поклон».
– На поклон, на поклон, будет вам. Ну или поглазеть, как в зоосад. Простите великодушно, но никогда этого не пойму. К Толстому, я слыхала, толпы идут, как к Иоанну Кронштадтскому. Ну, это я ещё могу понять, всё же что-то услышать можно. Безнравственное, но пусть. А тут? Безумец, чистый безумец.
– Ну, вероятно, у каждого из нас были свои причины, – улыбнулся Маркевич. – Признаться, в отношении меня вы правы, я чувствовал себя и прям как в зоосаду. Но у кого-то могли быть и иные резоны. Быть может, если бы вы присоединились к нам, то получили бы свою толику удовлетворения.
– Я же вам говорила уже, что совершенно не интересовалась Корвином, да и слышала о нём до сей поры немного.
«Мужество принимает разные формы. Выйти из строя и взять на себя вину Мики Поплавского – это мужество. Промолчать, когда исключали из партии Клавдия, единственного друга, – это тоже мужество, хотя и другого рода. Спокойно смотреть в плачущие глаза Александрин, объяснять Теру, кто такой князь Ирунакидзе, порвать с партией, когда Клавдий ценою жизни доказал свою непричастность к провокации, открыться мачехе, впервые метнуть бомбу, переплыть Днепр – все это требовало мужества, хотя и совершенно несравнимого. В каждом из этих случаев можно было поступить по-другому – и ничья честь, включая мою собственную, не пострадала бы. Мужество – это всегда вопрос выбора. Я могу промолчать и сейчас и это вообще ничего не изменит ни в моей, ни в её жизни. И вопрос-то пустяковый, мельче даже, чем Днепр переплыть. Но всякий раз, когда есть выбор, нужно принимать единственно верное решение».
– Ваше превосходительство, в третьей тетради своих «Диалогов» Корвин вкладывает в уста Кандида – героя, как известно, автобиографического – рассказ о празднике в доме его друга, навигатора Иоаннеса. Кандид и Иоаннес спорят о свободе воли, пока их не прерывает жена последнего Нута, держащая на руках маленького сына по имени Сергетус. Из дальнейшего следует, что Кандид и Иоаннес когда-то одновременно добивались руки Нуты. Иоаннес придерживается детерминистских взглядов и приводит в пример свой брак: несмотря на то что Кандид гораздо привлекательнее его внешне, талантливее и богаче, Нута стала женой навигатора. Значит, она была ему предопределена. Кандид возражает, что данный случай есть классический пример свободы воли, ибо Нута сделала выбор, который обществу кажется неочевидным, наплевав на общепринятые нормы и условности.
– Откровенно говоря, не вижу разницы между этими точками зрения, – сказала генеральша и потянулась за «Грёзами». – А зачем вы мне всё это рассказали?
25. Из дневника Степана Маркевича
3/VIII-1908
Третьего дня мне снова снилась М.П. Повторяемость моих сновидений давно уже не удивляет и не пугает меня. Год назад я даже перестал принимать свои настойки – возможно, для того, чтобы начать видеть это снова. Обстановка дорогой гостиницы, в таких я останавливался, может быть, два раза в жизни – и вместе с тем это старый дом в Выхвостове, разделённый вдоль маленькой колоннадой зал, огромное зеркало, в котором уже ничего не видать от старости, и знаменитый выхвостовский паркет, чёрный от бесконечного вощения глухим Антоном. Выдуманное мной пышное тело на белом батисте, батистом же прикрытое, грязные слова, грязные ласки. Небывалое и невозможное, но осязаемое в десятках мельчайших подробностей, словно воспоминание, а никакой не сон.
Как устроены сновидения и почему нам снится то или другое – это, вероятно, не будет открыто учёными никогда, но если бы кто-нибудь занялся этой по-своему увлекательной психологической проблемой, то нашёл бы в моем лице замечательный материал для исследований. Я видел М.П. четыре раза в жизни, вероятно, в общей сложности не более часа на расстоянии, которое даже почтительным назвать мало. Разумеется, я никогда с ней не разговаривал. Было ей тогда лет, вероятно, тринадцать или даже двенадцать – то есть я никогда не видел её женщиной, меж тем именно женщиной она мне является в сновидениях. И каков же был мой ужас, когда весной я увидел в Revue des Deux Mondes её свадебную фотографию – на ней М.П. была точно такой же, какой я себе её выдумал. Довольно долго мне казалось, что сны эти – суть зеркало болезненных травм моего отрочества, ведь в любовных делах я никогда не преуспевал и не преуспею. Но теперь мне кажется, что это не совсем так. Это, разумеется, травмы, но вовсе не любовные, а социальные. Обладать М.П. для меня значить утолять томление не плоти, а духа: сжимая в объятиях великую княжну, я хотя бы во сне забываю, как почти пять лет единственным источником дохода для меня был ежемесячный четвертной билет от Александрин.
/Получасом позже/
Когда говорят о том, что по своей воле с родины не бегут, имеют в виду чаще всего внешнюю, зловещую силу, беспощадные обстоятельства, ломающие привычный уклад и заставляющие искать счастья на чужбине. Я согласен с тем, что всякая эмиграция носит вынужденный характер, но категорически отрицаю, что причиной всему есть сугубое насилие и горестное состояние человека. Тёмная натура моего отца не могла в полной мере раскрыться в Грузии, где любой обыватель, будь он даже князь и отставной генерал-майор, накрепко впаян в сплав родственных связей, религиозных условностей и старинных обычаев. И только в своих полесских имениях, которые были для него как для королевы Виктории – Индия, мой отец смог беспрепятственно предаться тому неслыханному разврату, который едва не погубил его физически и который смогла пресечь только моя бедная мать, став сперва его очередной жертвой, а впоследствии принеся свою искупительную виру. Те вещи, которые не сошли бы ему с рук на родине, за её пределами стали для него увлекательной повседневностью. Мой отец бежал с родины, несомненно, под влиянием постороннего воздействия, но это было бегство за наслаждениями, недоступными ему в тех краях, где он родился.
Десять лет назад, 2/VIII-1898 я записал в дневнике следующее: «Всё утро поневоле слушал как внизу музицируют Б-вы. А.В. я ненавижу уже почти физической ненавистью, когда я вижу его в парадном – это пенсне, эту плотную лысину и клинышком бородку, эти неухоженные ногти – мне хочется сжать его шею и не отпускать до самого конца. Н. со мною по-прежнему вежливо-холодна и по-прежнему смотрит на мужа глазами, слепыми от обожания. Говорят, он должен получить место у Зограф-Плаксиной. День, когда они уедут, будет одновременно счастливейшим и несчастнейшим в моей жизни».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































