Текст книги "Смерть чистого разума"
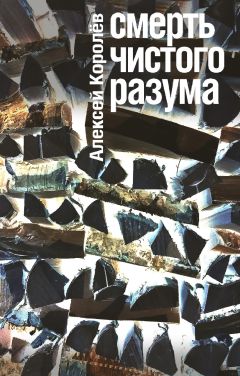
Автор книги: Алексей Королев
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
43. Три ключевых слова
Усаживаясь за стол («вчера подавали раковый суп; бог весть, где они раздобыли тут раков, но вышло превосходно. Мы разъезжаемся, а они начали, наконец, пристойно готовить, что за невезение», – прошептал Лавров, когда они столкнулись в дверях), Маркевич заметил, что место напротив него, все эти дни пустовавшее, украшено полным прибором. Он не ошибся: часы пробили четверть (кроме Маркевича и Лавровых ещё никого не было), когда в столовую вкатился Ульянов, на ходу застёгивая пиджак. Который, впрочем, ему тут же пришлось расстегнуть, когда он уселся. Проворно засунув салфетку за ворот, он с беспокойством огляделся. Маркевич решил прийти к нему на помощь:
– Сейчас спустятся остальные. Тогда и подадут.
– Да-да, вчера уж нагляделся, пока вы хворали, – он машинально вынул салфетку и, очевидно, столь же машинально заправил её обратно. – Как вы себя чувствуете? Прекрасно, прекрасно. Степан Сергеевич, а что же, никак нельзя кормиться отдельно? Меня от этих церемоний с души воротит.
– Это привилегия госпожи Ставрович, – отозвался Лавров, только что задумчиво изучавший на свет бокал. – Но действительно, где же все остальные?
Хлопнула ставня узкого бокового окна, из-под лестницы, из буфетной, выскочила мадемуазель в сбившейся и несвежей, как показалось Маркевичу, наколке, стрелой перелетела гостиную, закрыла окно. Поправила наколку и снова исчезла в буфетной. На какую-нибудь минуту воцарилась тишина. Ульянов крутил головой, как будто впервые оказался в столовой, Лаврова рисовала пальцем круги по закусочной тарелке в надежде, что никто на неё не обращает внимания, её муж смотрел в одну точку и этой точкой была дверь. Маркевич поймал себя на мысли, что делает то же самое.
– Мы с вами сегодня ужинаем в приятной, но небольшой компании, – сказал доктор Веледницкий, входя. Скляров семенил за ним. – Господин Шубин решил, что ужины отныне ему вредны и ограничится молоком у себя в комнате. Я как мог агитировал Луизу Фёдоровну, но она была точно скала. Степан Сергеевич, а вы молодцом. После трапезы непременно ко мне, непременно. Владимир Ильич, рад вас видеть. Так нельзя: вчера не обедали, сегодня не обедали. Эдак у вас колит начнётся и придётся мне вас передавать в руки моего цюрихского коллеги доктора Шольца, будет вас просяным отваром лечить. Ну-с, сarpe angelum. В деревне нет прохода от газетчиков. Приехали не только из Лозанны и Женевы, но из Цюриха, а кто-то видел даже иностранного корреспондента. Да-с. Я лично отбился от троих буквально только что. Господа, я вас очень прошу по возможности воздержаться от общения с этой братией. Договорились? Вот и славно. От Глеба Григорьевича нет известий?
Надеждам Лаврова на продолжение гастрономической вакханалии сбыться было не суждено. Мадам вспомнила, что правит неврологическим санаторием и подала пустой бульон с гренком, припущенного мерлана и салат. Десерт, впрочем, грозил яблочным пирогом. Успех трапеза имела, кажется, только у всеядного Маркевича, да Веледницкий отдал должное стряпне своего дома с несколько преувеличенным энтузиазмом. Остальные вяло ковырялись в салате, Ульянов же и вовсе ограничился бульоном, после чего отодвинул чашку и принялся разглядывать стены столовой.
– Что же вы, Владимир Ильич? – спросил Скляров укоризненно, – нужно кушать.
– Я, простите, рыбу не ем.
– Ох, – растерялся Веледницкий, – кабы вы предупредили…
– Что так? – перебил доктора Лавров. – В ней, говорят, много полезного для умственной деятельности. А вы, как я понимаю, как раз ею и существуете.
– Совершенно верно. Да только не могу себя заставить. Зимой в Берлине отравился какой-то паршивою салакой, да так, что едва откачали. Привыкну, вероятно, снова когда-нибудь – а пока не могу.
– Отравиться в Берлине! – воскликнул Веледницкий. – Да это какое-то умопомрачительное невезение. Там чистейше готовят. Даже швейцарцам до них далеко. Минувшим Рождеством довелось попробовать там малосольную скумбрию – я вам доложу, такую скумбрию не стыдно царю-батюшке подавать, хотя зимою, говорят, рыбу есть невозможно. В «Регине». Прекрасная гостиница и прекрасный ресторан при ней. Жаль, Александра Ивановича более нет с нами… Он весьма нахваливал тамошний земляничный пирог. Совершенно божественный, так мне и сказал. Вернее, нет, прошу прощения. Более образно выразился. «Точно боги пекли». Бедный Александр Иванович… Впрочем, божественные установления давно уже надобно отринуть, что бы там ни писал почтенный Борис Георгиевич в своей прекрасной повести «Завещание Феба», а равно и не менее блистательном рассказе «Как умирал протопоп». Человек должен быть равен богам хотя бы в части доступных для него радостей. А вы взяли да отравились!
– Однако же отравился. Равен богам, говорите? Ну да, ну да. А самое занятное знаете что? – Ульянов вдруг оживился. – Я по паспорту значился финном. А в графе «Род занятий» написано – «повар». И доктор-американец – а потому американец, что жена моя была записана американкой – всё никак не мог взять в толк, как это: повар – и вдруг отравился. Подозревать что-то начал, подлец, заломил сорок марок, да и не помог ничем.
– Каково это – жить по поддельному паспорту? – Лаврова в первый раз с начала обеда подняла от еды глаза, скрыть недавние слёзы в которых не смогли бы никакие косметики. Новый сосед наконец-то её заинтересовал.
Ульянов пожал плечами.
– Да точно так же, как по настоящему. Всё это лишь условности современного буржуазного миропорядка. Все паспорты, конечно, в будущем будут отменены.
– Вы так думаете? – прищурился Лавров. – Нет, по первому пункту у меня возражений нет. Я живал, пусть и не очень долго. Какая разница, поддельный или настоящий, лишь бы полиции нравился. А вот относительно того, что в будущем паспорты отменят – позволю себе усомниться. Никакое государство на наших русских просторах без паспортов существовать не сможет.
– Чушь! – фыркнул Ульянов. – Благоглупости. Мы, социал-демократы, требуем для народа полной свободы передвижения и промыслов. А что это значит? Это значит, что в России должны быть уничтожены паспорты, коль скоро в других государствах давно уже их нет. Чтобы ни один урядник, ни один земской начальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где угодно. Русский мужик настолько ещё закрепощён чиновником, что не может свободно перевестись в город, не может свободно уйти на новые земли. Какой-то министр распоряжается, чтобы губернаторы не допускали самовольных переселений: губернатор лучше мужика знает, куда мужику идти! Мужик – дитя малое, без начальства и двинуться не смеет! Разве это не крепостная зависимость? Разве это не надругательство над народом?
– К тому же, Борис Георгиевич, – вмешался Маркевич, – целью революции является примат гражданских свобод, в коих никаким паспортам места нет и быть не может.
– Ну-ну, товарищ Маркевич, вы тоже не перегибайте, – добродушно сказал Ульянов. Он вдруг потянулся к хлебной корзинке и схватил последний ломоть серого, который, впрочем, не съел, а аккуратно уложил на пирожковую тарелку. – Целью революции является освобождение пролетариата от его нынешнего ничтожного состояния. Гражданские, как вы выразились, свободы есть лишь набор инструментов для достижения этой цели и последующего удержания пролетариатом власти. Ежели вам нужно вбить гвоздь, вы берете в руку молоток, а клещи откладываете, так как сейчас они вам совершенно не нужны. Нельзя пользоваться всеми инструментами одновременно. Это э-се-ров-щи-на.
Маркевич посмотрел на Лаврову и понял, что не ошибается: глаза её вновь стали набухать влагой, но в целом держалась она хорошо.
– Вот вы мне давеча на прогулке говорили о советах, – сказал Лавров, не обращая внимания ни на жену, ни на поданный мадам пирог. («Ого, они уже гуляют вместе», – подумал Маркевич.) – Что ж, я согласен, что свою роль они в революции сыграли и роль сугубо положительную. Но я своими глазами видел удостоверение члена Совета. Оно, правда, было на обёрточной бумаге, но всё как полагается, подпись какого-то Хрусталёва, печать из сажи. Что это как не паспорт?
– Вам нужно больше читать, – вздохнул Ульянов. – Я вам это уже говорил. Марксистские взгляды на природу государства прекрасно описаны Энгельсом. Ничего додумывать не нужно. Как только государство становится подлинно народным – то есть после революции, – оно одновременно и перестаёт быть государством в том смысле, который мы вкладываем в этом слово. Со всеми его атрибутами, включая паспорта. Вместо управления людьми будет управление производственными процессами. Но регистрировать рождения, смерти и браки никакой пролетарьят не перестанет. И ваша бумажка с печатью останется – только она не будет обладать никакой силой, кроме как удостоверяющей. Странно, что приходится объяснять такие элементарные вещи. Читайте Маркса, читайте Энгельса – там всё есть.
– Я читал Энгельса, – сказал Лавров. – Особенно мне понравились его рассуждения о преступности. Дескать, преступность – это выражение негодования рабочего класса против эксплоатации, а причины её – в капиталистическом способе производства.
– Это написано более шестидесяти лет назад, – сердито сказал Ульянов. – Энгельсу было двадцать пять лет. Он не пророк, он мыслитель, и как всякий подлинный мыслитель, разумеется, обладал большим потенциалом саморазвития. И если что-то и кажется нам сейчас наивным, то только потому, что мы обладаем большими знаниями и пониманиями – в том числе и благодаря Энгельсу. Кроме того, наивность – не грех, а повод к тому самому саморазвитию. Энгельсами, знаете ли, не рождаются.
– И тем не менее впоследствии он ни разу этот свой тезис не опроверг, кажется.
– Ну не опроверг и не опроверг. Уголовная преступность – дело десятое. Она не исчезнет, пока не будет покончено с капитализмом, вот что важно. Она не исчезнет и немедленно после падения капитализма, но уж во всяком случае из всех его родимых пятен это будет сведено быстрее прочих. И вообще, что вы прицепились к преступности?
– Ну как же, – губы Лаврова тронуло некое подобие ухмылки, – мы всё-таки с вами сейчас некоторым образом на месте преступления. Смерть, так сказать, таится за левым плечом. Которую Антонин Васильевич предлагает отринуть вкупе с богами.
– Ах да, я и забыл. Что же, Антонин Васильевич, как там полиция? Придумала нового кандидата в убийцы, коль скоро товарищ Тер-Мелкумов оказался ни при чём?
– Представления не имею, – вздохнул Веледницкий. – Инспектор так и не показывается. Возможно, он вообще в Эгль уехал. Или ждёт судебного следователя, без него тело Льва Корнильевича никуда отправлять нельзя. Боюсь одного.
– Чего же? – спросил Ульянов.
– Что теперь главным подозреваемым станет Глеб Григорьевич. Уж больно некстати его исчезновение. Лучшей persona suspecta не доищешься…
– Как вы можете! – Лаврова почти крикнула, и муж, наконец, обернулся к ней:
– Ну будет, будет, дорогая.
– Это невыносимо, – всхлипнула она. Лавров положил свою руку на её и она мгновенно, как ребёнок, успокоилась.
Ульянов посмотрел на них испытующе, но кроме Маркевича никто не обратил на это ни малейшего внимания.
– Мбда. Ну-с, благодарю. Я совершенно сыт, разрешите откланяться – ждут дела. – И к вящему ужасу не только доктора Веледницкого, но и остальных присутствующих злостный нарушитель церемониала встал из-за стола и двинулся к выходу. – «Рахиль, ты мне дана Небесным Провиденьем, ревниво я хранил младую жизнь твою»… Степан Сергеевич, вы заглянете ко мне, как покончите с вашим пирогом? Буквально на пару минут.
«Он принципиально не употребляет отрицательных оборотов. Не “вы не зайдёте?”, а “вы зайдёте?”. Убеждённость, граничащая с самоуверенностью».
– Мне уже Антонин Васильевич назначил, Владимир Ильич.
– Ничего-ничего, – живо отозвался Веледницкий. – Осмотрю вас чуть позже. Я же и так вижу, что вы в относительном порядке.
* * *
– Рукопись захватить не догадались? – Ульянов не отрывался от листа бумаги, почерк у него был убористый, но явно очень разборчивый.
– Рукопись? – удивился Маркевич.
– Да-да, рукопись. Вашей статьи для гранатовского словаря. Я бы ознакомился.
– Не припоминаю, чтобы я вам о ней говорил, – растерянно сказал Маркевич.
– И не говорили. Да и что она у вас здесь, с собой, я, признаться, тоже в точности не знал, скорее догадался. А вот что вам такая статья заказана, знал точно.
– Откуда же?
– А её сперва Трупчинский мне заказал. Специально в Финляндию приезжал, представляете? Да только я Корвином, как я уже говорил, решительно не интересуюсь, потому и отказался. Хотя деньги предлагали хорошие, триста пятьдесят рублей.
– Двести пятьдесят.
– Ну так это вам. Ну так вот-с, а когда я отказался, меня спросили, кто сможет такую работу, по моему мнению, выполнить. Я и назвал вас. Вернее, Шанцера, Бермана и вас. Что же вы? Несите, батенька, несите.
– Благодарю, – сказал он три минуты спустя, убирая принесённую Маркевичем стопку листов в ящик стола, – прочту позже. А теперь вернёмся к нашим делам. Во-первых, вы действительно себя хорошо чувствуете?
– Да-да, спасибо, вполне сносно, – Маркевич, не дожидаясь приглашения, оседлал второй стул, заметив, что, в отличие от его комнаты, у Ульянова их было целых три.
– Это прекрасно. Это просто замечательно, – он отодвинул рукопись, на сей раз свою, и вновь принял излюбленную позу. И словно продолжая мысль, несомненно вертевшуюся у него в голове, продолжил. – Нет, вы только посмотрите на него. Тоже мне, граф Толстой. Из сажевой печати целую философию развёл. А ведь Энгельса-то он не читал! Да-с, не читал. Разве что статью в энциклопедии или чей-то пересказ. И как писатель говно полное. Вы не согласны со мной?
– Да как вам сказать, Владимир Ильич. Я не принадлежу к числу яростных поклонников литературных талантов господина Лаврова. Но ему не откажешь в известной наблюдательности… как писательской, так и нет.
– Что вы имеете в виду? – сощурился Ульянов.
– Видите ли, Владимир Ильич, у меня есть некоторые основания полагать, что Лавров – и есть тот провокатор, которого искал Тер.
– Что-что? – Ленин наклонился к Маркевичу, а потом вдруг захохотал так, что Степан Сергеевич отпрянул.
Смеялся Ульянов никак не менее секунд пятнадцати.
– Ну, батенька, – наконец выдавил он, глотая слезы и утирая тыльной стороной ладони повлажневшие глаза, – ну повеселили. Вот этот напомаженный приятель Чернова – провокатор? Да ни один Трусевич, ни один Макаров не станет иметь с ним дела! Он же болтун, петрушка, несерьёзный человек. Да и зачем Лаврову всё это, скажите на милость? Идейности в нём нуль. В деньгах не нуждается. Шантажировать? Чем? Теми мелкими поручениями, которые он, по слухам, исполняет время от времени? Во-первых, это ещё доказать надо, а во-вторых, ну чем Лаврову в самом плохом случае это грозит? Ну вышлют в Сызрань. На год. А скандал будет неслыханный и вовсе не на год: знаменитого литератора взяли в оборот! Очень это нужно нашему эм-вэ-дэ. Да и потом, запомните: охранка не ищет провокаторов среди наших попутчиков. Они ей не интересны. Охранке нужны люди, владеющие партийными тайнами, вхожие в дома вождей революции, руководители местных организаций, теоретики, финансисты, агитаторы, в идеале – члены ЦК. Вот такие люди могут принести им максимальную пользу, а нам – нанести максимальный вред. Именно такого человека искал Тер. А не сочинителя эсеровских пасторалей про деревню Рыгаловку.
«Как он убедительно прост. Действительно, стоило бы мне сложить два и два, чтобы прийти ровно к таким же выводам. Но поспорить хотя бы для видимости я должен».
– Я бы согласился с вами, Владимир Ильич – вернее, я соглашусь с вами насчёт конкретно Лаврова. Но нельзя не признать влияния характера человека на его поведение – и на его, если угодно, мотивации. Человек замкнутый ведёт себя иначе, чем весельчак – и иначе поступает. Лавров со своим нарочитым эпикурейством…
– Как-как вы сказали? – перебил его Ульянов. Он перегнулся через стол и несколько секунд внимательно смотрел на Маркевича, словно тот сказал что-то очень важное и интересное. – Эпикурейством? Вы считаете Лаврова эпикурейцем?
– Да, – несколько растерянно сказал Маркевич, – разумеется, не в смысле философском, я не думаю, что Лавров придерживается каких-то конкретных философских взглядов. Но в смысле переносном, так сказать, бытовом…
– Никогда не употребляйте терминов, значения которых вы не до конца понимаете, – строго сказал Ульянов. – Ни в философическом смысле, ни в бытовом. Ежели вы считаете Лаврова эпикурейцем, то значит, вы знаете об эпикурействе чуть менее, чем ни черта!
– Ну допустим, – обиделся Маркевич. – Однако же если мы спросим у десяти людей, знающих Лаврова, – и знающих, что такое эпикурейство, – девять из них назовут его именно так.
– Значит эти девятеро из десяти – дураки, – отрезал Ульянов. – Никогда не спешите встать в ряды дураков, даже если их подавляющее большинство. Лавров никакой не эпикуреец, и я вам сейчас докажу это за пять минут.
– Сделайте одолжение.
– …сделать это будет тем легче, – Ульянов на тон Маркевича не обращал ни малейшего внимания, – что в этом пансионе, как я заметил, словно на подбор собрались люди всех известных психологических типов, чьи названия принято выводить из эллинистической философии. То, что вы назвали «в бытовом значении», продемонстрировав прискорбное неумение чётко и ясно формулировать. Но для начала объясните мне, почему вы назвали Лаврова эпикурейцем?
Маркевич машинально прикусил губу, но все же ответил:
– Совершенно очевидно, что Лавров целиком сконцентрирован на собственной персоне. Он эгоист, но эгоист не мрачный, не замкнутый в себе, а открытый к наслаждениям. Его ничего не интересует кроме удовольствия, всё, что он делает – даже если помогает революционерам, о сочинительстве уж и не говорю, всё служит одной цели. Получению максимального удовольствия от жизни.
– Портрет хорош, – кивнул Ульянов, – но не полон. Мусью Лавров не просто ценит удовольствия. Он их аб-со-лю-ти-зи-ру-ет. Понимаете разницу? В то время как настоящие эпикурейцы рассматривают наслаждение жизнью лишь как инструмент в достижении главного – избавления от страха перед смертью и перед богами. Вспомните Филодема и его четыре принципа. Вижу, что не помните. А они довольно просты и легко запоминаются. Во-первых, не бойся зла: оно легко переносимо. Во-вторых, не бойся удовольствий: они легкодоступны. В-третьих, не бойся богов, а в-четвертых, не тревожься о смерти. Вот соль философии Эпикуровой! Ну и при чём же тут Лавров, который хоть и путается с эсерами, но одновременно и религиозен, и одержим страхом кончины? Доктор вон его рассказик помянул. Про попа. Мне жена его вслух читала. Это ж декадентщина в чистом виде, даром что дело происходит в Вологодской губернии.
– И как же вы в таком случае охарактеризуете его?
– Он последователь не Эпикура, а Аристиппа. Он гедонист. Заурядный, пошлый гедонист. Такие люди не способны на поступки даже ради достижения своей главной цели – наслаждения.
– Интересно, а кто же тогда здесь, по-вашему, эпикуреец?
– Конечно, доктор. Вспомните, как час назад он рассуждал о равенстве с богами? Вот вам второй признак эпикурейца. А его интерес к пище – любой, заметьте, самой заурядно приготовленной, – есть первый признак.
Маркевич почесал переносицу и улыбнулся:
– Что же, а, допустим, Фишер? Мне кажется, он стоик.
– Ох, ну что вы такое говорите? – Маркевичу показалось, что Ульянов даже расстроился. – Ну какой он стоик? Даже если подходить к этому вопросу с, как вы выражаетесь, «бытовой точки зрения», сиречь разбирать только этику. Стоицизм с уважением относится к культуре, он не только отрицает излишества (я так понимаю, именно из этой, безусловно, бросающейся в глаза особенности Фишера вы и причислили его к стоикам), но проповедует гармонию, осмысленный порядок, разумно и правильно устроенную жизнь. Если уж говорить о здешних обитателях, то стоиком был Тер – насколько я мог его узнать. Фишер же с его отрицанием любых условностей, с его аскетизмом, с его презрительным отношением ко всему прекрасному – помните, вы же сами мне рассказывали о том, как он ругал бранзулетки в родительском доме, – Фишер это типичный киник. Да, интересную вы заставили меня прочесть лекцию, Степан Сергеевич. Стоики, киники, гедонисты…
– Гедонисты с револьверами.
– Почему с револьверами?
– Потому что у Лаврова был револьвер. Даже два.
– Да что вы? И это единственное оружие в доме?
– Бог весть. Веледницкий и Лавров своё оружие сдали инспектору. У доктора – что-то вроде обреза, у Лаврова – «веблей-фосбери». Но у него было два револьвера – вернее, у него и у неё. Подарочный набор. Свой Лаврова якобы потеряла…
Маркевич осёкся, словно натолкнувшись на какую-то внезапно поразившую его мысль, но Ульянов этого, кажется, совершенно не заметил:
– Хорошие подарочки делает друг другу наша буржуазия! Но давайте закончим наше маленькое дело, а револьверы оставим полиции, это их ремесло. Я не собираюсь торчать тут вечность, более того: собираюсь в Женеву завтра, в крайнем случае – послезавтра. Я всё ещё намерен вас уговорить, но посвящать этому остаток жизни всё же не намерен. Скажите, ваше ослиное упрямство не прошло вместе с лихорадкой?
– Владимир Ильич, я уже говорил, что дело тут вовсе не в упрямстве, а в…
– Так-с. Всё ясно. Хорошо.
Он встал и подошёл к окну. «У него жилет сзади заштопан, и очень неумело. Дождь почти совсем перестал. Завтра все разъедутся. Тело Корвина увезут в Эгль или даже в Женеву, инспектор Целебан будет искать Фишера, а я буду искать правду».
Ульянов решительно обернулся:
– Вот что, дорогой товарищ Янский. Если я ничего не забыл и не перепутал, помимо этих ваших дурацких поисков истины, вас занимает и эта – не менее дурацкая – история с убийством Корвина?
– Теперь уже менее, признаться, – ответил Маркевич. – Невиновность Тера доказана – правда, без моего участия. Но тем не менее, пожалуй, что да, занимает. А что такое?
– А вот что. Я сейчас напишу вам записку и запечатаю её. Вы пообещаете, что не вскроете её до моего отъезда. После того как я уеду, можете вскрывать и показывать инспектору или кому сочтёте нужным. А потом – это вы мне тоже пообещаете – не позднее следующего вторника (это что у нас? одиннадцатое?), так вот, не позднее следующего вторника вы явитесь ко мне в Женеву, улица Марэше, 61. И явитесь с вещами и в полной готовности выполнить поручение партии.
– Что же будет в этой записке, которая должна так решительно поменять мои планы? – улыбнулся Маркевич.
– То, что вас так занимает. Имя человека, убившего Корвина[27]27
Сколько раз впоследствии – в Бостоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лексингтоне, словом, везде, куда заносила меня судьба, – я вспоминал этот разговор! Ленин обладал магнетической способностью менять судьбы не только империй, но и отдельных людей, причём даже тогда (а может быть, именно тогда), когда ни империи, ни люди этих изменений не желали и даже активно им противились.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































